Сорочье гнездо
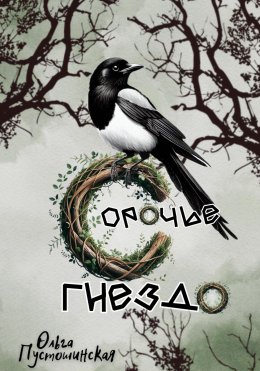
Глава 1
Рубаха у Прошки – заплатка на заплатке, но чистая, он сам стирает её с песочком у реки и сушит на горячем солнце. И штаны не лучше: короткие, латаные-перелатаные. Босые Прошкины ноги покрыты саднящими цыпками; сивые, давно не стриженные волосы торчат космами, лицо бледное и худое. Через плечо висит холщовая сумка, в которую Прошка складывает подаяние. Он бредёт, опираясь на палку, она требуется, чтобы отгонять собак.
Собак Прошка не любит и боится, они преследуют его в каждой деревне. Стоит одной шавке забрехать, как откуда ни возьмись прибегают ещё десять, набрасываются с остервенелым лаем. Если бы не крепкая палка, разорвали бы Прошку на куски.
Когда-то давно, полгода назад, он мог считать себя самым счастливым парнишкой во всём селе. Это Прошка понял только сейчас. И мамка и тятька у него были живы-здоровы, на полу возилась с тряпичными куклами сестрёнка; на столе исходили густым паром щи со сметаной и жирная каша в большой плошке. Под лавкой стояла пара крепких башмаков. И подумать Прошка не мог, что всё куда-то денется.
За лето не выпало ни капли дождя, посевы в полях погибли. Начался голод. Село стало тихим и хмурым: не бегала по улицам ребятня, не брехали цепные кобели, пропали голуби.
Доводилось Прошке обедать и лепёшками из лебеды, и хлебом пополам с соломой. Кое-кто из посёлка уехал по чугунке в сытые губернии: билеты голодающим давали бесплатно. Думали податься в чужие края и Прошкины родители, да мамка пожалела корову, не знала, что та скоро околеет от бескормицы.
Первой померла сестрёнка. Прошка заметил, что маленькие от голодухи мрут первыми. Мать с отцом ушли на тот свет не от голода – от заразы. Вот так это случилось: постучались в избу странники, пустите, дескать, переночевать.
– Ночуйте, – позволила мамка, – угощать нечем, сами голодаем.
Странники попили воды из ведра и устроились спать на лавке. Утром ушли, а через несколько дней отец с матерью слегли от тифа и больше не встали. Никто в селе этой страшной хворью не болел, стало быть, это странники принесли заразу. Тятька с мамкой лежали в могиле, а Прошка даже не кашлянул, лишь как скелет отощал.
Вскоре к нему наведался краснолицый усатый урядник и сказал, что Прошку заберут в приют. Тот почти не слушал, в голове помутилось от запаха хлеба, настоящего, сытного, духовитого. В кармане урядника лежал приличный кусище, Прошка почему-то ясно видел его через сукно шинели.
– У тебя родные есть?
– Я знаю только дядю Савелия, тятиного брата.
– Адрес у дяди какой?
Адреса Прошка не помнил. Отец говорил, что живёт Савелий далеко, в N-ской губернии.
Урядник крякнул.
– N-ская губерния большая. В приют тебя определим, а там видно будет. Отыщем дядю – значит, заберёт к себе. Государь наш Александр Александрович сирот не обижает, даёт призор и пропитание.
Прошка потянул носом и сглотнул слюну. Урядник замолчал на полуслове, засуетился, полез в карман.
– Вот, поешь.
Хлеб Прошка умял мгновенно. Успел почувствовать, как твёрдая кисловатая корочка царапнула нёбо.
Известие о приюте он выслушал с безразличием, даже не поинтересовался, далеко ли ехать. Дорогу Прошка плохо помнил. Телега тряслась, гремела колёсами по замёрзшей грязи, ползли мимо верстовые полосатые столбы.
– Угадай загадку, – повернулся урядник, – нем и глух, а счёт знает. Что это, а?
Прошке не хотелось отвечать, он спрятал нос в воротник тулупа.
Два раза они останавливались у трактира погреться чаем – и ехали дальше. Смутно Прошка представлял, что такое приют. Думал, он похож на церковь с высоченными сводами и куполами, а увидел обычный дом в помещичьей усадьбе. Ну, не совсем обычный – под железной крышей, большущий, битком набитый голодающей сельской ребятнёй. Самое главное, в приюте трижды в день кормили, и Прошка решил, что жить здесь можно, пока за ним не приедет дядя Савелий.
Прошла зима, потом весна – от родни не было ни слова. Верно, позабыл про него урядник, не разыскал дядю.
Прошка собрался с духом и подошёл к помещице Седякиной, управляющей приютом.
Она переспросила, глядя через стёклышки пенсне:
– Что? Конверт и бумагу тебе? Адрес дядин знаешь?
Он назвал губернию, дядину фамилию, имя-отчество, а село запамятовал. То ли Николаевка, то ли Покровка, то ли Петровка.
– Ну хорошо, я напишу и в Николаевку, и в Покровку.
– И в Петровку, – осмелел Прошка.
Он воображал, что дядя получит письмо и сразу приедет, ну или по крайности пришлёт ответ. Прошка подкарауливал почтальона, приносившего в поместье газеты и письма, потом бежал к Седякиной. Та перебирала конверты и качала головой: «К сожалению, от твоего дяди ничего».
Да жив ли он? Прошка ещё малым видел дядю, лет шесть назад, когда тот с женой приезжал на Пасху. Вдруг он умер, как тятька и мамка? По слухам, семнадцать губерний голодали. Потерять последнюю родную душу – это не по-божески, против всякой справедливости.
Тяжёлые мысли теснились в Прошкиной голове. Ребята, наевшись пшеничной каши с кукурузными лепёшками (говорили, что кукурузную муку везли морем из Америки), шалили, затевали игры. Прошка сторонился мальчишек. Он и раньше был смирным, а теперь стал точно забитым. Брал из библиотеки Седякиной книжку, садился в уголок и листал. Помещица за это любила Прошку, хвалила и называла «маленький книгочей».
Осенило его внезапно. Удивительно, как раньше он не докумекал о такой простой вещи. Кто лучше него сможет отыскать дядю? Верно, никто. Чужие люди здесь плохие помощники. Сядет Прошка на поезд и доедет до соседней губернии, а найти Савелия Горемыкина в Николаевке, Петровке или Покровке будет проще простого.
В котомку он сложил рубашку, тятькин пиджак и мамкину шаль, которые прихватил из дома. Пригодятся обменять на еду.
Приседая от страха, Прошка пробрался на кухню и взял хлеб, луковицу, несколько кусков заграничного сахара – что под руку попалось. Закинул сумку за спину и побежал прочь из поместья, боялся, что если начнёт раздумывать, то не сможет уйти, струсит. Прошку никто не остановил. Кто-то из ребят крикнул вслед: «Эй, сивый, куда побёг?» – но догонять поленился.
Станцию он нашёл по гудку паровоза. Тот свистел пронзительно и призывно, как бы говоря: «Я тут, малец, давай поторапливайся, коль хочешь успеть! Ждать не стану!» Раньше Прошка любовался громадными, дышащими жаром паровозами, когда прибегал с ребятами на станцию, а прокатиться ему ни разу не подфартило, да и некуда было ехать, по совести говоря.
На поезде до дяди Савелия он так и не добрался. Думал, раз голодающий – садись и кати куда хочешь, а железнодорожники стали требовать документ, спрашивать, с кем Прошка едет. Он испугался, что его, не разобравшись, снова отправят в приют, и выскочил на незнакомой станции.
Бедолага потерял счёт дням. Казалось, что он скитается целую вечность. Закончился хлеб и сахар, Прошка обменял на еду мамкину шаль, батькин пиджак и свою сменную рубаху.
В Покровке Савелия Горемыкина не знали.
– Нету такого у нас, никогда не слыхала, – покачала головой молодая баба в наглухо повязанном платке и поставила на землю полное ведро воды. Говорила она протяжно, будто пела.
Прошка надеялся на везение и огорчился до слёз, узнав, что дяди в селе нет.
– Родню ищешь? – посочувствовала молодуха.
– Дядю.
Он посмотрел, как играют на воде солнечные блики, и провёл языком по сухим губам. Достал из котомки кружку.
– Можно мне попить?
– Что ты, милый! Холера кругом, кипятить надыть.
Прошка захлопал глазами. Про холеру он ничего не слышал, пил любую воду, какая встречалась: из реки, ручья или колодца.
Добрая баба позвала его в избу, усадила за стол, Перед Прошкой появилась тарелка щей и кусок тёмного хлеба с лебедой.
– Попрошаек мно-ого ходит, – окала молодуха, – а мы что, сами почесть одну траву едим. Зимой чуть не померли, ну сейчас-то всяко полегше. Мериканскую пшеницу привезли, кукурузу, сахару… Тебя-то жалко, ить малой. Сколько тебе годов?
– Одиннадцать.
Баба удивилась:
– Вона как… А по виду – малой.
Он спросил дорогу до Петровки, до неё оказалось сто сорок вёрст – путь неблизкий, а с пустым животом в особенности. Два дня Прошка крепился, не решался протянуть руку за подаянием – это же так стыдно! У них в селе и в хорошие времена нищих не жаловали.
– Подайте ради Христа… – тянул Прошка, не поднимая глаз от земли.
Должно быть, его жалели. Подавали то корку хлеба, то кукурузную лепёшку, то кусок ржаного пирога с кашей. Где пешим ходом, где на попутных подводах добрался он до Петровки. Там тоже бушевала холера, мёртвых хоронили в общей могиле, не успевали копать отдельную для каждого усопшего.
Прошку охватила страшная тоска. Неизвестно откуда пришла уверенность: Савелия Горемыкина здесь нет и никогда не было, как и в Покровке. И что хуже всего – в Николаевке его тоже нет. С Прошкой бывало подобное и раньше. Как втемяшится ерундовая ерунда в голову – не выбьешь и палкой, а после оказывалось, что всё случалось как по писаному. И в этот раз так вышло: в Петровке Горемыкиных никто не знал. Ох, как сплоховал Прошка! Оставил сытую жизнь в приюте, теперь сгинет, помрёт от голода, как пёс подзаборный.
Он больше не совестился просить милостыню, голод притуплял всякий стыд. Мамка прежде всегда нищим подавала. Где-то в небесной книге у Бога записаны все её добрые дела, все кусочки хлеба учтены и все копейки, которые отрывала от себя мать. Кто знает, вдруг теперь этот хлеб возвращается к Прошке?
– Подайте Христа ра-ади… – постучал он в большой и богатый дом с высоким крыльцом.
Выглянула дородная баба с заплаканными глазами, одетая в чёрное, и сказала:
– Поминки у нас. Муж от холеры помер. Заходи, помянешь раба Божия Павла, от маленьких помин лучше доходит.
Прошка замялся. А ну как он заразится и заболеет? И одёрнул себя: не всё ли равно, от чего помирать, – от голода или от холеры.
Переступил порог, перекрестился на иконы. Огляделся: народу полный дом, батюшка в рясе сидит во главе стола. Прошка успокоился. Забормотал: «Царствие Небесное рабу Божьему Павлу» – и примостился на краешек лавки.
Обед по голодным временам был богатым и сытным: щи, каша, жаркое, блины. Батюшка благослови трапезу, но сам ни к чему на столе не прикасался.
Вдова заволновалась, пододвинула ближе тарелки.
– Отец Кирилл, вы совсем ничего не попробовали. Щец, каши?
– Нет, благодарствую, – скромно ответил батюшка.
Все принялись уговаривать его помянуть покойного. Вдова кланялась в ноги и просила со слезами съесть хотя бы блинчик. Отцу Кириллу, видно, стало неловко. Он поддался на уговоры и взял с тарелки блин. Все смотрели батюшке в рот, забыв про еду, в тишине было слышно, как в избе жужжала муха.
Когда последний кусочек блина был съеден, вдова и две взрослые дочери бросились батюшке в ноги, благодарили, целовали руки и полы рясы.
– Вот спасибо, отче, вовек не забудем!
– Полно, что я такое особенное сделал?
– Как же! Теперь у нас хвори не станет.
– Почему не станет? – удивился отец Кирилл.
– Мы тебе блин особый дали, чтобы хворь прогнать. Примета у нас есть: чтобы хвори не было, надо батюшке блин дать, который на лице у покойного день пролежал.
Отец Кирилл побледнел, поднялся из-за стола.
– Невежественные люди! В Бога веруете, а сами что творите?
– Но как же… примета верная!
Батюшка с досадой отмахнулся и вышел за дверь.
К блинам, пышным и румяным, Прошка не притронулся. Ну их.
Двенадцать вёрст до Николаевки он одолел из упрямства, брёл, уже ни на что не надеясь. Поинтересовался у курносой девчонки с корзиной рыжиков, где живут Горемыкины, и по её удивлённому лицу всё понял. Так и знал!
– Много грибов? – хмуро спросил Прошка. Рыжики можно навздеть на палочку и запечь на огне. Вкусно с хлебом, и никакого мяса не надо.
– Много. Мамка солит… Показать, где растут?
– Не надо, сам найду, – отвернулся Прошка.
– Эй! – окликнула курносая. – К заимке близко не подходи, там место плохое.
Он решил, что девчонка привирает. Поди, местечко там заветное. Жадничает, не хочет, чтобы её грибы обобрали.
Глава 2
Рыжики ищут под соснами, у Прошки в селе это любой ребёнок знает. Где сосна – там и рыжики, крепкие, коренастые, золотисто-оранжевые. Он разгребал хвою, обламывал грибы. На краях ножек сразу появлялся млечный сок. Пахли рыжики вкусно – смолой и яблоками, так бы и ел сырыми.
Поблизости звенели ребячьи голоса. Сельские мальчишки и девчонки бродили с корзинками, грибы собирали. Боясь, что его, чужака, побьют и прогонят, Прошка углубился в лес и вскоре остался один, только две любопытные сороки летели следом, перепархивали с ветки на ветку, трещали, должно быть ругались на своём птичьем языке или обсуждали Прошку.
– Кыш отсюда!
Он бросил в птиц сосновой шишкой – и не попал. Сороки не улетели, лишь перебрались на другое дерево и смотрели оттуда укоризненно, как Прошке показалось. Ему стало совестно: обидел божьих тварей ни за что.
На дне холщовой сумки, под рыжиками, лежала краюшка хлеба – милостынька, её дала с собой богатая вдова. Прошка отщипнул кусочек и бросил птицам. Те громко застрекотали, как будто засмеялись.
«Добр-р-рый пар-рнишка!» – сквозь трескотню послышалось Прошке. Он в изумлении вытаращил глаза. Что за чертовщина?
Одна из сорок спорхнула на усыпанную хвоей землю, подобрала хлеб.
– Хорошо вам. Кусочек съел – и брюхо полное. Избы не надо, на любом дереве жить можно, – позавидовал Прошка. Надел на плечи котомку, прихватил палку, с которой не расставался. Застрекотали, загомонили сороки, тяжело снялись с ветки и улетели, шумно хлопая крыльями.
Та избушка возникла перед ним внезапно. Лес раздвинулся, и Прошка увидел на поляне одинокий бревенчатый домик в три оконца, с соломенной крышей. И не заброшенный: вон серая лошадь к изгороди привязана, головой трясёт, слепней отгоняет. Лесная сторожка? Да ведь это заимка, о ней девчонка говорила! Она остерегала: «К заимке близко не подходи. Там место плохое», а Прошка подошёл, хоть и невольно.
Он разыскал и бросил в суму несколько красавцев рыжиков и повернул обратно, миновал озерцо, поваленное дерево. Скоро должно было появиться село, однако Прошка опять очутился у бревенчатой избушки, той же самой. Неужто леший его морочит?
Он бросился бежать от поганого места. Ветки хлестали по лицу, сучья цепляли волосы, котомка колотила по спине. Лишь раз остановился Прошка, чтобы передохнуть и отдышаться. Вот сейчас, сейчас будет Николаевка.
Мимо с пронзительным криком пролетела сорока, чуть не задела его крылом. Он отмахнулся: «Кыш, проклятая!» – и попятился: перед ним снова стояла изба под соломенной крышей. Сорока впорхнула в открытое круглое окно под коньком, похоже, на чердаке гнездо свила. Это к худу: всем известно, что сорока – птица дьявольская.
Скрипнула дверь. Прошка закрыл глаза ладонями, страшась, что на крыльцо выйдет раскосмаченная ведьма, а когда решился посмотреть в щёлочку между пальцев, увидел дебелую тётку в переднике. Обыкновенная нестарая ещё баба, хоть волосы сединой полоснуло. Надо дорогу спросить, чай, не откажет в ответе.
Прошка робко приблизился, поздоровался.
– Тётенька, до села как дойти? Я заплутал.
Та уставилась тёмными глазами, как будто ощупала.
– Ты чей? По говору слышу – не нашенский. На кой тебе в село?
– Заночевать там хотел.
– Дак у меня ночуй. Заходи в хату, отдохни. В Николаевке-то холера. – Говорила она певуче, кругленько, как-то по-особенному растягивая букву «о».
Прошка чуть не задал стрекача. Ох, не к добру это, нищих мало кто приглашает в дом. И баба на тело справная, небось, малых ребят заманивает в избу и ест.
– Я тебя не съем, – усмехнулась хозяйка, – гости к нам с Настёнкой редко захаживают.
Он подивился тому, что тётка угадала его мысли, и присмирел, услышав, что живёт она не одна. Настёнка – это, верно, дочка её.
Прошка поднялся на крыльцо, шагнул через порог и прошёл через чулан в просторную кухню. Пошарил глазами по стенам и, не найдя икон, перекрестился на пустой угол.
Кто-то фыркнул в кути1 у печки. Возле дощатой переборки с ситцевой занавеской стояла девка лет тринадцати, заплетала русую косу. Значит, это и есть Настёнка, хозяйкина дочка. А глядит-то как! Губу выпятила, нос сморщила, ровно гадость какую увидела.
– На кой тебе такой плюгавый, тётенька Клава? – насмешливо бросила Настёнка.
«Выходит, не дочка она ей», – смекнул Прошка.
Хозяйка сдвинула широкие чёрные брови:
– Не суйся куда не просят. Парнишка родовой, не чета тебе!
Прошка захлопал глазами, ничего не понимая, кроме того, что Клавдии он приглянулся, а Настёнке – нет.
– Заходи, гостенёк, скидай свою торбу да садись на лавку. В ногах правды нету. Звать тебя как?
– Прохором.
Он поочерёдно потёр голыми ступнями о штанины, чтобы не испачкать чистый пол, и на цыпочках прошёл к столу, тяжёлому, длинному, на большую семью.
Прямо из кухни на чердак вела крепкая лестница с широкими ступенями. За ситцевой занавеской угадывалась ещё комнатушка; в кути стояла деревянная кровать, надо думать, Настёнина.
От еды Прошка не отказался: кто знает, когда доведётся поесть в следующий раз? Настёнка напоказ села подальше, на другой конец стола, ела неохотно, больше ковыряла порезанную кружочками картошку, политую постным маслом. Ни хозяйка, ни Настёна перед едой не осенили себя крестом, это Прошка мысленно отметил.
Когда со стола было убрано, тётка Клавдия достала из шкафчика деревянную резную шкатулку, а из неё – старые карты, завёрнутые в кусок чёрной ткани, стала раскладывать их на столешнице, то и дело поглядывая на Прошку.
– Были у сорочонка мамка и тятька – сорока и сорок, – уловил он невнятное бормотание, – напала на сороку и сорока хворь, померли они. Полетел сорочонок своих искать…
Прошка обомлел. Да ведь тётка Клавдия про него всё рассказывает, для блезиру про сорок приплетает. Он-то всё-о понял, не дурной.
На стол шлёпнулась засаленная карта.
– Не сыскал сорочонок родню… Летел над топью и упал. Засосало его, топь к себе утянула. Бился-бился сорочонок, пока не помер.
Озноб по спине побежал у Прошки, волосы на затылке зашевелились, и примстилось ему, что шибает в нос болотная вонь. Он замотал головой, прогоняя наваждение. Лучше убраться отсюда подобру-поздорову!
Сполз Прошка с лавки, подхватил котомку.
– Спасибо за хлеб-соль. Пойду я, тётенька. В Николаевке заночую, у меня там дядя живёт.
– Обожди, шибко ты резвый. – Хозяйка взглядом пригвоздила его к полу. – Уйдёшь и сгинешь. А дядька твой помер.
– Откуда знаешь? – поднял глаза Прошка. – Обманываешь!
– Какой мне резон врать? – равнодушно отозвалась тётка Клавдия и смешала карты, бережно завернула в чёрную ткань.
Посмотрела в окно, за которым разливались сумерки, зевнула.
– Вот и дню конец… Остаёшься ночевать иль пойдёшь? Силком держать не стану.
Прошка промолчал, теребя лямку котомки.
– Коли остаёшься, лезь на подловку.
– Куда? – удивился он.
– На подловку, – тётка Клавдия указала на лестницу, – на чердак, говорю, полезай, там постелено.
Она не уговаривала. Хочешь – оставайся, не хочешь – иди. Да вот куда идти? Посветлу дороги не нашёл, потемну и вовсе заплутает.
Прошка вздохнул, поднялся по ступеням и очутился на подловке. Он ожидал увидеть заваленный зимними рамами и всякой рухлядью чердак, а оказался в прибранной комнате с крашеными полами, скошенным потолком и круглым окошком, задёрнутым белой занавеской. У стены стоял широкий топчан с покрывалом из лоскутков, маленький стол с керосиновой лампой и два табурета. Эх, важно! А Прошка решил, что сорока здесь гнездо свила. Нет тут никакой сороки. Как залетела, так и вылетела.
Он бросил сумку на топчан и высунулся в окно. Двор лежал перед ним как на ладони, за изгородью чернел лес, а вдалеке угадывались очертания белой колокольни. Вот где село, теперь он не ошибётся, не заблудится.
Прошка с удовольствием растянулся на топчане, будто дома на мамкиной перине. Было слышно, как переговариваются внизу Клавдия с Настёной, а о чём – не разобрать.
– Девка-то у хозяйки фордыбачистая, по всему видать. Невзлюбила меня за что-то, – вслух подумал он. – Ну да бог с ней, с этой Настькой. А тётка Клавдия ничего, добрая баба, девке спуску не даёт, окорачивает.
Рано утром Прошка проснулся от сорочьей трескотни. Над двором кружили две белобокие птицы, садились на горшки, торчавшие на кольях изгороди, вспархивали, перелетали на крышу, с крыши на крыльцо.
У Прошки в селе сорок не любили, и не только потому, что те воровали всё блестящее. Приметы не сулили ничего хорошего при встрече с сорокой. Залетела во двор – жди убытков, а если в сени заскочит – дом обворуют. Бабы болтали, что в сорок любят превращаться ведьмы. По рассказам, они залетали в сараи, оборачивались людьми и доили коров, чтобы малым детушкам молока не досталось. Соседки говорили, что если разорвать на себе рубашку, ведьма не сможет противиться, сбросит перья и покажет себя настоящую.
Хоть и плохонькая была у Прошки рубашка, да единственная. Жалко. Он на всякий случай намахнулся на птиц: «Кыш, воровки!» – и закрыл окошко.
Возле котомки с рыжиками вились мухи. Прошка ахнул, развязал верёвку. Грибы помялись и подсохли, лучше выкинуть их, чтобы не маяться после животом.
Едва он решил спуститься в кухню и попрощаться с хозяевами, как услышал, что по лестнице простучали босые ноги. На чердак забралась Настёна.
– Ш-ш-ш… – приложила она палец к губам, – молчи! Я к тебе, пока тётенька на дворе… Слушай, она тебя пытать станет, хочешь ли ты у неё остаться. Дак ты говори, что родню пойдёшь искать. Тогда она тебя отпустит.
– Как остаться? Насовсем? – изумился Прошка. – А почему нельзя?
Настёнка собралась было ответить, но что-то услышала внизу, округлила глаза и птичкой слетела с лестницы.
Прошка застыл с открытым ртом. Ну и ну, тётка Клавдия хочет оставить его! Может, работник ей нужен за лошадью ходить, за хозяйством присматривать, огород поливать. У неё всяко лучше, чем в приюте. Ещё добраться до него надобно и не протянуть ноги. Не больно-то весело с сумой по миру ходить. А Настёнка ревнует, заело её.
Он пригладил отросшие космы, прихватил котомку, спустился на кухню и там увидел хозяйку. Она занесла в дом кипящий самовар. Прошка церемонно поблагодарил за ночлег, поклонился, а сам всё заглядывал в глаза тётке Клавдии: остановит она его или нет?
– Обожди, куда бежишь? Рукомойник на стене, утиральник на гвозде. Умывайся и садись с нами чай пить.
Угощение было хорошим: высокая стопка горячих румяных блинов на блюде, кринка кислого молока.
Хозяйка подвинула ему плошку с растопленным скоромным маслом:
– Бери, в масло обмакивай и ешь.
Прошка заметил, как по столу резво побежал таракан, и безотчётно прихлопнул его ладонью.
– Вот пакость! – закричала тётка Клавдия, гневно посмотрела на Настёнку и отвесила ей звонкую затрещину. – Дура непутёвая, ума с горошину! – продолжала греметь хозяйка. – Сроду у меня прусаков не было, ты на кой эту дрянь в хату притащила?!
От Настёниной заносчивости не осталось и следа, она сжалась и пролепетала:
– У нас бают, что тараканы – к деньгам. Бабка Дарья всем даёт, у кого нету.
Тётка Клавдия пристукнула чашкой о блюдце и ещё больше рассердилась:
– «К деньгам»… Гля, экая дура! Разута-раздета? Жрать нечего? Другие от голода мёрли, а ты хлеб аржаной без счёту и пироги белые трескала! Чтоб вывела мне эту дрянь! Чтоб ни одного прусака я не видела! – Она успокоилась и совсем другим, подобревшим голосом сказала Прошке: – Матки и батьки у тебя нету, дядя помер – карты мне открыли, а оне не врут.
Прошка оробел.
– У дяди есть жена, тётя Ксеня.
– На кой ты ей? – отмахнулась хозяйка. – У ней вон своих ребят трое, мается с ими одна. Накормит тебя, полтину сунет: «Ступай в приют, там за тобой пригляд будет, а мне деток без мужа подымать».
– И что же мне делать? – пригорюнился Прошка.
– Хочешь, дак оставайся у меня насовсем. У меня хозяйство: позьмо, огород, лошадь, качки да клушки с кочетом. Будешь работать, я буду тебя кормить, одевать. И научу всему, что сама умею.
Прошка чуть улыбнулся:
– Ткать и прясть?
– Ну! Это бабья работа… Для тебя учение будет сурьёзное.
Тётка Клавдия была совсем не похожа на учителку. Уж не на картах ли гадать она учить хочет?
– Догадливый! – похвалила тётка Клавдия. – Родовой, не обозналась я. Волос белый, глаз чёрный… Ну что, остаёшься?
Он посмотрел на Настёну – та сидела ни жива ни мертва: глазищи голубые по пятаку, губу закусила.
– А драться не будешь?
– И пальцем тебя не трону, – пообещала тётка Клавдия.
– Тогда я останусь, – после недолгого раздумья проговорил Прошка.
Что-то грохнуло, ему показалось – гром, но это вскочила Настёна, перевернув табурет, кинулась в закуток и там зашвыркала носом.
Тётка Клавдия сказала раздражённо:
– Вот дурная девка, кукла с глазами! Полно реветь, иди курей выпусти да покорми. Курятник почисть.
– Я могу… – жалея Настёну, подал голос Прошка.
– А ты сегодня отдыхай. Погуляй, осмотрись. В первый день я работать не заставляю. Да обожди, сейчас я тебе одёжу дам, хорошо, что припасла. Срамота, в рванине ходишь.
Хозяйка ворковала, голос её был ласковым и мягким. Она ушла за занавеску и вернулась с новёхонькими штанами и белой домотканой косовороткой.
– На-кась, примерь. Вот ишшо куплю тебе обутку, будешь щеголять не хуже барского сынка.
Прошка надел обновки, закатал великоватые штаны. Благодать, живи – не тужи!
Глава 3
Экая уймища времени свалилась на Прошку! Работать не надо, клянчить кусочки под окнами не надо. Он побродил по двору, заглянул в курятник, где Настёна, всхлипывая, собирала яйца в лукошко. Она подняла мокрое лицо, сердито утёрлась ладонью.
– Что, рад?
– Рад.
– Катись отсюда, не то всего исцарапаю.
– Чего фордыбачишься? – миролюбиво спросил Прошка. – Я с тобой лаяться не хочу. Давай помогу курятник почистить.
– Эт-та ишшо что? – Тётка Клавдия неожиданно выросла за спиной. – Мой дом – мой указ. Как сказала – так и делай. Велено тебе отдыхать и гулять, стало быть, иди и барствуй.
Настёна выпустила из сарайчика белых уток – качек, как называла их тётка Клавдия. Они с кряканьем засеменили по тропинке к озеру, Прошка побежал следом.
Озерцо его заворожило. Безлюдное и тихое, оно разлилось меж берегов как будто не для всех, а для одной тётки Клавдии. Ради неё были построены деревянные мостки для полоскания белья, только её утки здесь плавали и ныряли.
«Тут, верно, рыбы тьма, – обрадовался он, заметив расплывающиеся по воде круги, – натаскать бы карасей на жарево!» Дома Прошка все тёплые дни проводил на реке, ловил сазанов, судаков, лещей и щук. Везло ему на рыбу, наверно, был он фартовым парнишкой. И сейчас Прошка непременно принёс бы хоть десяток окуней и карасей, да откуда у хозяйки взяться рыбацким снастям, это у бабы-то?
Как ни странно, удочка у тётки Клавдии нашлась, хоть и плохонькая, короткая. Он распутал леску, накопал в огороде червей и побежал на озеро.
Устроился Прошка на мостках, насадил на крючок червя, поплевал на него и прошептал слова, которым его научил батя: «Червячок, червячок, лови рыбу на крючок!» Почти сразу заклевало. Прошка вытягивал карасей и подрагивающими от нетерпения и радости руками нацеплял на прутик. Жареные в масле караси – царская пища!
Солнце припекало, щекотало голую шею. Он решил искупаться. Мигом разделся и нагишом сиганул с мостков, подняв тучу брызг. Долго плескался в тёплой воде, после обсыхал и нежился на берегу.
«Богатая, видать, баба эта тётя Клавдия, – думал Прошка с ленцой, – у других ни курей, ни гусей, никакой скотины в голодуху не осталось, а новую поди-ка купи! А у неё есть…»
Он отнёс карасей Настёне и решил сбегать в Николаевку. Теперь не заблудится, хорошо запомнил, в какой стороне село. Да и трудно было заплутать: в церкви благовестили, из-за леса плыл колокольный звон, будто ниточку невидимую протянул Прошке. Мысленно держась за неё, он вскоре вышел на тропу и очутился подле села.
Жаль, не нашлось у Прошки копейки на свечку, поставил бы в благодарность Богу за полный живот, за новые штаны и рубашку. Ну да ничего, перепадёт ему когда-нибудь монетка.
В тот вечер тётка Клавдия затопила баню. Прошка нахлестал себя берёзовым веником, натёрся до скрипа мочалкой. Укладываясь спать на чердаке, он услышал негромкий разговор. Голос был чужим, бабьим.
Сон отлетел. Прошка тихонько, как мышь, подкрался к лазу и затаился. Со своего места он никого не видел, зато слышал преотлично и тётку Клавдию, и ту, другую.
– Тридцать шесть братьев и сестриц, бесов и бесовиц, – приговаривала хозяйка, – мне всю правду расскажите, все тайны покажите. Да будет так!
Она гадала – раздавались шлепки карт по столу. Прошка перестал дышать.
– Эт-та кто там уши навострил?! – возвысила голос тётка Клавдия.
Он не шевельнулся. Это не ему, это, поди, а Настёне.
– Тебе говорю, Пронька, спать иди!
Тот, недоумевая, что тётка Клавдия видит в такой темноте, лёг в постель, и сморило его, как в чёрный омут нырнул.
Хозяйка говорила, что гости к ним с Настёной заглядывают редко, однако каждый вечер раздавался стук в дверь и слышались робкие незнакомые голоса. Прошке было страсть любопытно, как гадает тётка Клавдия, что говорит. И удивительное дело: едва он настраивался подслушать, сон валил его с ног.
На Прошку хозяйка не сердилась, а он всё равно её побаивался, особенно когда та пристально смотрела, точно обшаривала глазами. Чувствовал он, как встают дыбом волоски на коже и в груди что-то сжимается.
Прошка как-то полюбопытствовал, спросил у Настёны, где её родители и кем доводится ей хозяйка – родня или чужая? Она окинула его презрительным взглядом, буркнула: «Отчепись» – и отвернулась.
– Ну, не хочешь – не говори, – вздохнул он.
Иногда тётка Клавдия поручала Прошке сходить в село и забрать паёк, купить в лавке керосин, мыло или соли. Он чисто одевался, обувал новые башмаки и бежал в село, старательно исполнял всё, что требовалось.
Как-то раз Прошка замешкался в дверях лавки, проверяя сдачу, – а вдруг обсчитали? – и услышал, как незнакомая баба спросила у лавочницы: что, мол, за мальчонка здесь бегает.
Та ответила шёпотом:
– А ты не видала? Шатался по улице, побирался. Клавка к себе сманила.
Изумиться бы покупательнице доброте тётки Клавдии, но она разохалась:
– Ох-ох… Бедный парнишка! Из хомута да в шлейку!
Почему она его пожалела? Прошке живётся хорошо. Не бог весть какую работу его заставляют делать: сходить за водой к роднику, почистить курятник и стойло, задать кобыле Вербе овса, прополоть и полить грядки – тьфу, ерунда! А за это дают крышу над головой, кормят и одевают во всё новое, сроду такого Прошка не нашивал. Он решил, что баба из лавки – завидущая сплетница, но всё же слова про хомут и шлейку не выходили из головы.
– Ты чего квёлый? – спросила тётка Клавдия за обедом.
– Ничего…
– Ничего? Да будет врать-то.
Прошка, пряча глаза, передал подслушанный в лавке разговор. Он думал, что хозяйка рассердится, побагровеет, отшвырнёт ложку, но она рассмеялась.
– Им бы токмо языком молоть. Как припечёт, куда оне бегут? К Клавке бегут! Дорожку-то проторили, не зарастает! Что за баба? Чернявая такая, с бородавкой на щеке? Знаю, знаю… Татьяна это. Пожалела она, жалистная какая… Себя пусть жалеет!
Она помолчала минутку и вдруг спросила:
– По деревьям лазить умеешь, Пронька?
– Ещё как умею! – похвалился тот.
Тётка Клавдия велела после обеда сходить в лес, поискать старые сорочьи гнезда, и если попадутся в них какие-нибудь вещицы, то принести ей.
Он поразился хозяйкиной догадливости. Кабы Прошка сам сообразил, не стал бы с сумой ходить. Известно, какие сороки воровки. Оставит, скажем, баба кольцо золотое на окне, лежит оно, сверкает на солнышке. А сорока тут как тут, хвать – и улетела.
Старых гнёзд Прошка обнаружил с десяток, лохматых, больших, с навесами. Не ко всем он сумел подобраться, на тонкие деревья побоялся лезть: а ну как ветка обломится?
Нетерпеливой рукой шарил Прошка в чашах с замурованными землёй и глиной прутиками и удивлялся: нет у сорок пальцев, одним клювом такие гнёзда делают, какие Прошке и руками непросто будет соорудить.
В одном он нашёл железную гайку, спрятал в карман: пригодится для грузила; в другом – круглую серьгу с зелёным камешком, то ли золотую, то ли латунную.
– Драгоценная? – спросил он у хозяйки, когда прибежал на заимку с добычей.
Тётка Клавдия повертела серьгу, протёрла камешек передником.
– Самоварное золото… Это всё, больше ничего нет?
– Гайка вот ещё.
Она забрала и серьгу, и гайку, к недоумению Прошки.
У хозяйки разболелись ноги. Она натёрла их вонючей мазью, легла у себя в спаленке на кровати, покряхтывала.
– Думала в Петровку к горшелю ехать, да не смогу. Запрягай кобылу, Пронька, и поезжай. Купи корчагу, балакирь и кашник. Настёнка, поганка такая, разбила надысь кашник в черяпки. Денежки на-кась… Обожди, вот ишо что.
Тётка Клавдия подала кисет, в каких мужики обычно табак держат.
– У горшеля третьего дня баня сгорела, я слыхала. Ты принеси мне угольки, чтоб никто не видал. В мешочек положи, – велела она и прибавила, заметив изумление Прошки: – Для гадания мне надоть.
Тот повеселел: поехать на лошади за двенадцать вёрст, да ещё и одному, без взрослых, – важно! Он тщательно запряг Вербу в телегу, вывел за ворота и покатил, восторженно глазея по сторонам. И небо казалось ему голубее обычного, и листва зеленее, а может, именно так и было после ночного дождя.
Верба бежала весело, вот и Николаевка сталась позади. На развилке Прошка нагнал незнакомую бабу с девчонкой и великодушно предложил подвести. Понукал без надобности лошадь, чтобы показать чужим, какой он большой, почти парень.
В Петровке – вот нечаянность-то! – Прошка повстречал батюшку, которому глупая вдова скормила особенный блин, и от сердца отлегло: жив-здоров отче, не заболел, не помер от холеры. Прошка натянул вожжи, попросил благословения у батюшки и узнал заодно, где дом горшеля.
Гончарный круг стоял прямо во дворе под навесом, и Прошка мог любоваться редкостным зрелищем, как из неприглядного комка глины получается кринка, гладкая, крутобокая, блестящая.
Он выбрал несколько горшков. Постучал пальцем, послушал, как они гудят, ровно колокола, расплатился и, весьма довольный собой, сложил покупки на солому. И тут вспомнил про угольки.
Сморщился, застонал, схватился за живот.
– Брюхо болит? – посочувствовал хозяин. – Отхожее место вон там, на огороде.
Прошка закрылся ненадолго в дощатом домике, потом пробрался к сгоревшей бане и набрал угольков.
Важничая перед сельскими ребятами, он чмокнул Вербе. Загремела телега по пыльной дороге.
Горшки тётке Клавдии понравились, похвалила: «Умеешь выбирать!» Мешочек она развязала, понюхала, растёрла пальцами уголёк в пыль и одобрительно улыбнулась.
– В самый раз уголёк… Позови, Пронька, Настёну. Где она, во дворе?
Настёна укладывала дрова в поленницу. Услышала Прошку, отряхнула передник от сора и вошла в избу.
Тётка Клавдия стала вдруг очень ласковой. Принялась оглаживать Настёну по спине и плечам, говорить, какая она красивая, умелая и послушная девка. Та застеснялась, покраснела, знать, никогда таких слов от хозяйки не слышала.
– На-кась, возьми на орехи. А теперь ступай, ступай работать.
Настёна ушла, зажав в кулаке пятачок. Прошка видел, как она быстро и весело носила дрова целыми охапками, потом начала потирать поясницу и прихрамывать.
К вечеру Настёна расхворалась, прилегла в кути, а тётка Клавдия – вот чудеса! – взбодрилась, ожила. Взялась топить баню, приговаривая, что пар и берёзовый веник всю хворь выгонят.
В один из дней Настёна после утреннего чая перемыла посуду, повозилась у рукомойника и прошмыгнула в куть. Вышла оттуда принаряженной, в новом красном сарафане, с бусами на шее.
– Куда это? Ишь, буски нацепила. Иль работы нету? – недовольно покосилась хозяйка.
Настёна вспыхнула и стала красной, как сарафан.
– Можно проведать своих? Я скоронько.
По тому, как она понизила голос, Прошка понял, что говорить ей об этом тяжело.
– Своих… А я тебе кто, чужая? – посуровела тётка Клавдия.
– Тоже… своя, – едва выдавила Настёнка.
– Кукла с глазами… Ладно уж, иди.
Та, радостная, выскочила за порог. Прошка колебался всего секунду.
– Тётенька Клавдия, а можно и мне? В лавку семечек обещали привезти.
Она отпустила сразу. Наказала переодеться в чистое, чтобы злые языки не болтали, будто на заимке сироту в чёрном теле держат. Прошка мигом взлетел на чердак, проворно скинул старую одежду и надел новую. Он думал догнать Настёну у озера, дальше пойти вместе и расспросить про «своих». Неужто есть у ней мать и отец? Небось, подобреет привереда на радостях-то, перестанет шипеть и кривить губы.
К его замешательству, Настёнки на тропе не было, не виднелся среди деревьев красный сарафан. Прошка припустил во все лопатки и одним духом добежал до Николаевки. Все глаза промозолил, а Настёны не заметил. Купил в лавке стакан прелых семечек и побрёл назад.
Настёнино «скоронько» растянулось до поздних сумерек. Тётка Клавдия с ворчанием сама принялась замешивать тесто на хлеб в кадке – деже.
– Тётенька, а Настёна к мамке пошла? – спросил Прошка.
– Тебе что за интерес? – отозвалась из кути хозяйка. – Матки нету у ней, померла давно уж. Батька остался, мачеха да двое ребят от неё.
Прошка узнал, что мачеха Настёну не любит, отец у неё пьяница-распьяница, да и буйный к тому же. Налакается винища и крушит всё, ни одной целой кринки и горшка не оставит, всё разобьёт до «черяпков». Мачеха с ребятами у соседей пережидает, пока мужик её не свалится замертво. Настёна приблудилась на заимку год назад и осталась, тётка Клавдия давно хотела помощницу. А мачеха сказала: «Девка взрослая, замуж скоро выдавать. Пущай поработает за харчи».
У Прошки к глазам подступили слёзы.
– Ты её пожалела? – спросил он с дрожью в голосе.
– Я вообще не жалистная. – Хозяйка отряхнула от муки руки. – Людей не люблю, а баб особенно. Ну, неча болтать, ступай на подловку. А эту куклу с глазами я проучу.
Прошка поднялся на чердак. Постоял у открытого оконца, таращась в темноту. Страшно небось в лесу, волки там воют, совы кричат жутко, ажно мурашки по спине бегают.
Он зажёг лампу и собрался было полистать найденные у тётки Клавы старые-престарые журналы «Русскiй Вѣстникъ», которыми она поджигала дрова для плиты. Прошка увидел и выпросил для себя. Никаких других книг у хозяйки не водилось, а к чтению его тянуло, как голодного к хлебу.
За окном зашуршало, зацарапалось. Он обернулся и увидел сороку. Она уцепилась лапами за оконную раму, разевала чёрный клюв, точно пугала.
– Кыш, окаянная! – взвился Прошка. И вдруг поперхнулся криком, отшатнулся: на тёмной сорочьей грудке краснели Настёнины стеклянные бусы.
Не помня себя, он рванул за воротник старую рубаху, разодрал её до пояса. Сорока завертелась, застрекотала и, не удержавшись, свалилась на разостланную полосушку. Чёрные и белые перья закружили по комнате и растаяли дымными струйками, не успев коснуться щелястого пола.
Под окном, разбросав ноги, сидела Настёна.
– Вот дурак! Кто тебя надоумил?! – Она вскочила и одёрнула подол сарафана.
– Ведьма! Чур меня, чур!
Прошка метнулся к лестнице, но Настёна перехватила его.
– Тише, тише, тётеньку разбудишь. Молю, не выдавай меня! Узнает, что я тебе показалась, поколотит меня и выгонит.
Голос у Настёны дрожал, в глазах блестели слёзы.
– Уйди, ведьма! – От страха Прошка позабыл все молитвы, судорожно тискал в кулаке нательный крестик. – Не подходи, не подходи…
– Вот шатоломный! Да не трону я тебя, гляди, к окну отошла.
Ноги и руки у Прошки тряслись, зуб на зуб не попадал от страха.
– Чего взъелся? Ведьма, ведьма… Неужто раньше не понял?
Он помотал головой.
– Финтишь, – не поверила Настёна.
– Да не знал я, правда!
Прошка соврал. Ведь помнил, как сороки кружили над ним в лесу, а одна влетела в это самое чердачное окошко; как заплутал он в трёх соснах, дорогу, видать, преградила колдовством тётка Клавдия. Вспомнил, как раскладывала она карты, а вонь болотная в нос шибала. Всё он видел, не слепой, но боялся сложить вместе одно, другое и третье, будто в арифметическом примере, потому что до смерти не хотел возвращаться в приют.
Настёна переминалась у окна, теребила бусы.
– Не трясись, я тебе худого не сделаю, – обронила она, – не увидел бы ты меня, кабы тётенька дверь на щеколду не заперла. Я сюда… думала, что спишь уже, а ты рубаху рвать. Вот! А говоришь – не знал.
– Я и не знал, – заупрямился Прошка. – Переночую, а утром уйду. Не было такого уговору с ведьмачками жить.
– Уйдёт он! – фыркнула Настёна. – Ты, Пронька, теперь с потрохами тётенькин.
– Это почему же?
– Я говорила, чтоб ты не соглашался оставаться у ней, говорила? А ты меня не послушался. А коль сам согласился, то уйти не сможешь. Кружить она тебя будет, дорогу закроет, пока не вернёшься или не помрёшь.
– Так ты обо мне пеклась?
– Больно нужно! – вздёрнула нос Настёна. – О себе я пеклась. Тётенька как увидала тебя, так заладила: «Родовой парнишка, в роду чертознаи были. Не упустить бы его!» Она родовых нюхом чует. А меня ей теперь не надоть. Теперь я токмо для чёрной работы годная. Вот тебе, Настя, тётенькина благодарность!
Распалясь, она дёрнула рукой и нечаянно порвала нитку бус. Стеклянные шарики запрыгали по полу, раскатились по всему чердаку. Настёна ахнула, со слезами бросилась собирать бусинки, ползая на коленках и причитая.
Прошку кольнула жалость, он стал помогать: забрался под топчан и стол, нащупал в темноте несколько схоронившихся бусинок.
– Возьми, не плачь. Я нитки у тёти Клавы украду, навздеваю… как новые будут.
– Это мамкины, – всхлипнула Настёна, – ничего у меня от неё нет, токмо бусы.
Внизу послышался скрип половиц, шаги и сердито-заспанный голос тётки Клавдии:
– Пронька! С кем ты там?
Прошка застыл. Ну вот, разбудили хозяйку разговорами. Он посмотрел на Настёнино испуганное лицо и быстро ответил:
– Ни с кем, тётенька. Это я вслух журнал читаю, страх какой интересный.
– Вот же не спится тебе… Подымуся я, отыму твои журналы. Будет керосин жечь, ложись.
Шаги протопали и затихли. Прошка облегчённо выдохнул:
– Ушла тётка Клавдия.
Настёны на чердаке уже не было, только лежала на лоскутном покрывале горстка красных стеклянных бусин.
Глава 4
Прошка почти не спал ночь, лишь дремал урывками. Где тут уснёшь, когда такое узнал! Две ведьмы на заимке живут, в сорок превращаются. А он до последнего не верил, что это правда. Посмотришь – с виду обычные баба и девка, как все.
Тётка Клавдия сказала Настёне, что у него чертознаи в роду были. Дурачит небось, ничего подобного Прошка ни от матери, ни от бати не слыхал. Ну, пеняли ему соседки за чёрные глаза, но так, со смехом да шуточками.
Стало быть, тётка приютила его, чтобы колдовству обучать. Но чудно: взяла, а сама ни полслова о бесовской науке, Настёну вон как застращала. Выжидает, должно.
Ни за что он на заимке не останется. Ведьмы людям вредят, скотину портят, хлеб на полях губят. А ночами ходят на кладбище и греховные дела творят. Какие именно, Прошка не знал, и воображение рисовало ему картины одну ужаснее другой.
С восходом солнца он был на ногах. Надел старые штаны и рубаху, уже аккуратно зашитую – Настёна постаралась, а Прошка и не услышал, как она прокралась на чердак, – забрал котомку и, тихо ступая, испуганно замирая от скрипа ступенек, спустился на кухню. По счастью, она оказалась пуста: тётка Клавдия и Настёна ещё спали.
Прошка забрал большую краюху хлеба, высыпал из чугунка в сумку тёмные варёные картошины, оставшиеся с вечера. Выскользнул за дверь и побежал что есть сил, стуча босыми пятками, будто за ним неслась свора собак.
У Николаевки Прошка остановился перевести дух и утишить сердце. Он огляделся и успокоился: погони нет, сорок не видать, дорогу никто не путает. В селе тихо, лишь скрипит где-то колодезный журавель.
Мимо пылила лошадь, в телеге сидел бородатый дедок.
– Дяденька, подвези до станции!
– До станции не довезу, а до Малых Озерков – довезу, – охотно согласился тот, – оттудать до чугунки рукой подать.
Прошка, радостный, поблагодарил и забрался в телегу на солому. Разговорчивый дедок сказал, что до станции близко, мол, пойдёшь никуда не сворачивая и увидишь чугунку.
Всё было просто, однако Прошка заплутал. Шёл по просёлку, не сворачивал – и оказывался на том же месте, где высадил его возница. Знать, тётка Клавдия проснулась, догадалась, что её сиротка ушёл с заимки, и колдовством закрыла дорогу.
– Меня не возьмёшь, ведьма… – бормотал он, – другую тропу отыщу, а выберусь. И не утопну, к болоту и на версту не подойду.
Прошка двинул в обратную сторону, пересёк поля жёлтого овса и жита. Прямо за ними расползлась бочага2 с размытыми берегами, длинная и глубокая, уже без воды, пересохшая, со смоляной грязью на дне. Сколько бы он ни старался обойти яму, снова оказывался перед ней, а не позади.
– Ведьма кружит, гадина! – выругался Прошка и вытер вспотевший лоб. – А я вот напрямки!
Позже он размышлял, что надо было держаться поля, глядишь, и выбрался бы, но тогда мысль перейти бочагу по дну пришлась ему по душе. Прошка закатал штаны и полез в яму. Чего ему опасаться? Пустая бочага – это вам не болото.
Грязи, тёплой от солнца и вязкой, оказалось по щиколотку. Он с усилием вытаскивал ноги, чёрная жижа сразу скрывала следы, пузырилась. На середине ямы Прошка поскользнулся и провалился в вонючую хлябь по голяшки. Рванулся, да ещё глубже увяз и сообразил, что загнал себя в ловушку. Он шарил руками в грязи, надеясь нащупать опору, корягу какую затонувшую или палку, и ничего не находил. Задёргался, заревел в голос.
– Помогите! Я тут! Помогите!
Никто не откликнулся, видно не пришла ещё пора убирать овёс, не было в поле людей. Прошка кричал, задыхаясь от болотной вони, и понял вдруг: засосать может не только трясина. Упадёт – и конец ему, захлебнётся. Мягко и приятно затягивала хлябь, теперь она доставала до пояса. Прошка забарахтался в грязи, завизжал и во мгновение ока завяз по грудь.
Как же не хотелось ему умирать, да ещё так позорно. И зачем, дурак, в яму полез? Он задрал голову и увидел, как по небу медленно плывут кучерявые облака, а в синеве летит птица. Хорошо ей, с крыльями-то.
Застрекотала сорока, зашуршал бурьян на краю бочаги. Прошка обмер.
– Красавец! – раздался наверху язвительный голос тётки Клавдии. – Ровно поросёнок в грязи застрял. На кой ты туда залез, а? Вылезай! Что?.. Не можешь? От напасть-то! Глядите-ка, сиротка бедный, тихой да смирной! Как вожжа под хвост… ой-ой-ой! – Ведьма подбоченилась. – Вытаскивать тебя, иль будешь дальше ворохтаться?
– В-вытаскивать… – просипел Прошка. Топь засосала его по горло.
– И на кой тебя вытаскивать? Вдругорядь снова убежишь.
– Не убегу…
Тётка Клавдия довольно хмыкнула: «Ну смотри же, обещался», закрыла глаза и забормотала заклинания. Прошка почувствовал, как в бочаге заходила ходуном грязь, точно кто баламутил её на дне. Неведомая сила вытолкнула его из топи и швырнула в траву, к ногам хозяйки.
Он лежал ничком и ждал пинков и ударов – тётка Клавдия была на расправу скорой, – но та сказала:
– Обещалась тебя пальцем не трогать – и не трону.
Она развела в стороны руки. Потрясённый Прошка увидел: они на глазах обрастают чёрными и белыми сорочьими перьями. И вот уже не тётка стоит у края ямы, а длиннохвостая птица.
– Пор-росёнок! Быстр-ро домой, гр-рязный пор-росёнок! – прострекотала сорока. Она вспорхнула и улетела, оставив Прошку в чёрной луже, в неподъёмной от грязи одежде.
Он долго лежал, не находя сил даже пошевелиться, не то чтобы встать, пока лицо не стянуло коркой. Сел, помогая себе руками, вытряс из котомки вонючую жижу с раскисшим хлебом и картофелинами и, чумазый как чёрт, побрёл на заплетающихся ногах через поле овса.
У реки Прошка помылся, кое-как постирал штаны и рубаху, тёр с песочком, но жирная грязь сходила плохо. Мало-мальски он высушил одежду на солнце и натянул её на себя влажную. И тут обнаружил пропажу крестика, утопил, должно быть, в бочаге.
На заимку Прошка вернулся к вечеру. В избе садились за стол, Настёна как раз доставала из печи кашник – глиняный горшок с ручкой. На скатерти лежали большие ломти хлеба, огурцы и лук-перо.
Прошка мялся у одверья, затравленно смотрел на хозяйку.
– Худо ли тебе здесь? Неужто я тебя обижаю? – нахмурилась ведьма.
Он, содрогаясь от страха, выдавил:
– Я не буду губить людей. Не хочу. Отпусти меня Христа ради.
Настёна прыснула, прикрыв ладошкой рот, тётка Клавдия затряслась от смеха, точно услышала что-то потешное.
– Христа ради с сумой просят, – отсмеявшись, сказала она и прищурилась на Настёнку: – Ступай-ка, девка, на ключ за водой.
Та догадалась, что её спроваживают, поджала губы и вышла, толкнув плечом Прошку, загремела ведром в чулане.
Хозяйка указала на табурет:
– Сядь, Пронька… Куда ты пойдёшь, сызнова в приют?
– Домой пойду, к себе, – буркнул Прошка.
– Домо-ой? А дома-то и нету. Вот, гляди… – Тётка Клавдия придвинула большую глиняную плошку с водой.
Он уставился на своё тёмное отражение с торчащими космами, пожал плечами:
– Ничего не вижу.
И вдруг у Прошки отнялся язык: на гладкой поверхности воды ясно проступила сгоревшая изба без крыши, вся в копоти.
– Нету у тебя хаты, сгорела… Я людей не гублю, оне сами это хорошо-о умеют. Намедни баба из Малых Озерков пришла. Помоги, бает, свекровку на тот свет поторопить, засиделась-де на этом. И кто из нас виноватый – она или я?
Прошка швыркал носом, молчал.
– Ты талан. Настёнке до тебя и-и-и… далеко-о, – протянула тётка Клавдия, – талану у ней нету. А ты чернокнижником сможешь стать, я буду тебя учить. В сытости и достатке жить будешь, нечисть голодовать не даст… А как помирать соберусь, всю силу тебе отдам. Не можем мы без этого помереть, передать всё надоть из рук в руки.
Тётка Клавдия говорила ласково, как мамка, и взгляд её Прошку уже не пугал. Она, озарённая какой-то мыслью, подвела его к подоконнику, сдвинула горшок с геранью и расхлестнула створку окна.
– Ну-кась, самое время стать на крыло.
Ведьма развела Прошке руки в стороны и, обдавая шею горячим шёпотом, забормотала заклинание. Он почувствовал тычок между лопаток и с ужасом заметил, как из кожи стали проклёвываться и бурно расти чёрные блестящие перья. Окно очутилось высоко над головой, тётка Клавдия с толстыми слоновьими ногами в опорках выросла размером с гору. Он завопил – из горла вылетел лишь сорочий стрекот.
Хозяйка понукала, кричала и пугала, хлопая в ладоши. Прошка ошалело метался по кухне, запрыгнул на стол, опрокинул солонку.
– В окно, в окно! Экий глупый сорочонок! На кой ты на стол залез?!
Наконец он сообразил, что от него требуется. Вспорхнул на подоконник, свалив горшок с геранью, и вылетел во двор. Уселся на изгородь.
Как много Прошка стал видеть! Даже то, что за спиной находится. Потому, верно, что глаза у сорок большие, круглые, выпуклые, и не впереди посажены, как у человека, а с боков. Эвон Настёнка идёт, на него таращится, перекосилась плечом от тяжести ведра. Запнулась, воду расплескала, растяпа.
Он раскрылился, изумляясь, как длинные руки могли превратиться в коротышки с перьями.
– Кыш, кыш! – намахнулась Настёна. – Пошёл!
Прошка оттолкнулся лапами и взлетел. И страшно и радостно ему сделалось. Чудно! Он – птица, он летает! Изба тётки Клавдии стала маленькой, с коробочку от лампасеи, Настёнка – с букашку величиной, деревья очутились далеко внизу. Эвон село, церковь, большак и чугунка… Теперь Прошке и поезда не надобно – крылья есть.
Он устал и опустился на перила колокольни. Солнце почти закатилось за лес, стайка сорок сорвалась с берёз у церкви и улетела в рощу, должно быть ночевать. Пора и ему возвращаться на заимку.
Прошка впорхнул в открытое окно. Попрыгал по крашеному подоконнику, увидел удирающего таракана и не удержался, склюнул.
– Нагулялся, сорочонок, – пропела тётка Клавдия, – а теперь оборачивайся сызнова человеком.
Перья полетели во все стороны и пропали без следа. Прошка ощупал себя – уф, всё на месте: грудь, голова, руки, ноги… На языке чувствовался странный привкус. Батюшки! Он же прусака съел! Прошку передёрнуло от отвращения. Одним скачком он очутился у рукомойника, набрал в рот воды, долго полоскал и сплёвывал.
Настёна прыснула, тётка Клавдия цыкнула на неё:
– Велено было вывести эту пакость!
– Я… я наговор позабыла.
– Бестолочь. Так и быть, покажу, – отмякла хозяйка и, довольная, взглянула на Прошку: – Ты тоже мотай на ус.
Когда совсем стемнело, она открыла дверь и окна в избе, встала посреди кухни и заговорила нараспев:
– Гоню мразь мелкую и тварь всякую от порога моего к окну, с окна на дорожку пыльную…
Прошка не поверил глазам: в тусклом свете керосиновой лампы он увидел, как из-за печки, из щелей в бревенчатых стенах посыпали тараканы и резво побежали к двери и окнам. Несколько раз тётка Клавдия читала наговор, пока за порогом не исчез последний прусак.
Один за другим потекли дни, пришла осень. Раньше в это время, когда были живы мамка и тятька, Прошка бегал в школу. Он и сейчас был не прочь учиться, однако тётка Клавдия не позволила.
– На кой? – удивилась она. – Читать и писать умеешь, и будет с тебя.
– Землеописание учить, историю…
– Пустое. Истории я сама расскажу какие хошь.
Хозяйка часто запрягала Вербу и уезжала. Куда – не говорила, а спрашивать Прошка побаивался.
– Места высматривает, где колдовать можно, – объяснила Настёна, – кладбища, болота, овраги… Ещё она для ворожбы вещицы ищет. Помнишь, ты из сорочьего гнезда гайку и серёжку принёс? Это для колдовства. Тётке Татьяне подбросила, и стала она воровкой.
– Ври! – округлил глаза Прошка.
– Да-да, её теперь из лавки взашей гонят. А угольки, что ты из Петровки привёз…
– Неужто тоже для плохого дела? – перебил он.
– А ты думал! С ими она хоть где пожар учинит. Тётка Клава не человек, а настоящая ведьма. Душу дьяволу продала. У неё и хвост есть, я в бане видела, ма-аленький такой, белый, ниже спины.
Настёна рассказала, что в спаленке у тётки Клавдии, в закрытом сундуке, лежит чёрная книга, туда она пишет окаянные молитвы, как надо колдовать и в каком месте. Настёна знает, где ключик, и очень хочет заглянуть в книгу, да трусит одна.
У Прошки загорелись глаза.
– Давай вместе посмотрим! Тащи ключ.
Они вошли в спаленку, там стояла кровать, украшенная горкой подушек, и сундук.
– Ты доставай, – шепнула Настёна, – тебя тётка Клава не тронет, а меня пришибёт.
Вместе они открыли замок ключом и отвалили тяжёлую крышку, обклеенную изнутри картинками. Прошка вытащил потрёпанную книгу в чёрном переплёте, стянутую кожаными завязками. На обложке были выдавлены значки – кружки с извилистыми линиями и чёрточками. Ему почудилось, что от книги веет холодом и несёт мертвечиной.
– Чуешь? Воняет… – сморщил нос Прошка и помахал рукой возле лица.
Настёна замотала головой:
– Чем воняет? Ничего не чую. Давай скорей!
Он опустился на колени, нетерпеливо распутал завязки и открыл книгу. Она была очень старой, с жёлтыми страницами. Только и успел Прошка зацепить взглядом строку: «Порча на почесуху…» – как из сундука высунулась лысая голова с пустыми дырками вместо глаз.
Настёна взвизгнула, Прошка заверещал: «Мертвяк!» – и они пулей вылетели из спальни, забились в куть. Позади послышался грохот упавшей крышки сундука.
– Тётка Клавдия мертвяка посадила… книгу охранять… – выбивая зубами дробь, сказала Настёна, – ой, мамонька, страшный!
– Ты же ведьма, а боишься, – упрекнул Прошка.
Она сдвинула белёсые брови:
– Я ещё не ведьма. Тётенька учит мало, говорит, коли с мертвяками и бесами знаться – умом тронешься. Ей можно, она привычная.
– А зачем ты с ней живёшь? Кабы у меня тятька был, хоть и пьяница, я бы сроду от него не ушёл, помогал бы во всём. А как состарится, к себе бы взял.
Настёна покраснела до корней волос и запальчиво ответила:
– Не будет тётенька колдовству учить, я и минуточки тут не останусь!
Как ни жутко было заходить в спальню, но пришлось: увидит тётка Клавдия, что они похозяйничали, и прибьёт обоих. Пихая друг друга локтями и шикая, Прошка с Настёной подкрались к ситцевой занавеске и увидели: чёрной книги на полу нет, крышка сундука опущена. О порушенном порядке напоминал всего-то лежащий на дерюжке замок. Со всеми предосторожностями они закрыли сундук, поправили сбитую дорожку. Ключ убрали на место, в шкатулку с картами. Авось не прознает хозяйка.
Глава 5
Загуляли холодные ветра. За окнами то сыпал дождь, то падал снег. Спать на чердаке стало зябко, от печной трубы сочилось слабое тепло.
Тётка Клавдия поднялась на подловку, посмотрела, как ёжится Прошка, и велела перебираться на печь. Он отнекивался, говорил, что ни капли не мёрзнет. Хозяйка прикрикнула, и Прошка с сожалением подчинился, перенёс вниз постель и вещички.
Однажды тётка Клавдия, непривычно бодрая и оживлённая, заставила Настёну вымыть избу, вытряхнуть половички и заново побелить печку.
– Чего это она такая весёлая? – заинтересовался Прошка.
– Сегодня Велесова ночь, хозяйка ждёт гостей, – объяснила Настёна, расстилая чистые полосушки.
Он вспомнил, как уважала этот праздник мамка: начисто мыла избу, на подоконниках раскладывала веточки рябины с ягодами, чтобы отпугнуть нечисть; варила брагу, жарила рыбу, пекла пироги и сдобные пышки.
В Велесову ночь после заката никто за порог не выходил. Говорили, что снаружи блуждают мёртвые, а встреча с ними не сулила ничего хорошего. Дверь тоже никому не открывали. Добрые люди в такую пору дома сидели, одна нечисть по улице шаталась.
Сбегал Прошка за рябиной, живописно разложил её на окнах. Красные грозди горели заревом, изба сразу стала нарядной. Он кинул в рот несколько ягод, прихваченных морозом, сладковато-терпких, и зажмурился от удовольствия. Вкусно, и никакой лампасеи не надо.
Прошка надеялся, что тётка Клавдия восхитится красотой, но та мельком взглянула и нахмурилась:
– Это на кой?
– Мамка всегда так делала, чтобы нечистую силу отогнать, – обернулся с улыбкой Прошка. И осёкся. Вот балда, не то он сказал, ой не то…
– Нечистой силы испужался? – сложила руки кренделем хозяйка и приказала: – В помойную яму выброси.
Пришлось Прошке послушаться, убрать рябину с окон. Выкидывать её он не стал, спрятал в чулане. Пригодится к чаю.
Весь день тётка Клавдия стряпала, а ближе к ночи, когда Прошка улёгся спать, она начала собирать на стол, как будто и не ужинала. На чистой скатерти появилась дюжина тарелок, стаканы, две сороковки3, густое хлёбово в большой корчаге, мясо, яичница, пироги, каравай хлеба и корзина яблок.
Прошка начал задрёмывать. И когда, как мамка говаривала, ангелы зашелестели над головой крыльями, навевая сон, был разбужен громким стуком в дверь. Разлепив глаза, увидел: хозяйка подхватилась, побежала открывать и приветливо, со всем уважением, пригласила кого-то войти.
Он присмотрелся, и холодок заструился по спине. Правильно у них в селе говорили: добрые люди в такую ночь из дома носа не высунут. В избу вошли упыри – живые мертвяки, страшные, с застрявшей в волосах землёю; зацокали копытами рогатые черти, забежали два волка-оборотня, покрутились-повертелись, ударились о пол и превратились в людей – молодого мужика и старуху. Гости уселись за стол, тётка Клавдия принялась их потчевать.
Прошка забился в угол печки, укрылся одеялом с головой, зажмурился и представил, что он зайчонок в норе. Вьюга надежно занесла сугробами его убежище, не видно ни норы, ни самого Прошки.
