Журнал «Парус» №68, 2018 г.
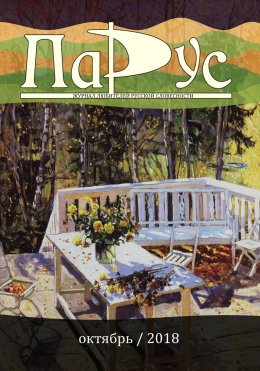
Цитата
Алексей ТОЛСТОЙ
***
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.
1858
Художественное слово: поэзия
Андрей ШЕНДАКОВ. Лирика осеннего дождя
***
Едва затеплившись, рассвет
молчит над пойменным туманом,
а в небесах, над млечным станом,
сто тысяч лет, сто тысяч лет
звезда прозрачно-голуба,
хрустальным пологом воздета,
сто миллиардов раз воспета —
Вселенной вечная раба.
О, сколько носишь ты имён,
скитаясь в толще мрака, дыма?
Словами, взглядом опалима;
не я один в твой свет влюблён.
Тебе, тебе я шлю привет,
наш путь покорен и всевышен.
Дрожит на каплях диких вишен,
едва затеплившись, рассвет…
***
В августе травы сухие,
в августе глубже закат:
на перепутья лихие
первые листья летят.
Ярче дорожные грёзы:
тропки бегут к берегам,
но голубые стрекозы
реже садятся к ногам.
Небо дрожит наливное
в вечной своей высоте:
солнце – живое, иное —
льётся по млечной воде…
Лоскутки
I
Остатки солнечной молвы
теряет дальний переулок:
луч ускользнувший сладок, гулок
в изгибах веток и травы,
в листве, отдавшей изумруд,
где звуки сдержанны и кротки;
на берегу ночные лодки
который год кого-то ждут,
но где истратились они,
пути, застывшие в затоне?..
Природа трепетно в ладони
взяла вечерние огни.
II
Порою я в себя не верю,
порой не верю и в Тебя,
но с этой ношей в лапы зверю
легко отдаться, не любя;
легко исчезнуть, раствориться
в безликой слякотной толпе:
летит неведомая птица
в закатном солнечном огне;
а между тем в огне Природы
и в чистой поступи высот
так много скорби и свободы,
что не вмещает небосвод.
III
Мои небесные святыни:
из тихой заводи глоток,
едва заметный вкус полыни,
в воде застывший поплавок;
рыбак, скамейка над рогозом,
высокий берег, шум берёз,
дымок над глинистым откосом,
где дальний свет многоголос;
о Ангел, ты велик и славен:
в немом движении реки,
впитав лучи открытых ставен,
твои сложились лоскутки…
Осенняя лирика
I
Снова ветры свой спор завели,
запах сосен смолист и несладок,
улетели куда-то шмели,
опустели тропинки посадок.
За травой, за штрихами оград,
в зыбком поле, прозрачно-белёсом,
воздух солнечный солоноват —
под вселенским распахнутым плёсом.
У подножия рощ и полян,
в окнах самого дальнего дома
цвет вечерний глубок и багрян,
ночь неведомой силой ведома…
Наступает незримо печаль,
открывается стылая осень —
и качает небес литораль
бесконечную лунную просинь.
II
Осенние кроны шуршали,
а души искали родства;
над краем спадающей шали
с тропинки взлетала листва.
И взгляд твой, и к дому ступени —
всё выжег опаловый свет;
и тёплые лунные тени
искали наш спутанный след.
Под замершей в небе кометой
речные скрипели мостки;
немыслимой осенью этой
мы были впервые близки —
к падению в горние выси,
как пух перелётных зарниц,
как свет, наплывающий к ризе
едва приоткрытых страниц…
III
Прохладная тишь запоздала:
сентябрь необычно лучист;
в серебряной лодке причала
уносится сорванный лист.
К земному склонён изголовью
строительный кран-исполин,
кроваво-сиреневой дробью
пронизаны кроны рябин.
А тени – попутчицы страха —
взлетают с речной глубины,
как будто с Чумацкого шляха*
доносится сполох войны.
К рукам, к пожелтевшей бумаге
закат пригорает слезой:
качнувшись, пожухлые маки
стреляют засохшей росой.
-–
* укр. Чумацький шлях; украинское название галактики Млечный Путь.
***
Осень – лирика в лёгкой тунике
С золотисто-пурпурной каймой,
В каждом тихом серебряном миге
Слышен Космоса вечный прибой.
С каждым шорохом гулко, отлого,
Проплывая над Млечной дугой,
Отзывается в сердце тревога
От природы прозрачно-нагой.
В каждом звёздном плывущем карате
Поступь Бога: взлетая, сорви…
И так много вокруг благодати,
И так много незримой любви.
Мимолётные дни
Л.Ш.
I
К сожалению, всё мимолётно,
мимолётны секунды и дни.
Всё истлеет, истлеют полотна
и знамёна. На небо взгляни!..
Видишь эти осенние выси,
острый месяц в янтарном огне?
К этой стылой немыслимой ризе
прикасаются блики на дне.
Это дно – наши горние своды,
наши окна и лики церквей,
из которых исходят народы,
как морозный огонь-суховей.
Так не плачь: как и водится, мимо —
как ни целься! – ударит лоза…
Лишь теченье далёкого дыма
возвращают на миг небеса.
II
…Этот город – осенняя сказка,
этот город – холмов высота:
есть печаль и немного – опаска,
гладь речная вдоль склонов желта;
где церквушек искристые пятна
проплывают: пространство цветёт.
По волне воротиться обратно
невозможно, а только – вперёд,
чтоб, как лунки, янтарные лики,
напитавшись зеркальной водой,
отражали небес базилики
средь листвы золотисто-седой…
Повторятся великие круги —
можно их бесконечно верстать.
Возвращая земные недуги,
просветляет сердца благодать!
***
Рябин осенних звёзды-угольки —
На блеклом небе вспыхнувшие бусы,
А облака то пепельны, то русы,
В траве горит закатный всплеск реки.
Сквозь камыши мелькает свет костра,
Холмам кивает сонная крапива,
Над садом долька белого налива —
Луна в ветвях спокойна и хитра.
Ещё летает в сумерках оса,
Но чтоб её услышать, мало слуха…
И на пороге слабая старуха
С ладони кормит радостного пса.
***
Под хлябью небесной ложбины,
Вдали от широких дорог,
Осыпан огнями рябины
Забытый людьми хуторок:
Два прудика, рядом – оградка,
Следы лошадиных копыт,
На склоне капустная грядка…
Душа, как и прежде, болит
О старом, трухлявом заборе,
О доме, склонившемся ниц…
Пшеничное спелое море
Штормит возле древних гробниц.
И с кладбища, словно из пены,
Выходят монахи-гонцы:
«Грядут ли в ваш век перемены?..
Не знают святые отцы…»
Луны пересохшая корка
Плывёт над холмами во мгле…
Лишь машет колодец с пригорка
Ведром на кривом журавле.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ
Вся округа – в молочной сорочке.
Вдалеке, на пологом холме,
Фонарей разноцветные точки
Беспокойно мерцают во тьме.
Чернобровая юная осень
С тёплым ветром идёт налегке,
Её глаз холодящая просинь
Проступает в ночном роднике.
На штакетнике мокрые банки
Озаряет лучом бирюза.
И над крышами с зеленью дранки
Одиноко темнеют леса.
***
Острый месяц в лазурном окне,
А под ним, вдалеке багровея,
Сквозь туман убегает аллея —
И пылает в закатном огне.
Светлый купол, служитель веков,
Еле виден в листве тополиной,
Берег пахнет цветами и тиной,
По реке плывут тени домов.
Где теперь и судьба, и сума?
Может быть, в беспокойных зарницах
И в парящих над бездною птицах,
Тех, что вскинула Вечность сама…
Тайна
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма…
А.С. Пушкин
Нет правды на Земле,
но правда есть чуть выше:
на письменном столе,
над сводом дальней крыши,
в янтарной глубине
лесной воздушной чащи —
почти на самом дне,
где бьётся сердце чаще;
где огненны гонцы
и ангелы проворны;
где в россыпи пыльцы
звучат ночные горны.
Услышать их во мгле,
увы, нельзя случайно…
Есть правда на Земле,
как Бог и даже Тайна.
***
Лирика осеннего дождя,
на душе – покой и благодать:
по траве пожухлой проходя,
продолжаю близких узнавать —
тех, которых нет давно со мной,
тех, в которых – солнечная мгла;
их навеки в неземной покой
круговерть земная увела.
Принимая и добро, и зло —
всё, что зыбко в этом тихом дне,
окликать ушедших тяжело,
откликаться нелегко вдвойне…
Татьяна ВИНОКУРОВА. Мировой жестокости вопреки
***
Это чудо ли, колдовство ли,
радость грязной глухой дыры —
годовые остатки боли
белым сыплются на дворы.
Я смотрю на недолговечный,
на шиповничий снегопад —
где морщинистые сердечки,
как под шапочками, дрожат.
Полчаса и крупинки в чёлке —
и стоит во дворе, велик,
сразу тающий получёрный
мой октябрьский снеговик —
То ли просто порыв, а то ли
силы есть ещё… В гаражах
всё прерывисто тараторит
пистолет шиномонтажа.
Р.
Не человек – намёк. Пунктир.
Ты пустотою озадачен.
Как будто мир, как будто мир
она пакует в чемоданчик.
Ты без пяти минут один.
Ты худ, как контурная карта.
Добавят в голову седин
всего каких-то тридцать мартов.
Теперь чем хочешь заполняй
свои вселенские пустоты.
Сгоняй с подругой на Валдай,
рабом палаточной субботы.
Всего важнее и больней
и прочего всего мудрее,
что, не живя совместно с ней,
не умираешь вместе с нею.
Красив, высок и безголос,
стоишь у магазина «Кредо».
А жизнь суёт тебе под нос
твою зелёную победу.
ДАЧНЫЕ СТОЛБЦЫ
Когда уснёт большая, как судьба,
Централи красно-белая труба,
Гнетущая и мрачная, пятьсот
Дементоров рождающая в год,
Давай мы навсегда уедем жить
Туда, где есть стрижи и нет 3G,
Где яблонь грациозны и белы
Сияющие известью стволы.
Нам предстоит узнать, что значит дом,
Постигнуть своим маленьким умом
Всю мощь того, кто вплоть до гаража
Сумел сложить два этих этажа,
Жить без причуд, излишеств и арен
И вырастить крыжовник и сирень,
Сквозь зелень чтоб дымящийся завод
Вдруг стал похож на белый пароход.
Грубеют руки. Сад и огород.
Мы слабый избалованный народ —
К такому не привыкшие труду,
Становимся подобными кроту.
Раствор полива розов, марганцов,
И вьющиеся плети огурцов
Мне бабушку напомнили мою.
Я постоянно с нею говорю.
Её вечнозелёная душа
В меня переселяется дышать,
Ведь сила огородного тепла
Из рук её, из слов её текла.
Лопата, и зола, и прочий скарб,
Шкворчащий на решётке белый карп,
Земля после дождя, цветы на ней —
Здесь всё напоминает мне о ней.
А ты, собравшись с силами начать,
Идёшь во двор качели врачевать,
В полуденный раскрашивая час
Скрипучий и проржавленный каркас,
И для того, кто в нашу жизнь вошёл
Хохочущим и славным малышом,
С двойным усердьем – Стёпа, покажись! —
Теперь даёшь вещам вторую жизнь.
Спустя три года – будто сто спустя —
Мы превратились в крепость и костяк,
Скрутились в жгут, собою повторив
Объятье двух срастающихся слив.
До первых не дожившие седин,
Мы будем слушать, растопив камин,
Как гулкий птичий сумеречный час
На добрый труд благословляет нас.
ЛЕНТА
Тело хрустит суставом,
Стих заряжает в руку.
Здравствуй, герой усталый,
Вставленный в пятый угол!
Что не наводишь кудри,
Гений семейной жизни?
Кистью от старой пудры
Клавиатуру чистишь,
Не закаляешь стали,
Не добываешь уголь.
Дымной крутой спиралью
Скручен небесный купол.
Что завязать с куреньем
И материться бросить, —
Лучше ли, сонный гений,
Жить в телефоне носом?
И над борщом и газом,
С радостью или с болью,
Наглухо перемазав
Руки свекольной кровью,
Даже когда под боком
Спящий сопит подсвечник, —
Палец листает с Богом
Глупую бесконечность.
И, пока умным ядом
Полнится лента днями,
Счастье летает рядом
Мыльными пузырями.
***
Год пережив, ты годом пережёван.
Родными мертвецами арестован,
В цветком растресканное лобовое
Вглядишься, подъезжая к городку,
Где призраки на каждой остановке,
Где прошлое в привычной обстановке,
И с фурой на Лозовом водопое
Толкаться в очереди к роднику.
Пятилитровку набирают долго.
Причастье убивает чувство долга.
Себя закрывший в опустевшем доме,
В столице мини-жизни, мира вне,
Там, где вдоль леса торговали клюквой,
Колонки горло извергало буквы,
А нынче пот в натопленном салоне —
Душа, стекающая по спине.
Теперь метёт. А думалось, всё верно,
Когда машину уводило влево,
Что Бог простит любимым всякий промах
И от беды закроет их собой.
Соседний двор. Незаводимый «опель».
В окне знакомом незнакомый профиль.
И мокрый снег в чернеющих проёмах
Зачёркивает всё двойной сплошной.
***
Вот и хватит уже про боль,
О которой ни сном ни духом.
Мир засыпан чистейшим пухом,
И конфетами – антресоль.
Лучше жалобы и нытья —
Самодельная хренодёрка,
Добросовестная уборка,
Удовольствие от житья.
Может быть, и в твоём дому —
Тот же запах, еловый, колкий,
И смакуют впотьмах икорку,
Подмороженную хурму,
И летят не без мастерства
Карапузы вокруг церквушки
За окном на цветных ватрушках
С ощущением Рождества.
***
Всё дымит за окном труба в заводском подсвечнике,
Утекают рекою деньги, бегут деньки.
Под балконом среди окурков цветут подснежники
Мировой жестокости вопреки.
Если хочешь кому поплакать о доле горькой,
Если в самых крутых мечтаниях недалёк,
Приглядись: там, внизу, под старой советской горкой
Повисает хрупкий сиреневый стебелёк.
Нам так жалко себя, мы больные, кривые саженцы,
Не ко времени нас посеяли, но смотри
На тончайший фонарик жизни, когда покажется,
Что всё вылюблено и выболено внутри.
Если холод собачий в мире, а дело к маю,
И дождём затяжным отрезало путь наверх,
Знай, что это Господь подснежники поливает,
Умывает слезами Чистый земной четверг.
Александр ДАШКО. Возле снегопада
***
Я в море желтых одуванчиков
хочу навеки утонуть.
С печалью нужно ведь заканчивать
когда-нибудь, когда-нибудь.
Они из солнца невесомого,
как будто маем рождены.
И в них так много незнакомого,
и желтизны, и желтизны.
Гуляют парочки аллеями
и обнимаются – ну пусть.
А одуванчики развеяли
простую грусть, простую грусть.
Они так быстро разлетаются,
из серебра оставив тень.
Но пусть влюбленным вспоминается
весенний день, весенний день.
***
Я прошелся возле снегопада
и забыл, какой сегодня век.
Видно, ничего весне не надо
в обреченном городе двух рек.
Где-то промелькнуло «…рой за роем…».
Что там дальше я, увы, не смог
вспомнить. Фонари мне приоткроют
что-нибудь в загадке этих строк.
Бесноватый заметался ветер,
потерявшись в сонме этажей.
По стене лупил как будто плетью,
по стене и по моей душе.
Как же тщетно я искал ответа
на вопрос «какой сегодня год».
Ветер отрывал от сигареты
искры, отправляя их в полет.
И когда стоял один, безликий,
вдруг подумал, так, издалека:
«Ведь поможет ветер забулдыге
добрести до нужного ларька».
***
Слишком быстро всё тает
у меня на виду.
Путь к убогому раю
я по лужам пройду.
Кто облил соком утра
голубые дома,
поступил очень мудро.
И простилась зима.
И идет то ли дождик,
то ли слезы текут.
Я вдыхаю до дрожи
запах этих минут.
Я вдыхаю. И тает
на груди липкий снег.
До убогого рая
не добраться вовек.
***
Душисто, прозрачно и жарко
дыхание белой весны.
Мелодию старого парка
ты в сердце своем сохрани.
Пройдем по знакомым аллеям,
не глядя с печалью назад.
Черемуха не пожалеет
живительный свой аромат.
А после обнимемся крепко
и бедам настанет конец.
А облако будет как слепок
двух любящих наших сердец.
Черемухой пряной пропахли
зовущие губы твои.
Мелодия старого парка —
как гимн бесконечной любви.
***
памяти Евгения Евтушенко
Поэты уходят в снега,
и в этом какая-то тайна.
Дорога бела и долга,
а снег никогда не растает.
Следы заметает метель
и мир накрывает сетями.
Поэты уходят в апрель,
сырой, со скупыми дождями.
И встанет поэт прикурить
на самого мира окраине.
Поэты пришли уходить,
и в этом какая-то тайна.
Елена МАРЧЕНКО. Мысленно в детство вернусь
***
А на улице, посмотри,
Март и мыльные пузыри,
Их мальчишка лет девяти
Выдувает мечтательно.
Вместо первых весенних птах
Отраженьем в больших глазах —
Счастье в радужных пузырях
И любознательность:
Как становится вдруг пузырь
Ровным и в высоту и вширь?
Пролетит ли через пустырь
Или лопнет дорогою?
Он хохочет, и звонкий смех
Разливается по весне
И улыбкой наивной всех
Проходящих трогает.
***
Шагаю к тебе, поднявшись на кончики пальцев,
тянусь всей душой.
На улице звонкой капелью март осыпается
с хмурых карнизов.
Весна – это время влюбляться
и, сняв капюшон,
смотреть, как в небесную высь
возвращаются птицы.
Я прячу перчатки, вручаю ладони тебе,
дороги плывут.
Луч яркого солнца на чёрном пальто оставляет
тёплые пятна,
и я застываю в блаженстве
коротких минут,
наполненных светом, тобой
и дыханием марта.
***
Помнишь, мечтали когда-то давно,
Как мы с тобой заведём добермана,
Чтоб, лёжа вечером возле дивана,
Пёс вместе с нами смотрел бы кино.
Мы бы купили красивый торшер,
Кресло-качалку, ковер для гостиной,
Чешский хрусталь под игристые вина
И деревянный карниз для портьер.
Мы всё придумали до мелочей:
Два полотенца на кухне в цветочек,
Полку под книги и имя для дочки…
Жаль, только вышло, что дом тот ничей.
***
Жарким дыханием мне в плечо,
Зноем по позвонкам на шее —
Так упоительно горячо,
Так восхитительно сердце греет…
Щедро июнь разбросался теплом,
Спелой клубникой ладони испачканы,
Просто не думаю ни о чём
И хохочу, потому что счастлива.
Солнце, рассыпавшись на лучи,
Гладит меня по веснушкам рыжим,
Слышу, как ярко оно звучит —
Лето на раскалённой крыше.
***
В детстве забот-то было:
Ссадина на коленке,
Вдруг расплелась косичка,
Мячик пропал в траве.
Я всё вокруг любила,
Кроме молочной пенки,
Запаха жжёных спичек,
Йода и сна в обед.
Так поскорей хотелось
Вырасти – взрослым проще
И интересней даже —
Взрослые могут всё!
Выросла, повзрослела,
Ссадины стали больше,
Йод перестал быть страшным,
Жалко, что не спасёт.
***
Осень приходит в мысли,
Птицами не щебечет,
В берег волной не бьётся
И не трещит морозом,
Вяжет свой плед из листьев,
Чтобы укутать плечи,
В нити вплетая солнце
И горьковатый воздух.
Осень поёт ветрами,
Смотрит с улыбкой в лужи,
В путь запускает с клёнов
Жёлтые вертолёты —
И, опадая в память,
В такт с листопадом кружит
В парке вокруг влюблённых
Вальс по дождливым нотам.
В чае – лимон с корицей,
В небе размыта стая,
В сумочке зонтик зябнет,
Свесился шарф наружу.
Рыжая, как лисица,
В старом пальто, босая,
Спрятавшись в лето бабье,
Осень приходит в душу.
***
Вечер замерз, и дождя тихий шорох
Плёлся по улицам сонного города…
Знала ли я, что люблю светофоры?
Нет, раньше знать это не было повода.
На перекрёстке шептал что-то ветер
Окнам домов вдоль пустой магистрали,
Красным напротив горел человечек,
Словно смущённый, что мы целовались.
В тёмном такси, торопящемся к дому,
Я улыбалась, когда мне навстречу
На светофоре другом вспыхнул снова
Тот же смущённый сигнал-человечек.
***
Старый автобус продрог,
Окна в холодном и белом.
Грею, как в детстве, кружок,
Только уже не так смело.
В нём фонарей огоньки
Льются сквозь стужу и манят,
Варежка с левой руки
Спряталась в правом кармане.
Вечер ноябрьский пуст —
Может, хотя б на немножко
Мысленно в детство вернусь,
Грея кружок на окошке…
Художественное слово: проза
Вячеслав АРСЕНТЬЕВ. Как они там?
Рассказ
Александру Васильевичу Веснину стал сниться один и тот же сон. Пожилая женщина с неясными чертами лица являлась ему и задавала короткий, но неизменно повторяющийся вопрос: «Как они там?»
Веснин понимал, что вопрос она задает именно ему, но кто эти «они» и где это «там», поначалу уяснить не мог. А женщина ничего не объясняла, просто спрашивала, протягивала руку – будто хотела погладить его по голове – и пропадала.
Однажды, проснувшись утром, он вдруг понял, кто эта старуха: это же бабушка Катя! Его родная бабушка, мать отца, приходит к нему в его зыбких снах, и просьба ее проста и конкретна: она хочет знать, что стало с ее самыми близкими, с теми, кого оставила на земле, после того, как ее, пятидесятивосьмилетнюю, доел рак желудка. Сашке Веснину тогда чуть за годик перевалило, и вспомнить бабушку он теперь, конечно, не мог, но по рассказам родителей знал, что умирающая часто просила дать ей подержать ребенка и высохшей слабой рукой гладила его по головке, что-то чуть слышно нашептывая.
Фотографий Катерины Груничевой, ни молодой, ни старой, – никаких совсем! – не осталось. Даже самой захудалой карточки, совсем простенькой, излаженной сельским фотографом-неумехой, не нашлось в деревянных рамках на стене деревенского дома Весниных. Потому, наверное, и старуха во снах лицом никак не обозначалась.
Александр Васильевич не верил ни в черта, ни в бога, но, как всякий человек, выросший в деревне и с детства наслушавшийся небылиц о всякой нечисти, хранил в своей душе следы примитивного суеверия. Уже будучи взрослым, он много раз слышал рассказы о том, как умершие приходят во снах к своим близким и обращаются с разными просьбами. К одной вдове муж чуть ли не каждую ночь наведывался с упреком, что она зимой похоронила его, не надев под брюки теплые кальсоны. Перестал приходить только тогда, когда отправила ему исподники в гробу умершего соседа…
Кто знает, что там и как там, – думал Веснин, – может, и есть он, «тот свет». А если есть, должна же бабушка знать, что все ее дети теперь уже в том же самом мире, что и она. Хотя… как знать? Может, они в разных «сферах» обитают: она вверху – они внизу. А вот почему она именно к нему приходит, его спрашивает, – это вполне объяснимо. Он же единственный родной ей человек из ныне здравствующих, кто видел ее наяву, пусть и младенческими непонимающими глазами.
Решив, что надо обязательно побывать на бабушкиной могиле, Веснин выбрал свободное от домашних забот время и однажды, погожим осенним днем, отправился за пятьсот верст на родину.
Добираться надо было сначала поездом, потом автобусом, поэтому времени для копания в памяти оказалось у Александра Васильевича предостаточно. Вспоминалось ему, в первую очередь, то, что когда-то рассказывал отец, – и эти отцовские воспоминания, пропущенные через его собственные, складывались в воображении Александра Васильевича в довольно яркие картины жизни бабушки Кати и деда Василия.
Катерину Груничеву, красивую девку (правда, с физическим изъяном – страдала тугоухостью после перенесенной в детстве болезни), выдали замуж в дальнюю деревню. Выдали, как водилось тогда, не спросив ее согласия, – за парня, который был хоть и моложе Катерины на год, но красотой ей никак не пара. Зато родители жениха жили в пятистенке с резными наличниками, правили крепким хозяйством. Через полгода молодых переселили в построенный к тому времени свой дом. И скоро слюбилось-сладилось… Впрочем, о любви было особо некогда думать: полный двор скотины, а пашня скудная по размерам, да еще и на песчанике. А на плохой почве неважен и урожай (старик Веснин еще троих сыновей с семьями отделил от себя, и доброй земли каждому досталось с гулькин нос).
Дети пошли один за одним. Двенадцать их родила Катерина, но только четверо выжили. Умирали дети в разном возрасте, и по каждому ребенку материнское сердце болело, но особенно по Ивану, красивому крепкому парню, опоре семьи. Дожил он до семнадцати лет, к плотницкому делу начал приобщаться, настоящим мужиком стал. Но случилась-таки беда. Пас овец по весне парень у старичных озер, и молодая ягушка свалилась с крутого берега. Выручая ее, пастух по неосторожности оступился, вслед за ней упал в холодную воду. И простудился в дождливый ветреный день, когда на костре пробовал сушить одежонку. Пенициллин к тому времени еще не был придуман, да и больница находилась в двадцати верстах, за разлившейся рекой. В конце мая похоронили Ивана.
О деде Василии отец рассказывал Веснину много. Дед был человек мастеровитый, но нелегкого характера, своенравный, «поперёшный», как таких называют в народе. Все плывут по течению, а он реку жизни, бурную и полноводную, поперек пытается преодолеть. Но ни сил нужных нет, ни благополучных обстоятельств, и вот крутит и бросает своенравная жизнь своевольного поперёшника в разные стороны, ни к одному берегу такой человек никак не прибьется. А по течению плыть – натура не позволяет.
В тридцать втором году вся деревня из двенадцати дворов вступила в колхоз, лишь Василий остался единоличником. Отец и братья, хоть и жили справнее, враз сделались колхозниками. Он же уперся, как бык рогом в землю: не хочу артельно робить, буду по старинке вести свое хозяйство – и баста. Но таких вольных казаков государство – могучая сила! – либо гнуло, либо ломало.
Правда, семью не выслали и не раскулачили, потому как кулачить было нечего: ни кузен, ни маслобоек, ни большого дома под железной крышей у деда Василия не имелось. Но зато власть обложила веснинское хозяйство бешеным налогом. За недоимки сначала лишили лошади, и сразу семье пришлось забросить разработанную в лесу пашню. Боялись, что и корову заберут. «Прибежишь из школы, – вспомнил Веснин слова отца, – и первым делом у матери спрашиваешь: “Мамк, а Мильку еще не увели?” И так каждый день жили в ожидании. Оно и понятно, ведь корова – кормилица. Как без нее в деревне, особенно в той, довоенной? Но и без коровы нам пришлось пожить…».
И еще отец рассказывал. Бывало, придет фининспектор – и по клетям, на сарае начнет шарить, спрятанное добро искать. Сундук вверх дном перевернет, последние шмотки опишет и заберет. Мать запричитает: «Как же, батюшко, жить-то будем?» А шепелявый инспектор, активист из пригородного села, снисходительно бросит в ответ: «Ничаво, хозяюска, зиви, зиви, разресаю!»
Без лошади и без коровы единоличные крестьянские дела Весниных пришли в совершенный упадок. И дед, – хотя какой еще тогда он дед был – мужик в зрелом возрасте! – двинулся по деревням с топором, стал рубить избы, бани и прочие постройки для колхозных нужд. Потомственный плотник и толковый столяр зарабатывал хорошо, но налоги отнимали почти всё заработанное. Спасалась семья огородом, да тем, что хозяин приносил в мешке – в основном, зерно и горох.
А бабка Катя (тоже тогда еще далеко не бабушка) маялась между сельскими работами и домашними заботами, через год да каждый год рожала. Рожала и хоронила. Последнего ребенка родила в сорок пять лет.
Когда бабушка всерьез заболела, еду уже с трудом принимала и телом худеть начала, повез ее дед на лошади (в колхозе попросил для такого дела) в районную больницу. Глянул много повидавший на своем веку старый, еще при земстве служивший доктор на молчаливую старуху, задал несколько вопросов мужу, вздохнул и сказал: «Так, значит… Помочь ничем не могу. Вези ее домой. И готовься…».
Привыкший в частым похоронам, Василий Никитыч от слов доктора вздрогнул, словно кнутом его стегнули. Хотел было попросить, чтоб жену положили в больницу, но, глянув на врача, понял всё, промолчал. Ехали дед с бабушкой обратно тем же лесом, потом паром переправил их через реку. И молчали всё это время: о чем было говорить?
Сойдя с полуразбитой проселочной дороги, Веснин перелеском добрался до кладбища. Оно за последнее время разрослось, вылезло на заброшенное колхозное поле. Здесь давно не пашут – не сеют, а вот для погоста земелька хороша, гольный песочек! В сухом месте песок съедает останки быстро: лет десять – и нет ни гроба, ни его хозяина. Так что от бабушки Кати давным-давно там, внизу, ничего не осталось.
«Но ведь что-то же есть нетленное, раз бабка во снах ко мне так зачастила», – думал Александр Васильевич, освобождая могилки в семейной ограде от редкой здесь травы, сосновых и еловых шишек и сухих веток, накрошенных с деревьев ветром.
Лучи солнца иногда пробивались сквозь раскидистые зеленые ветви, играли на стекле бутылки и стакана, ласкали и обогревали весь земной мир, где продолжалась жизнь и всё шло своим чередом. «Здесь, на поверхности земли, жизнь торжествует, – продолжал размышлять Веснин, – а там, внизу, вечную и бесшумную свою работу делает песок. И превращает в прах недавнюю жизнь человека, вместе со всеми его тревогами, заботами и радостями. А прах этот впитается новыми деревьями, травой и цветами».
Закончив уборку, он налил в стакан водки, помянул бабушку Катю, деда Василия и всех родственников, нашедших приют здесь, рядом с ними. Выпив, закурил и, почему-то оглянувшись по сторонам, начал свой рассказ-ответ на вопрос бабушки Кати, мысленно обращаясь к ней. В этот рассказ сами собой вплетались запомнившиеся Веснину воспоминания отца о последних днях жизни деда Василия, об отцовских братьях и сестре, о той поре, когда отец был еще молод.
– Как они там? А вот как… Через год после твоей, бабушка, смерти дед Василий остался в доме совсем один. Дочь Зина, с пригуленным от залетного лихого сплавщика ребенком, перебралась в поселок, выйдя замуж за конюха-инвалида.
Старший сын Василий переехал в соседнюю деревню к больному тестю-вдовцу. Средний, Павел, после того как в драке разбил голову парню-одногодку велосипедной цепью, скрылся в Ленинграде, устроился там на завод в кузнечный цех. Младший, Алексей, какое-то время жил с отцом, помогал ему плотничать, но чаще болтался в поселке у своих друзей-приятелей. Какое-то время сучкорубом поездил в лес, пока не забрили в армию.
Дед, оставшись в одиночестве, подумывал было жениться: вдов после войны в округе немало в одиночестве маялось. Но Зина протестовала, не желая в родном доме видеть чужую женщину. Вот так, бабушка, твой Василий без должного пригляду (и дочь, и сын, конечно, навещали, но один мужик, тем более старик, он и есть один) и прожил в необихоженном доме несколько лет. Пока не заболел шибко. Тогда Зина и забрала его к себе, в прокуренную комнатушку поселкового барака. Как можно было впятером, – двое взрослых, два ребенка и больной старик, ходивший под себя, – существовать на двадцати квадратных метрах, нынче и представить, конечно, сложно. Но ведь не просто ютились, а и детей растили, и праздники справляли, и жизни радовались! Много воды утекло с тех пор… Уже и дети твои успели состариться и отойти в мир иной, по-разному прожив отмеренное…
Веснин вздохнул, еще налил водки, неторопливо выпил. Достал сигарету, однако не закурил, а продолжил рассказывать.
– У Зины жизнь получилась бурной, особенно на склоне лет. Сначала вроде бы всё складывалось, как у всех: работа (в основном, техничкой при разных конторах), домашние заботы, как у всякой бабы в рабочем поселке; два сына росли. Но как только выросли они, встали на собственное крыло, тут ее и закружило. Оставив в добротном доме однорукого Михаила (к тому времени они выбрались из барака, купив просторную избу на краю поселка), уехала к сыновьям в Архангельск, где быстро нашла себе другого хахаля, тоже Михаила, мужика видного, языкастого, но страдающего тем же недугом, что и прежний муж. Крепко закладывал за воротник и новый Михаил – потому, видать, и из первой семьи его выперли как негодного элемента. Однако и в новой семье прожил недолго… Похоронив своего «орла», Зина подалась ближе к родине: разменяла архангельскую коммунальную комнатку на такую же в Костроме. И, устроившись и оглядевшись, вновь взялась за обустройство личной жизни.
Как-то, приехав погостить к подругам в родной поселок, высмотрела там зачуханного, вечно пьяненького, плюгавенького мужичка, тоже из семьи женой выгнанного, по возрасту годящегося ей в сыновья. Привезла его в Кострому, надеясь под каблук задвинуть, но от пагубной привычки отучить, конечно, не смогла. Может, оно и к лучшему вышло. А если бы вдруг получилась у нее эта затея? Проснулся бы однажды трезвый, по годам еще ядреный мужик и, увидев рядом пополневшую женщину, в приличных годах, когда от дамских прелестей остаются лишь одни воспоминания, – сиганул бы из семейного гнезда, куда глаза глядят… А так – жили как-то. Ну, попивал Борис, случая не пропускал, если выпадал таковой, чтобы под завязку набраться. Но под бдительным оком опытной супруги особо не забалуешь…
Умирала Зина тяжело, от цирроза печени (а ведь трезвенница, в отличие от всех своих мужей, да и сыновей, была абсолютная). Просила, чтоб похоронили здесь, в семейной ограде. Но был август, сыновья и братья не решились везти тело за триста километров…
Теперь пора было поведать бабушке Кате о другом Василии, отце Веснина. Но, уже решившись это сделать, Александр Васильевич никак не мог приступить к такому рассказу, терялся. Что и как говорить о близком, дорогом ему человеке, которого он хорошо знал более полувека и который сейчас виделся ему таким разным в разные периоды жизни? Мысли Веснина наслаивались одна на другую, путались. Воспоминания его об отце, – и довольно яркие, свежие, и уже давние, притупившиеся, – перемешивались со всплывающими из глубин памяти рассказами отца о себе.
Вдруг вспомнился ему рассказ отца о том, как тот в детстве заболел скарлатиной – страшной болезнью для деревни тридцатых годов. Жизнь мальчишки висела на волоске. «Хоть бы Бог прибрал Васеньку, избавил от мук», – вырвалось как-то у матери. Сказала она такое, может, оттого, что от своих собственных страданий уже извелась. Или оттого, что вправду не надеялась на выздоровление сына: чем раньше Господь приберет, тем меньше мучений на его долю выпадет… Но, как бы там ни было, взъярился Василий Никитыч, услышав такие слова: «Э-эх ты, ёштвой сломать! Что ты мелешь-то, а? Что мелешь? Как язык у тебя такое повернулся брякнуть?».
Пора была сенокосная, стог метали. Вилами хотел поучить Василий Никитыч свою жену за непотребные слова, но не достал: та уже на макушке стога стояла…
Веснин на какое-то время отвлекся от своих воспоминаний и долго смотрел с печалью вдаль, за серый кладбищенский забор, будто пытался высмотреть там что-то из далекого и призрачного теперь времени. Но вскоре вновь вернулся к мыслям об отце. И поневоле хмыкнул, крутя головой: ах, как же она, эта судьба (или сама жизнь?), выворачивает человека наизнанку, как с годами изменяет его внешне и внутренне! Не только здоровье отбирает, но и характер коверкает до неузнаваемости. Из доброго, спокойного, не способного ни с кем поругаться мужика – да не то что поругаться, а даже бранного слова не умеющему сказать кому-либо! – Василий Веснин превратился со временем в сварливого, всеми и всем недовольного старика.
Александр Васильевич припомнил: мать рассказывала, что вообще-то характер у бати был покладистый. Случится, разругаются в пух и прах мать с соседкой, теткой Евстольей, неделями друг дружке даже «здравствуй» не скажут. А отец идет на работу и, как ни в чем не бывало, возьмет да и крикнет через забор: «Здорово живешь, тетка Евстолья! Добро ли ночевала?».
Еще вспомнилось Александру Васильевичу: любил он в свои юные годы походить с ружьем по заречным озерам. Бывало, припозднится, темнота августовская разом навалится. Выскочит к реке, а на том берегу знакомая фигура маячит. Это отец, переживая, не случилось ли чего, пришел его встречать…
Но тут же и другая картинка всплыла в памяти. Жил тогда отец, вдовый уже, старый и больной, в доме младшего сына. Сидит как-то на своей кровати и в пух и прах разносит сноху. Александр тогда, в ответ на нелепые упреки, что-то возразил ему, и отец со злобой, сдобренной матами, закричал:
– И тебя опоили! Какой сулемы тебе дали? Скажи, скажи! И не приезжай на х… больше (никогда не матерился отец раньше, а тут…). Не хочу видеть такого зверя! И на похороны не приезжай! Добрые люди похоронят!..
Эти два воспоминания вовсе не предназначались для бабушки Катерины. Веснин потушил их в памяти, налил в стакан больше обычного и медленно вытянул водку, будто горьким хотел заглушить горькое.
– Эх, бабушка! Глянула бы ты на своего восьмидесятилетнего сына – и у тебя сердце бы кровью запеклось! Смотри: страдающий от разных болезней, едва способный передвигаться, все-таки приехал он сюда, на твою могилу! Приехал, чтобы с тобой и с отцом попрощаться…
Он посидел еще некоторое время, постепенно гася в себе воспоминания о дорогом ему человеке. Сидел, всматриваясь в голубое небо над дальней речкой, в зеленый, с редкими еще, бледно-желтыми пятнами, лес. Потом продолжил свой монолог.
– Вот и второй твой сын, Павел, пока жив был, часто к тебе на кладбище приезжал. И оградку, и памятник вам с дедом они с Алексеем установили. А жил дядя Паша легко: ни больших забот, ни переживаний, ни серьезных болезней. Физа, его жена, в первые же дни семейной жизни заявила: «Давай поживем для себя!» И двое деревенских людей, оба из многодетных семей, оказавшись в послевоенном Ленинграде, стали «жить для себя». Когда хватились, было уже поздно: ребенка Физа родить не смогла. Зато в коммунальной их квартире приемышем поселился кастрированный кот. Его большой портрет в красивой рамке под стеклом висел над кроватью супругов.
К тому времени Павел стал первоклассным водителем. Сначала работал в таксопарке, потом крутил баранку персональных машин крупных городских чиновников. Возил и адмирала, начальника Нахимовского училища, и главного архитектора города. Получил среднее образование в школе рабочей молодежи. Упорства хватило даже на то, чтобы поступить на вечернее отделение юридического факультета университета. Правда, по обретенной специальности ни дня не работал: поздно уже было менять профессию. Да и так до поры до времени всё складывалось более-менее благополучно – жили они с Физой не сказать что кучеряво, но двоим на скромное существование хватало.
Но потом начались серьезные проблемы со здоровьем Физы, потребовались дорогие лекарства. Да и на всё прочее цены тянулись только вверх. Квартиру в новом кирпичном доме супругам пришлось продать, купили другую – в старом панельном доме, меньших размеров. Однако разница от продажи-покупки позволила сносно протянуть до конца девяностых. А потом Физа умерла и Павел оказался совершенно один в огромном городе, со скромной пенсией. Жить становилось не только финансово трудно, но и опасно: одинокие старики в те времена слишком часто неожиданно умирали…
Чувствуя недобрую перспективу, Павел быстро смекнул (и опыт жизненный, и юридическое образование заставили сообразить), что пора ему убираться из Питера, чтобы в одночасье не оказаться бомжом или, того хуже, неопознанным трупом в морге. Он спешно продал питерскую однушку и купил маленькую однокомнатную квартирку на первом этаже «хрущевки» в Костроме, рядом с многочисленными родственниками. И опять разница в цене квартир позволила ему безбедно прожить еще несколько лет.
Обзавелся Павел и новыми знакомствами. Предпочитал поддерживать отношения с молодыми женщинами, ну а это, понятное дело, требовало денежных средств. Поскольку иных источников пополнения иссякающего бюджета, кроме квартиры, у него не имелось, старик попытался выжать из нее последнее: по договору отдал ее городу, в обмен на ежемесячную денежную ренту. Да это бы и ладно, дело хозяйское, но вот свои отношения с родственниками второй твой сын, бабушка, совсем свел на нет.
Шел ему уже восемьдесят пятый год, но здоровье было более или менее в нормальном состоянии. И он, представь себе, рассчитывал «обхитрить город», пожить еще какое-то время за его счет. «Вон Толька, двоюродный брат, девять десятков на своих ногах бродит по свету, а и выпить по сию пору не дурак, и табак зобает по-прежнему», – говорил он мне в одну из наших редких последних встреч. Сам дядя Паша к папиросам никогда не прикасался, а рюмку полвека уже поднимал только за компанию, да и то чисто символически. Постоянно следил за своим здоровьем, ежегодно проходил платные обследования, регулярно сдавал всевозможные анализы. Но разве судьбу перехитришь, бабушка Катя? Многих людей можно обмануть, от многого в жизни можно откупиться, но вот от судьбы никому из нас убежать не дано…
Веснин задумался. Завертелись в голове слова «судьба», «рок», «матрица», «программа». Он вдруг вспомнил былые свои мысли обо всем этом. И, обращаясь к бабушке, повторил их:
– В каждого человека, как мне кажется, изначально закладывается генетическая (или какая еще там?) программа. В ней записано, сколько и как тому человеку жить, какими обладать способностями и талантами. Подкорректировать эту программу могут только два условия: образ жизни и случайные обстоятельства. Обстоятельства – это, например, та же война, или несчастный случай, или перестройки всякие, задуманные верховной властью. А образ жизни – это то, как человек распоряжается сам собой, своим телом и душой. Но программа – главное! Поменять ее нельзя. Вот, смотри: как ни следил за своим здоровьем дядя Паша, как ни поддерживал его, какие профилактические мероприятия ни проводил в платных клиниках, но дотянуть даже до возраста своего двоюродного брата Анатолия, заядлого курильщика и выпивохи, ему не было предписано свыше. Так-то вот…
Закончу-таки я, бабушка, рассказ о Павле. Хотя финал того рассказа драматичен.
В конце прошлой зимы я позвонил ему. В этот раз на мои вопросы он отвечал не односложно, как обычно, – рассказывал обо всем подробно. Даже пытался бодрым голосом шутить: «Сегодня, Санька, хорошая передача будет на канале “Культура”. Я им заказал концерт – вечер романса! Только что позвонили мне из Москвы, персонально предупредили, чтобы в шесть не забыл включить телевизор. Так что сегодня буду слушать цыган!». Ну, посмеялись мы с ним вместе…
А через несколько дней попытался я, бабушка, поздравить с праздником бывшего солдата советской армии. Но телефон на том конце провода молчал. Молчал в течение всего дня, молчал на следующий день и еще через день. Появилось у меня беспокойство. Вскоре узнал я, что не отвечал дядя Паша и на другие телефонные звонки. И даже на звонки в дверь, когда пришли навестить его другие родственники. Сначала мы все предположили, что взял наш бодрый старичок путевку – и отдыхает себе где-нибудь в санатории под Костромой. Но прошла еще неделя, и выяснилось, что названный пенсионер никуда никакую путевку не заказывал. Вот тогда и возникло у нас подозрение на худшее… Заявление в полицию, правда, не прояснило ситуацию. Участковый потолкался у дверей, понюхал в замочную скважину, пояснил нам: «Не имеем права вскрывать: частная собственность. Может, дед ваш у какой-нибудь бабки на соседней улице кантуется. А мы дверь начнем вырезать! Пока нет повода для этого. Вот если пойдет запах, если ваш пенсионер богу душу отдал – тогда уж и вызовем «эмчеэсников»…
А запах, бабушка Катя, не чувствовался и неделю спустя. Но всё же решили мы слегка отогнуть слабо укрепленную решетку на кухонном окне и открыть форточку. Как только внутренняя фрамуга распахнулась, образовавшийся сквозняк вынес в дверные щели такую порцию смрада, что всему пятому этажу ясно стало: в одной из квартир давно уже лежит покойник.
Через три дня отпели Павла в церкви. Похоронили в отдельной могиле, помянули в одной из городских кафешек. Город, ставший владельцем квартиры, рук к похоронам старика не приложил. Внук твой, бабушка, племянник дяди Паши, организовал всю эту печальную процедуру…
– И что тут сказать? – глядя на белые кресты бабки и деда, вслух пробормотал Веснин. – Нечего сказать… Разве что одно: беззаботно прожил дядя Паша свою жизнь, да большие заботы после смерти оставил. Но и эти заботы уже изжиты… Отчего, спрашиваешь, помер-то? А кто его знает? Экспертиза не определила…
Устав от своего внутреннего монолога, Веснин посидел сколько-то, ни о чем не думая. Но вдруг одна мысль выскользнула из-под спуда и мгновенно потащила в туманные дебри размышлений.
– За что отвечает человек, а за что отвечать не может? За факт своего рождения уж никак не ответчик! И за характер, и за собственные физические и умственные способности тоже не отвечает. С чем родился, с тем и живет. Как говаривали у нас в деревне: «Ну, что с него взять? Таким его мамка родила!» А вот за решение, куда пойти в жизни – влево, вправо или прямо – уже отвечает. Всякий человек в жизни – казак вольный. Если, конечно, шифер у него совсем не съехал. Живи, думай, просчитывай свои действия и их последствия. Ну, хотя бы на шаг вперед! Но, опять же, расчеты эти ни от чего нас не гарантируют, бабушка. Взять того же дядю Пашу. Носил он в паспорте бумажку с адресом, куда и кому позвонить, если смерть вдруг настигнет на улице и какие-то люди откроют тот паспорт. Но совершенно не предусмотрел другой случай: а что, если смерть доберется до него ночью, когда он будет спать? Да еще в квартире с железными дверями и решетками на окнах, при отсутствии у родственников и знакомых ключей от дверных замков…
И вновь – в который уже сегодня раз! – Веснин неожиданно потерял ход мысли и увидел внутренним взором давнее – казалось бы, напрочь забытое. Было то в раннем Санькином детстве, когда он два месяца гостил в Ленинграде…
Он в автобусе. Кучерявый дядя Паша, молодой, шустрый, весь как на пружинах, скользит меж стоящих пассажиров и кричит ему на заднюю площадку: «Шурик! Сейчас выходим!» Добравшись до сидящей у окна Физы, тянется к той губами и громко говорит: «Латуля! Целовку!» Немолодые уже супруги всегда целуются, расставаясь даже на полдня. Автобус тормозит, и они с дядей Пашей выходят на проспекте Добролюбова, а Физа едет дальше, до Невского проспекта, где работает официанткой в ресторане.
И тут же еще одну картину внезапно вытащила память Веснина из своих запасников. Июльский теплый вечер. Он, семилетний мальчишка, сидит на велосипедной раме, а за его спиной тяжело дышит дядя Леша, крутя педали. От дядьки пахнет водкой и одеколоном «Шипр». Они едут по песчаной дороге в соседнюю деревню, где сегодня гуляют престольный праздник – Иванов день.
А после праздника едут обратно. Дядька Леша уже сильно пьяный. Колесо часто подворачивается в песке, ездок теряет равновесие и падает. Следом кубарем летит в дорожную пыль и Санька. Но не больно ему и не страшно, а наоборот – весело. Совсем недавно дядька из армии пришел – и вот теперь таскает всюду за собой старшего племянника!
Почему именно это сейчас вспомнилось? Почему память возродила именно этот момент? Ведь много было и других… Ох, сколько всего было связано с дядей Лешей!
Веснин приложился к стакану. Но пить уже не хотелось, и он вылил остатки водки на могилы. Посидев немного, стараясь сосредоточиться и уловить нужное направление мысли, Александр Васильевич решился довести рассказ-ответ до конца. И повел речь о младшем сыне бабушки, Алексее.
– Отслужив армию, дядя Леша в деревне не остался, перебрался к брату в Ленинград. Устроился в автоинспекцию, надел форму. Окончил вечернюю среднюю школу и автодорожный техникум. Женился поздно, под тридцать лет, но в первой семье прожил всего три года – и подраставший сын не удержал. К тому времени с нелюбимыми сержантскими погонами дядька мой уже расстался, перешел на работу в таксопарк. Водку пил и в выходные, и в праздники, и в отпусках. Случайных женщин в бурный период быстро пролетавшей жизни было у дяди Леши много, но ни с кем из них создать прочные семейные отношения у него не получилось. Сойдутся, поживут год-два и разбегутся в разные стороны. К сорока пяти такая вот жизнь, бегающая челноком между работой и случайными связями, стала ему надоедать. Решил остепениться. Отдыхая как-то в санатории, познакомился с очередной «симпатией» (так он называл временных подруг), которая, как и он, наплавалась к тому времени в бурном море легких отношений и, так же как и он, захотела семейного уюта и покоя. И вроде бы получилось наладить такие отношения…
Веснин прервал сам себя, посмотрел в сторону, припоминая то, что он знал о дяде Леше. И продолжил:
– Зарабатывал он на жизнь не только крутя баранку. Скупал по дешевке приватизационные чеки и через друга, занимавшего какую-то немаленькую должность в руководстве Архангельского морского порта, вкладывал их в этот порт. Появились доллары. Выкупил у таксопарка «Волгу», приобрел нового «жигуленка» и поставил его в бокс гаражного кооператива. Тамара взяла на себя домашние хлопоты. Всё как будто складывалось у них удачно: двухкомнатная квартира на Морском проспекте, машины, гараж, относительный достаток… Жить бы да жить, готовясь встретить тихую и беззаботную старость. Но и у Алексея получилось по той же поговорке: «Человек предполагает, а судьба…» Судьба, бабушка, опять распорядилась по-своему.
Как-то на Московском вокзале, поднимая в багажник тяжелую сумку клиентки, дядя Леша вдруг почувствовал резкую боль чуть выше живота. Боль вскоре отступила, но затем с настойчивой регулярностью стала напоминать о себе в разное время суток. За те же доллары врачи основательно обследовали ему все внутренние органы. Больной оказалась печень, причем болезнь была уже в той стадии, когда лечение не помогает, а лишь на время снимает боль. Не спасли ни разного рода знахари, ни прочие экстрасенсы, каких к тому времени развелось повсюду, как мокриц в сыром подвале…
Дядя Павел мне потом рассказывал: «Выписали Леху в конце апреля, я приехал забирать его домой. Стоит у ворот худенький, сгорбившийся старичок – при его-то росте метр девяносто! – стоит с целлофановым пакетиком. Так жалко стало, до слёз… Угробил печень водкой, дундук! Придет, бывало, к нам в выходной или в праздник с семисотграммовой бутылкой водки – и тянет ее, пока не высосет всю бутылку. Я, говорит, приговорил ее к смертной казни и должен привести приговор в исполнение. Выпьет всё до дна – и не пьян, пойдет – не качнется…».
В глубине кладбища, на старой сухой сосне, дятел давал трещотку, человеческие голоса слышались в стороне, на взгорке, где маячили памятники свежих захоронений. Веснин отяжелел от выпитого, вставать с металлической узенькой скамеечки не хотелось. Тучи попугали дождем и ушли на север, за реку. Выглянуло закатное солнце, оживив всё вокруг.
Он посидел еще сколько-то, прикрыв глаза, потом убрал в сумку пакеты, бумагу, пустую бутылку и стакан, поднялся и рассыпал остатки трапезы на могилы. Распихал конфеты и печенье по карманам.
«Ну что, бабушка, кажись, доложил тебе основное», – вслух сказал Веснин и вдруг вспомнил, что он сейчас старше бабки Кати на целых пять лет. Грустно усмехнулся: «Как быстро жизнь пролетела! Неужели так быстро?» Постоял, прочитал про себя недавно выученную молитву «Отче наш». Хорошо легли ее слова на душу, особенно «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Но перекреститься, хотя и не было никого рядом, не смог.
Навестил могилы дедушки Ивана и бабушки Александры, родителей матери, но не задержался особо: там и присесть негде было. Убрал мусор, поправил холмики под железными пирамидками, разложил конфеты и печенье. Уже когда шел к большаку, вспомнил, что и бабушка Александра умерла, не дотянув до шестидесяти. И ее он не помнил. Видел, правда, в детстве на фотографии строгую женщину в сером сарафане и темном платке. Она сидела, а рядом стоял мужик в косоворотке в горошек, с аккуратной небольшой бородкой, положив ей руку на плечо. Это был дед Иван в молодые годы.
Деда Коновалова Санька Веснин знал хорошо: лет двенадцать делил с ним постель то дома, рядом с печкой, в холода, то на сеновале, в пологу, – в теплое время года. По-доброму часто вспоминал он его. А вот бабка Шура никогда – ни в детстве, ни в зрелые годы – в его фантазии и сны не приходила. Что-то о ней рассказывала мать, но рассказы эти не будоражили Санькиного воображения. Была и была – вот и всё. А почему так случилось? Почему бабушка Катерина засела в его подсознании, а вот бабушке Александре не оказалось там места? Он неожиданно понял это только сейчас. Дело было в том, что бабку Катю он всегда жалел. Не осознанно, не головой, – а сердцем, душой, если она и в самом деле есть. Жалел, всем существом своим проникая в ее несчастья, в человеческие ее страдания и боль…
Он шел вдоль большака – и думал, думал обо всем, что случилось в жизни: и с ним самим, и с его родственниками, и с теми, кто окружал их.
– Наверное, и в твоей жизни, бабушка Катя, случались счастливые минуты, и простые радости тоже посещали тебя не единожды. Наверное, было всё это. Как же без этого? Но вот не могу я представить твою жизнь не то что счастливой, но даже и относительно благополучной… Другое дело – жизнь Коноваловых. Неглупый и гибкий Иван оценил в свое время обстановку с коллективизацией правильно, понял, что всё это – всерьез и надолго. И одним из первых вступил в колхоз, отдав туда лошадь с жеребенком и двух коров. Будучи человеком грамотным, долго работал колхозным счетоводом. Сын его стал офицером, дослужился до полковника, покинул этот мир на девятом десятке. Старшая дочь, закрепившись в городе, много лет возглавляла плановый отдел крупного строительного треста, на своих ногах благополучно дошагала до девяноста четырех лет. Меньше повезло со здоровьем младшей дочери, моей матери. Но и она по возрасту подтянулась к восьмидесятилетнему рубежу. И все дети Ивана Коновалова имели крепкие многодетные семьи…
Он шел и думал о превратностях человеческой жизни, задавая сам себе безответный вопрос: почему у одних эта самая жизнь складывается более-менее благополучно и идет ровно, без вывихов и сломов, а у других – как начнется неудачно, так и виляет кривым колесом по ямам и ухабам до конца дней своих? И детям от судьбы таких родителей не белый каравай на стол ложится, а падает лишь черная корка в дорожную суму…
Но сколько ни терзал сам себя трезвеющий потихоньку Веснин, пытаясь найти удовлетворительный ответ, ничего вразумительного у него не придумалось.
После той поездки на кладбище баба Катя перестала приходить в сны Александра Васильевича. Постепенно он начал забывать и ее вопрос, и свой развернутый ответ. Не то чтобы этот ответ напрочь забылся, а как-то незаметно отошел в сторону, на задний план, потускнел. Но все-таки зацепился острыми краями за его сознание и иногда давал о себе знать непонятной, щемившей сердце грустью.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись третья: «Поработаю пером и чернилом: сорву голову, выну сердце…»
«Чем делают записи в судовом журнале?» – спросил я у знакомого капитана. «Карандашом с твердым или полумягким графитом, либо чернилами, но обязательно стальным пером, – ответил он, – чтобы можно было записи восстановить в случае кораблекрушения. Графит – не размывается, а сталь – процарапывает след в бумаге».
А какими чернилами писать в судовом журнале «Паруса»? Тут за опытом я обратился к «Лоции в чернильном море» Георгия Давыдова («Новый мир», № 6, 2018, стр. 28).
Лоцман сообщает: «Никогда не замечали, что чернила шариковой ручки пахнут давленой миндальной косточкой? (Вот-вот, вы начали черкать по страничке и принюхиваться – хорошо, не видят домашние…) Не знаю, из какого-такого нефтепродукта размешивают теперешние чернила, но прежде чернила называли орешковыми, поскольку источником чернильной жидкости (несмело-коричневого цвета) служили так называемые “чернильные орешки” – круглые наросты вроде бородавок на дубовых листьях. Поначалу зеленые, к концу лета они набирают тёмно-дубовый колер. Если их раздавить – вытечет жидкость, на ней-то и настаивают чернила. А поэт и философ Владимир Соловьев считал, что чернильный орешек помогает от почечуя (недуг вообще-то писательский). Не перорально, нет, в кармане носил».
Лоция – руководство для плавания по морю, в данном случае – чернильному. Но, похоже, слабовато знает глубины и состав чернильного моря лоцман «Нового мира», мелко плавая лишь по «сокам» и «жидкостям», или вообще служит на берегу. Что же: «Чернила соблазнительны. Они имеют нечто общее с вином, чтобы не сказать с кровью» – заметил остроумный русский поэт, собрат Пушкина по перу, князь Петр Андреевич Вяземский. Соблазнительно и мне – составить свою лоцию и заполучить хорошие чернила для судового журнала…
…Земля под ногами усыпана яркой, осенней листвой. В стихах часто сравнивают ее со словами. Да и правда – в иных листьях таится сила, способная закрепить слова на бумаге на многие столетия. Люди, еще что-то пишущие, теперь знают, что с их бумагами может случиться то же, что и с пропавшей грамотой у Гоголя. Разбирая свои блокноты времен школьных и студенчества, я все чаще замечаю: местами исчезли мелкие буквы, строчки, а то и целые листки, особенно если они исписаны зелеными чернилами «Радуга».
А под ногами у нас в сентябре и в октябре – как раз те чернила, которые могут стоять до восьмисот лет. На опавшей дубовой листве различимы, говоря языком ботаники, так называемые галлы, то есть чернильные орешки. На некоторых листьях можно найти даже по два, по три таких орешка темно-красного или бурого цветов.
По рецептам восемнадцатого столетия их измельчали и опускали с добавлением других компонентов в виноградное вино. Так что афоризм князя Вяземского можно понимать и в прямом смысле. Вот один из таких рецептов: «3 штофа белого вина, или жидкого и светлого пивного уксуса, 1 фунт чернильных орешков, 10 лотов камеди, 4 лота квасцов, горстка соли…» Получались «добрые чернила». Позднее обходились обычной водой, но дождевой. Считалось, что особенно хороша вода после мартовских дождей.
Само название чернил говорит о том, что этот состав для писания – черного цвета. В старинных рецептах XVI века его называют «чернило книжное, доброе». То дубильное вещество, которое содержат наросты на листьях, в изобилии находится также в дубовой или ольховой коре. Для того, чтобы приготовить это чернило книжное, то есть для писания книг, рекомендуется «устрогав зеленые корни ольховые, очистить их от мха». Затем кора должна была полежать три дня и высохнуть. На четвертый день ее надо положить в глиняный горшок, налить «пива ячного» и кипятить в печке, чтобы состав упарился. Полученный отвар процедить, а затем «поставить чернило на гнездо», то есть залить отвар в отдельный сосуд и – «мечи туда железа довольно». Иногда уточняли, что железо, старые гвозди или другие обломки должны быть ржавыми, в других рецептах – чистыми. Горшок внутри рекомендуют глиняный, не муравленый – «чернило не любит гладкости».
Дубильные вещества вступают в реакцию с солями: окисью и закисью железа. Для того, чтобы реакция эта протекала быстрее, в гнездо добавляли уксуса, кислого меда или просто доливали кислых щей, пробуя состав на вкус, «чтобы чуть кисло было». В отвар коры хорошо положить и толченых чернильных орешков. Горшочек с чернилами стоял в месте, «где ни холодно, ни тепло было», 8–10 дней, затем чернило снимали с гнезда и процеживали. Для придания более глубокого цвета и густоты добавляли вишневый клей, по-иному, камедь, или смолу южных акаций – гуммиарабик. Цвет «чернила книжного» – от глубоко черного до буро-ржавистого. А гуммиарабик, кстати, увековечен и Шекспиром. Отелло в своем предсмертном монологе свои слезы по безвинно задушенной Дездемоне, сравнивает с «целебною смолой деревьев аравийских».
Сохранились книги двенадцатого века, написанные такими долговечными чернилами. Иногда бумага вокруг строк на странице выпадает от ветхости, а буквы – остаются. Когда начинаешь писать свежими чернилами, то буквы выходят бледными, но затем темнеют. На свету на третий-четвертый день происходит окисление солей железа, и они становятся плохо растворимыми в воде: их трудно смыть с бумаги.
По рецептам восемнадцатого столетия (например, того, где упомянуты «3 штофа белого вина») чернильные орешки смешивали уже прямо с солью железа: железным купоросом. Рецепт не изменился и в следующем веке, а орешки можно было купить в магазинах. Продавались они, судя по ценам конца XIX и начала XX веков, дороже многих продуктов. Так, например, в 1875 году в нашем городе Мышкине фунт чернильных орешков (410 граммов) стоил 80 копеек. А один фунт телятины – восемь копеек, хлеба черного – две копейки, масла коровьего фунт – 25 копеек. Перья гусиные, используемые для письма, стоили – 25 штук – 12 копеек. А вот стальные были довольно дороги: за коробку их надо было выложить целый рубль.
Рецептов разных было очень много. По одним орешки измельчали, затем заливали дождевой водой, по другим рецептам, немецким: «белым ренским вином» – и доводили состав до кипения. Добавляли гуммиарабик, квасцов, яблочного уксуса. Для большей сохранности – соли поваренной. (А в одном случае даже зачем-то: «долить урины»!?) Квасцы придают чернилам мягкость, они лучше пристают к бумаге. Такие чернила приготавливались уже за 3–4 дня: реакция купороса с дубильными веществами, находящимися в орешках, проходила быстрее, чем с простым железом. Ходовые рецепты для приготовления состава из чернильных орешков можно отыскать в старых хозяйственных книгах «для небогатых помещиков». Одна из самых известных таких книг, изданная в Москве в 1805 году: «Большой Алберт».
Эмоционально точно Георгий Давыдов назвал цвет тех чернил «несмело-коричневым». Таким он стал за века: в этой «несмелости» что-то душевное, домашнее, тепло руки в этих буквицах…
Этими – так называемыми железо-галловыми – чернилами писали цари, чиновники в канцеляриях, в домашнем обиходе. Теми же чернилами написаны стихи Пушкина и Лермонтова, романы Толстого. Ими пользовались дети в школах. Многолетним опытом установлено, что они не токсичны. Еще в своих «Георгиках» Вергилий отметил, что больных пчел лечат, подкармливая их мёдом, смешанным с толчеными чернильными орешками. Раз осенью собирал я их с палой дубовой листвы в Мышкине у библиотеки. Врач шел мимо, заинтересовался, подумав, что я орешки собираю для лечебных целей. Отвар их, как он сказал, используют и при онкологических заболеваниях. Дубильные вещества, как известно, обладают кровоостанавливающими свойствами, поэтому, видимо, орешками (а отнюдь не из чудачества) и пользовался Владимир Соловьев.
А вот еще одно мнение о галлах, совсем из другой области знаний, которое приводит известный русский философ Николай Онуфриевич Лосский в своей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция»:
«Растения, образующие под влиянием укола насекомого галлы, в которых развиваются личинки насекомого, оказывают им изумительные услуги без пользы для себя, скорее, во вред себе; яички, а потом развивающиеся в них личинки защищены от врагов твердою оболочкою галлы; наоборот, внутри камеры развивается сочная ткань, служащая им пищею; когда наступает пора для личинок выйти из камеры и окуклиться, галла у разных растений различными способами раскрывается, иногда, например, внутренняя часть ее выбрасывается наружу набухшею внешнею оболочкою и т.п. Эти удивительные проявления «альтруистического» служения одних существ другим не могут быть объяснены ни дарвинизмом, ни психо-ламаркизмом».
Фиолетовые же, химические чернила появились уже в конце девятнадцатого века, но в широкий обиход вошли позднее. Технология производства их подробно изложена в словаре Брокгауза и Эфрона. В СССР в 60–70-е годы прошлого века широко были известны чернила пяти цветов «Радуга» для авторучек. (Самые стойкие из них – черные, а самые слабые – зеленые). Потом на смену им пришли шариковые авторучки. По результатам проведенных учеными опытов, чернила «Радуга» черного цвета полностью исчезали после непрерывного облучения солнечным светом в течение 44 часов. При ультрафиолетовом облучении выцветали значительно раньше – примерно за 45 минут. Паста чуть лучше. К тому же она и водой размывается труднее. Правда, так утверждали в далекие уже 1970-е годы. А теперь порой оставишь исписанный шариковой ручкой листок на солнце, на подоконнике, а через месяц – почти все строчки выцвели, видны лишь бледные следы. Видимо, паста для авторучек раньше была качественнее. Еще в конце 60-х годов минувшего века, когда на смену школьным чернилам пришли шариковые авторучки, написанное ими так быстро не выцветало.
По этим данным не трудно представить судьбу всех наших документов, написанных авторучками, как чернильными, так и шариковыми. «Радуга» легко смывается водой и выцветает. Причем после этого текст, по утверждениям специалистов, невозможно восстановить даже криминалисту. Иногда, правда, случается, что выцветают и чернила из чернильных орешков, но химик их может восстановить по сохраняющимся на бумаге солям железа.
На Востоке писали заостренной тростниковой палочкой, каламом. У нас – птичьими перьями, чаще гусиными. Богатые люди – лебедиными или журавлиными. Использовали и вороньи, как, например, Бетховен. Куриными писали только чудаки, как друг Чехова, поэт-сатирик Илиодор Пальмин. (Так он куриц почему-то любил – они у него прямо в квартире жили!)
Перо надо сначала закалить, потом очинить. Срезали кончик, называемый «очином», прочищали стержень вглубь, потом раскалывали, проделывали дырочку сбоку: во время писания её зажимали пальцем, удерживая в стержне чернила. Верхний пух тоже срывали, чтобы не мешал. Старинная народная загадка про писчее перо так рисует эту операцию: «Сорву космату голову, выну сердце, дам пить – станет говорить». Птичьи перья быстро изнашиваются. Так, царица Екатерина II вставала рано и садилась за документы, за утро, как она говорила, «исписывала два пера». Стальные перья из Европы в России появились уже при императоре Николае I.
В 1984 году о моих опытах с чернилами написали в районной газете. Заметку перепечатала областная ярославская газета «Северный рабочий», а из неё – самая крупная газета тех лет – «Правда». После этой публикации меня вдруг спешно вызвал к себе второй секретарь мышкинского райкома и сообщил, что рецептом чернил заинтересовались в ЦК КПСС и велели срочно передать туда через обком партии все данные. Я сначала даже растерялся. Никаких секретов и рецептов у меня нет, как чернила «варили», можно узнать в летописях и старинных книгах. Мои коллеги по районной газете ломали головы: для чего в ЦК КПСС понадобилось «чернило книжное»? Один сотрудник даже предположил, что в Мышкине, наверное, хотят открыть завод по производству этого канцелярского товара, а меня – назначат директором. Дело оказалось проще: в ЦК тогда занимались изготовлением долгосрочных чернил для партийных документов. Кстати, американцы для своих государственных «файлов», по данным тех лет, также использовали железо-галловые чернила с добавкой разных современных химических компонентов.
А после публикации в «Правде» мне стали приходить письма из разных уголков СССР. Оказалось, в нашей стране, немало людей, увлекающихся чернилами. Они пробуют, ищут: кто использует еловую кору, кто – ивовую или отвар луковой шелухи. Один ветеран войны сообщил, что чернилами, похожими на мои, писали в лесу партизаны: в отвар дубовой коры добавляли железных опилок. Обычных, фиолетовых, не было. Некоторые из авторов таких писем жаловались, что у них чернила выходят слишком бледными и просили помочь советом. Сколько рецептов я разослал по таким просьбам – не сосчитать!
Сам же я рецепт этих «добрых, книжных» восстановил с самой простой целью. Мы с однокурсниками по Литературному институту Валерием Шпигуновым и Владимиром Гоголевым решили выпустить рукописный альманах. А долговечность написанного зависит и от чернил. Было это в 1978–80 годах. Мы со Шпигуновым жили тогда в Ярославле, он работал в художественном музее. Валерий неплохо рисовал и стал художником-оформителем нашего альманаха, которому мы дали название «Сретение». Володя Гоголев жил в Москве, он сочинял духовные, метафизические стихи. Я взялся переписать весь фолиант почерком, копирующим скоропись семнадцатого-восемнадцатого веков. То есть «поработал пером и чернилом», как говорили в старину. Эпиграфом к нашему «Сретению» мы поставили древнерусскую пословицу: «Чем глубже схоронится семя, тем оно лучше уродится».
Давно ни Володи, ни Валеры нет в живых. На память о моих друзьях и нашей молодости мне остался фолиант в переплете из бересты, наше «Сретение». Там, кстати, была «опубликована» моя повесть колымская «Василий Нос и Баба Яга». В новом веке ее напечатали Евгений Чеканов в журнале «Русский путь на рубеже веков» и Николай Родионов в «Ростовском альманахе». Позднее я, овладев переплетным делом, изготовил несколько своих рукописных книг: «Семейные рассказы», «Настина книга, или Мысленные кубики», «Словесное семя». Для рисунков использовал цветные, писучие камешки, вымываемые на Волге из откосов глинистого берега. Растирал их на базальте по рецептам иконописцев. Добавлял яичного белка, меду, камеди – как химик: художник же я – никудышный! Писал разными перьями: вороньим, журавлиным, ястребиным, гусиным. В этих книгах – не выцвело ни строки.
Вот таким «чернилом книжным, добрым» я решил вести и судовой журнал «Паруса». Как Георгий Давыдов принюхивается к шариковой авторучке, так и я люблю нюхать свои чернила… Запах! Особливо когда заливаешь отвар в гнездо! Не с чем сравнить: яблочный, цветной… соблазнительно напоминающий о том плоде, который был сорван человеком с запретного райского древа.
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
***
Я жизнь свою пересмотрел
В который раз.
Навел на прошлое прицел,
Прищурил глаз…
Хватило б дерзости и сил,
О жизнь моя!
Но выстрел мой опередил
Грядущий я.
Прошлое нельзя ни стереть, ни расстрелять, оно – есть и будет всегда. Но многие из нас желали бы именно этого – уничтожить свое прошлое, начать жизнь с чистого листа. Задумавшись однажды о причинах, которые делают такой кульбит невозможным, я сказал себе: само это желание лежит в той области, где не действуют законы земного бытия, но ведь по каким-то законам и эта область живет. По каким же?
Наверное, и там обязана присутствовать, какая-никакая, логика, должны быть причины и их следствия. Если даже детерминированность там и нарушена, все-таки непременно должно быть нечто уравновешивающее, сдерживающее, препятствующее уничтожению цельной схемы мироздания.
А если это так, то как только ты наведешь на свое прошлое прицел, в будущем тут же появится некий грядущий «ты», который выстрелит в «тебя сегодняшнего» на мгновение раньше. И, таким образом, «оставит всё как есть».
ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
Сверкнула грозная зарница,
Дух свистнул из-под топора!
Как белый факел, бьется птица
В сухой пыли среди двора.
Порывы к жизни тело мучат
И крылья бьют земную твердь…
А голова кричит беззвучно,
Со страхом ожидая смерть.
Всякий, кто рос в деревне, хоть раз, но видел, как тело курицы, уже лишенное головы, скачет по земле в смертной агонии. В моей детской памяти эта сцена запечатлелась очень ярко, – особенно хорошо запомнилась лежащая на земле отрубленная голова с красным гребешком, разинутым в панике клювом и выпученным оранжевым глазом. Я понял тогда: голова не знает, что смерть уже наступила, голова всё еще в ужасе ждет, когда это произойдет. Значит, вот так случится и со мной? Я тоже не пойму, что я уже умер?
Значительно позже, будучи вполне уже взрослым человеком, я подумал, что дитя, идущее на свет по родовым путям матери, тоже ведь ждет гибели – по-другому понять то, что с ним в это время происходит, оно не может. Его куда-то затягивает из привычного уютного мирка, его мнет и тащит что-то могучее и беспощадное, которому невозможно сопротивляться, – и дитя, видимо, ждет в этот момент смерти. Хотя на самом деле рождается к новой жизни…
Я задумался тогда впервые: может быть, смерти вообще нет как таковой? И нужно всего лишь преодолеть в себе страх перед кратким моментом перехода в новое состояние?
ОБРЫВ
Отцу
Мы над обрывом стояли с тобой.
Дальний закат угасал.
«Там наша родина, – зябкой рукой
В море ты мне показал.
Кажется, там… Или дальше чуток,
Вспомнить сейчас тяжело.
Детство мое, как земля из-под ног,
В эти глубины ушло.
Там похоронены предки мои,
Тихо родня улеглась.
Всё затопили… И, как ни крои,
Не к чему сердцем припасть…»
Ты замолчал. Била берег вода.
Молча я в море смотрел.
Где-то вдали замычали стада,
Луг заливной зашумел.
Пред наступленьем ночной темноты
Волны закат обагрил…
Отчих могил родовые кресты,
Где вы? Отец – позабыл.
Родина, где ты? Хотя бы приснись,
Коль не подняться со дна!
…Как неотвязная, горькая мысль,
Бьется о камни волна.
Это стихотворение я написал в конце 70-х годов прошлого века, только еще начиная свой путь в страну Поэзию, – отсюда и обилие глагольных рифм. Положим, тема была для русской литературы не нова: распутинское «Прощание с Матерой» на тот момент широко обсуждалось в печати уже несколько лет. Но для меня эта проблема была кровной, выстраданной – я с детских лет слышал рассказы отца и матери о затопленной молого-шекснинской родине и много размышлял об этом.
В те же годы мои родители переехали на жительство в волжское село Глебово, расположенное у самого входа на главный плёс Рыбинского моря, – и ушедшая на дно земля предков стала для нашего семейства совсем близкой. С высокого глебовского обрыва в хорошую погоду можно было увидеть вдали, на другом берегу реки, краешек бывшего Мологского уезда, оставшийся незатопленным.
И мы смотрели на землю и воду, разговаривали, вспоминали… Так родились эти строки.
ПРОВОДЫ
Мы жадно смотрели на площадь и двор.
Всё было до боли знакомо,
Но жесткий, железом окованный борт
Уже отделял нас от дома.
Мы жались друг к другу, смешные птенцы,
А площадь гудела, как улей.
Табачный туман разгоняли отцы
И матери свертки тянули.
И всё безнадежнее каждый искал
Озябшую голову сына.
И резкий сигнал над толпой прозвучал,
И тронулась тяжко машина.
И следом за нею мгновенно возник,
Пронзая мальчишечьи души,
Единый прощальный родительский крик…
Но был он всё глуше и глуше.
Весной 1980 года наступил день, который должен был резко изменить мою жизнь – день отправки на срочную службу в Вооруженные Силы СССР.
Я ждал его с тревогой. Но совсем не потому, что опасался загреметь в Афган, где в ту пору наша 40-я армия уже провела в Панджшерской долине свою первую войсковую операцию, – о таком варианте моей судьбы, слава Богу, тогда и речи не заходило. Пугала неизвестность, томило отсутствие достоверных знаний о ближайшем будущем. А что будет с женой и маленькой дочкой – не выселят ли их в мое отсутствие из ведомственной общаги, где мы жили «на птичьих правах»?
Те из моих приятелей, кто уже успел отслужить срочную, рассказывали об армии на удивление скупо, ограничиваясь подчас лишь кратким резюме: «Кто не служил, тот не поймет». Мой отец, за спиной которого были десантные войска и семнадцать прыжков с парашютом, мог поведать только о службе в начале 50-х годов, – но за тридцать лет, как я понимал, в армии очень многое могло измениться. А россказням бравых служак из военкомата доверять особо не приходилось: настраивать призывников на оптимистический лад им было положено по штату.
Серое апрельское утро на сборном пункте положило конец моему томлению. Забравшись в кузов грузовика и найдя себе место на лавке меж двух незнакомых парней, я почувствовал, что за бортом осталось всё, чем я жил в минувшие годы. Полог тента опустился, погрузив нас в темноту, грузовик просигналил и тронулся. Откуда-то грянуло на всю площадь «Прощание славянки», провожающая нас громада людей заголосила, зарыдала, – неизвестность наступила.
…«Афганская тема» все-таки прошла однажды довольно близко от меня: через год в наш полк пришел приказ на отправку десяти мотострелков в состав «ограниченного контингента». Комбаты увидели в этом приказе прекрасную возможность избавиться от тех, кто мешал им спокойно жить, – и на плацу перед штабом выстроились трое самых «борзых» полковых драчунов и семеро полуопущенных «чмошников». По плацу летела белая мартовская поземка, перед маленькой шеренгой сиротливо стояли десять вещмешков. Штабные писаря, офицеры и вообще все, кто был неподалеку, смотрели на эту шеренгу, не отрывая глаз.
Недели через две в часть пришло письмо от одного из отправленных, он писал уже из Кушки. Больше писем не было.
ПОЛИГОН
В эту землю зерно не бросают,
Сроду пашней она не была.
Только танки сюда приползают,
Ободрав глинозем догола.
Да «зилок» полигонной команды
Раз в неделю привозит солдат –
Заменить арсенал деревянный,
По которому пушки палят.
Молча спрыгнут на землю ребята,
Перекурят в машинной тени,
Глядя в поле чуть-чуть виновато,
Словно в чем-то повинны они.
Пораженные цели заменят,
И «зилок» зачихает вдали.
И останутся только мишени
На холмах каменистой земли.
Птица крикнет, как будто от боли,
И вздохнет, засыпая, страна…
Тишина на тактическом поле,
До рассвета стоит тишина.
Войсковые стрельбища, танковые директрисы, тактические поля, – сколько их на наших евразийских просторах! Тот, кому случается смотреть на эти пространства не в пылу военных учений, а в дни затишья, испытывает подчас странное желание: вот распахать бы да засеять всю эту землю… Это подают голос крестьянские гены, которые есть в каждом из нас.
Помню, как я наткнулся однажды в заполярных сопках на небольшой холм, бывший некогда ориентиром для учебных стрельб: из земли кучно, буквально в метре друг от друга, торчали хвосты ПТУРСов. Там их была добрая сотня – и если бы не кустарник, холм был бы похож на огромного ощетинившегося ежа. Зная, что стоимость каждого выстрела равна стоимости автомобиля «Жигули», я только головой покачал…
Боже, сколько же еще веков нам предстоит воевать?
ПЛАТЬЕ
Я одену тебя в поцелуи!
Ни колючие иглы ветров,
Ни дождей леденящие струи
Не пробьют невесомый покров.
Не коснутся горячего тела
Наглый взгляд и чужая рука —
В этом платье свободно и смело
Ты со мною пойдешь сквозь века!
Она рассталась со мной, встретила другого. И сама стала другой… А та, которую я одел в поцелуи, жива до сих пор – и ни один мужчина не в состоянии коснуться ее. Невесомый покров, сотворенный моей любовью, отталкивает чужую руку.
Больше я никого так не одевал в своей жизни. Хотя были, как выяснилось впоследствии, и более достойные кандидатуры.
***
Ты снова плачешь? Ну и пусть –
Меня не сломишь этим плачем!
Я лягу. Я щекой прижмусь
К твоей – заплаканной, горячей.
И пролежу так до утра,
И поднимусь в шесть с половиной.
От горьких слез твоих – мокра
Щека, заросшая щетиной.
В извечном роковом поединке полов женская правда заявляет о себе плачем, мужская – молчанием. Но если мужчина молчит, это совсем не значит, что он согласен с правдой женщины. Социобиологическая щетина мужской правды прорастает сквозь всё – сквозь молчание, сквозь объятие, сквозь страх перед возможностью расстаться навсегда. И сколько ни сбривай эту щетину, она лезет и лезет наружу.
Женщина, которая примет это как данность и не станет требовать от мужчины согласия со своей правдой – победит в роковом поединке. Смирение и покорность – ее лучшее оружие.
Но герои моего стихотворения ничего не знают об этом. Их детство и юность прошли мимо мудрости тысячелетий, в их сердцах царит идея равноправия полов. Никому из них даже в голову не приходит задуматься: а что же это такое – «равноправие»? И что это такое – «право»? И что такое – «равенство»? Не говоря уж о «поле»…
Лишь через несколько десятилетий своей жизни они, может быть, придут к выводу, что люди рождаются и живут неравными, что право – лишь выдумка, предназначенная для ограждения человечества от немедленного самоуничтожения во внутривидовой схватке за ресурсы, а равноправие – сказка для идиотов. А может, и не придут. Может быть, так и отойдут в мир иной со своими смертельными обидами, проистекающими из незнания и нежелания знать правду о мире, о людях и о себе.
Сейчас они, может быть, вновь потянутся друг к другу – юные, страстные, плохо справляющиеся с жаждой любить и быть счастливыми. И сольются в одно целое. А потом, распавшись надвое, вновь заговорят о чем-то. И вновь пробежит между ними искра несогласия, упрямства, вражды, ненависти…
ДВЕ ПТИЦЫ
На старом обрыве стою в тишине.
Бездонное небо двоится.
Подводная птица летит в глубине,
Подводная темная птица.
Я взор поднимаю – другая летит,
Такая же, только другая.
Летят, на мгновенье смыкаясь в пути
И снова разгон набирая…
Куда вы? Друг друга на миг возлюбить?
Обнять одинокого брата?
Иль снова мгновенный обман пережить
И горестно прянуть обратно?
В этом стихотворении, написанном в студенческие годы, я впервые, кажется, поставил перед собой проблему, долго занимавшую меня впоследствии, – проблему существования в нашем мире «двойного бытия»: бытия реального и бытия отраженного (в том числе отраженного в человеческом творчестве). Стоя на обрыве своего стихийного материализма, я видел, что два этих бытия повторяют друг друга, тянутся друг к другу, но никогда не сливаются. Более того, я видел, что если реальное бытие принимает свою отраженную копию за реальность, это всегда чревато разочарованием, если не трагедией.
Значит, и мировая литература, отразившая человечество в своем громадном бумажном зеркале, – всего лишь продукт отражения, великий мираж? Я не мог с этим согласиться: разве я стал бы самим собой, если бы не читал книг?
Выходит, отражение может стать новой реальностью, «вторым бытием» – и начать влиять на оригинал, на первозданную жизнь?
Смотря на летящую над рекой птицу, раз за разом пытавшуюся установить контакт со своим летящим в воде двойником, я думал о том, что всему живому на Земле необходимы зеркала…
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛЕТА
Окрестный воздух раскаля
В полете добела,
Застряла в теле журавля
Тяжелая стрела.
И не заметила земля,
Вверх глядя, ничего –
Ни мертвых крыльев журавля,
Ни мертвых глаз его.
Птица убита, но продолжает лететь… Этот образ, конечно, наследует кузнецовскому «Осколку», но я позаимствовал у своего учителя только прием, а не мысль. Восьмистишие было написано в конце 70-х годов и бросало упрек людской невнимательности. Я пытался сказать своим соотечественникам: граждане, то, что мы с вами сейчас наблюдаем, – еще движется, но только по инерции. На самом деле оно уже мертво!
Увы или ура, но эти строки никогда прежде не были напечатаны.
КОЛОДЕЦ
Кто раскопал мне мою глубину?
Кто меня сунул под крышу?
Небо закрыто. В себя загляну —
Дна и покрышки не вижу.
Позадубела старинная крепь,
Мох выползает наружу.
Денно и нощно звенит моя цепь —
Близкие черпают душу.
Пейте досыта во все времена,
Черпайте! Мельче не стану.
Но не пытайтесь добраться до дна
Из любопытства и спьяну…
Кто «раскапывает» обычных с виду людей, кто превращает их в колодцы, из которых другие люди черпают затем, век за веком, живительную влагу? Всякий верующий человек ответит на этот вопрос так же, как и я: копатель этих колодцев – Господь.
Но как Он это делает, какие при этом инструменты используются? Сочетание родительских генотипов? Родовая травма? Душевные переживания детства и юности? Чтение книг? Сочинение книг?
Я знаю одно: колодец, осознавший, что он глубок, должен, прежде всего, понять, что он не сам себя вырыл. Иначе, рано или поздно, вода уйдет из него…
Виктор ЛИХОНОСОВ. Несколько слов о друге
Выступление на IV Международной научно-практической конференции «Наследие Ю.И. Селезнева и актуальные проблемы журналистики, критики, литературоведения, истории», г. Краснодар, 22–23 сентября 2017 г.
Каждый раз, когда я у вас [на факультете журналистики КубГУ – прим. ред.] бываю, я говорю и думаю одно и то же: как я вам завидую, что вы молодые, что вы будете еще учиться, рано вставать, идти в университет, шалить, лениться, читать, писать что-то, отвечать перед преподавателями… Как я вам завидую, как это хорошо! Когда у вас будут глубокие переживания, несчастливые мгновения, постарайтесь это все немножко погасить тем, что вы еще молодые, что впереди вся ваша жизнь, что жизнь сама по себе – это драгоценность. Живите и будьте счастливы, что живете на свете. Вы можете читать книги, смотреть кино (и даже в кинотеатр идти не надо – в интернете все есть), встречаться с людьми – в России много замечательных людей, интересных, в которых можно влюбляться, и вы просто обязаны влюбляться – не в буквальном смысле, как мы любим женщину, а просто, по-человечески. Вы будете понимать, что за этими людьми нужно идти, что это наше достоинство, наша Россия, наша Кубань. Каждый раз, когда я вижу молодежь, я думаю об этом…
Я посвящу свое выступление Юрию Ивановичу Селезневу. Это был очень красивый человек: красивый не только буквально – синеглазый, высокий, статный, – но и душевно, внутренне. Он очень богатый, богатый душою человек был… Я с ним познакомился в 1971 году и до 1984-го мы дружили. А сдружились мы сразу, потому что почувствовали родственные души, что любим одно и то же, по крайней мере, в литературе, в искусстве, в старине русской…
Мы любили почти одних и тех же своих современных писателей. Мы за ними следили. Эти писатели, в сущности, нас сразу и сблизили: Сергей Никитин из Владимира – самое начало послевоенной русской литературы, Владимир Солоухин, потом стали появляться Василий Белов, Василий Шукшин, Евгений Носов, Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Виктор Потанин из Кургана…
И все сошлись, как родные братья. Это нормально, и так в каждой стране существуют острова дружества и родства. У нас – поскольку положение в русской культуре и после Гражданской войны, и после Великой Отечественной войны, и уже в нынешней России было нелегким: нас всегда уничтожать хотели, и внутри были такие же люди, которые все были недовольны собственной страной, собственной землей, – всегда шла борьба. При партии она была скрыта, как в подвале, и тогда только, когда что-то прорывалось, был небольшой, как говорится, скандал – не такой, как сейчас с «Матильдой», это уже в открытую идет. Но мотивы борьбы были точно такие же – одни хотели уничтожить, что-то унизить, а другие говорили: да нет, наша земля прекрасна, наши герои чудны, наша Россия достойна величания, а не хулы. И вот так группами мы и сходились. Так сошлись с Селезневым. И стали защищать эти идеалы и, конечно, следить за новинками: вот Белов что-то написал, вот Распутин появился, вот что-то Солоухин сделал… Вместе были на съездах писателей, на пленумах, просто выезжали по стране – и все так держались друг друга, дружили.
