Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс
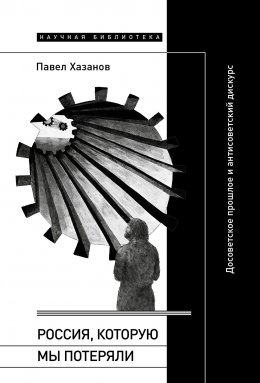
УДК 316.75(47+57)
ББК 63.3(2)6-72
Х12
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CCLXXVII
Перевод с английского Т. Пирусской
Павел Хазанов
Россия, которую мы потеряли: Досоветское прошлое и антисоветский дискурс / Павел Хазанов. – М.: Новое литературное обозрение, 2025.
Почему газета «Коммерсант» выбрала написание с твердым знаком на конце, Храм Христа Спасителя был восстановлен, а «Сибирский цирюльник» стал блокбастером в новейшей России? Какую роль сыграли воспоминания о дореволюционном прошлом в легитимации сегодняшних российских элит? Книга Павла Хазанова – это попытка реконструировать генеалогию антисоветского дискурса о досоветской истории. Рассматривая, как, на протяжении многих лет и несмотря на конфронтацию друг с другом, такие фигуры, как Анна Ахматова, Григорий Померанц, Юрий Лотман, Натан Эйдельман и Булат Окуджава с одной стороны, и Василий Шульгин, Александр Солженицын, Владимир Солоухин и Никита Михалков с другой, вырабатывали консенсус о привлекательности дореволюционной эпохи. Автор показывает, как их видение этой эпохи повлияло на идеологию постсоветской России и почему многих так очаровал образ «России, которую мы потеряли», содержащий в себе консервативный и реваншистский заряд. Павел Хазанов – профессор Ратгерского университета, специалист по культуре позднего СССР и постсоветской России.
В оформлении обложки использованы фрагменты работ Д. А. Пригова «Скважины» (1973), «Скважина» (1974). Собрание семьи художника.
ISBN 978-5-4448-2821-2
Publisher’s edition of The Russia That We Have Lost by Pavel Khazanov is published by arrangement with the University of Wisconsin Press.
© 2023 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System. All rights reserved.
© Т. Пирусская, перевод с английского, 2025
© А. Мануйлов, дизайн обложки, 2025
© Д. А. Пригов, рисунки на обложке, 1973, 1974
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Русская версия книги посвящается оставшимся Фельдманам и Головатым
Предисловие к русскому изданию
Кажется, эта книга изначально должна была быть написана по-русски, в России. Многие ее персонажи хорошо знакомы любому русскоговорящему читателю. Ход их мыслей порой будет узнаваем вами с полуслова. Прошу прощения за нудные объяснения от Капитана Очевидность – ведь вы читаете перевод книги, написанной для англоязычной аудитории, где фильмы Михалкова вечером по телевизору никому не показывали, где рекламу девяностых о сборе денег на стройку храма Христа Спасителя никто не помнит, где шутки Пелевина на эту тему (например, «храм Христа-Спасателя») никому ничего не говорят и где даже такие исторические вехи, как 1917 год, представляются хорошо образованному неспециалисту очень смутно.
В каком-то альтернативном пространственно-временном континууме я, наверное, действительно вырос и стал ученым в России. В реальности же судьба распорядилась иначе и странней. Хотя родился я в Москве, в 1990‑е годы, будучи десятилетним ребенком, я уехал в Сан-Франциско и с тех пор мало бывал в России. Русский язык я сначала подзабыл, а потом выучил заново, уже в аспирантуре. Пишу я по-русски с ошибками (не грубыми, надеюсь). Даже самовара у меня нет. Тем не менее, когда наступило время формулировать научный проект, память вернула меня назад в детство, в те самые «лихие девяностые», из которых моя семья эмигрировала и которые, вероятно, на всю жизнь остались для меня манящей загадкой. Откуда они взялись? Что тогда, собственно, случилось? Откуда тот жизненный заряд, порой страшноватый, который та эпоха внесла в мое личное становление? Откуда та самоочевидная трактовка происходящего, порой ложная, среди поколения моих родителей, что сыграла решающую роль в последующем развитии России? Эта книга – мой личный ответ на эти вопросы. Ответ этот, как мне представляется, порожден в заочном споре между моим мировоззрением человека, выросшего в американском леволиберальном гражданском обществе и научно-гуманитарной среде, и мировоззрением моих родителей и их сверстников, образованных выходцев из столиц позднего СССР. К этому спору и к вытекающему из него видению новейшей российской истории явно питает интерес аудитория западных славистов, для которых я в первую очередь писал монографию. Хоть и с неким опасением, я тем не менее очень рад теперь представить мою работу на поверку читателям, думающим по-русски и знающим современную российскую культуру и историю много лучше, чем я.
Я хотел бы поблагодарить всю команду издательства НЛО за продвижение проекта в столь молниеносные сроки, особенно учитывая обстоятельства в сегодняшней России. В частности, огромное спасибо Ирине Прохоровой за изначальный интерес, Александру Дмитриеву и Кириллу Кобрину за поддержку, Татьяне Пирусской за замечательный перевод и Татьяне Тимаковой за кропотливую редактуру.
Американское издание книги было посвящено моим родителям, которые в чем-то все-таки правы. Русское издание хочу посвятить родственникам, оставшимся в России. Они тоже в чем-то правы. Надеюсь, что в Прекрасной России Будущего мы сможем все это обсудить в теплом семейном кругу.
2024, Нью-Йорк
Предисловие к американскому изданию
Мысль, что я когда-нибудь напишу книгу, уже приходила в голову некоторым людям, причем много лет назад. В седьмом классе, например, мистер Порье, изучив мой первый опус, весьма далекий от нынешнего, – собственно, это была пьеса, – позволил мне прочитать его вслух одноклассникам, таким же постсоветским иммигрантам, как и я (о чем там шла речь, сейчас лучше не пересказывать). Головокружение от успеха направило меня на стезю гуманитария, и хотя перо мое больше не дерзнуло творить с прежним размахом, зато у меня были замечательные учителя, в том числе Рэнди Кинэви (светлая ему память), Кен Рейнхард, Митчем Хюлс, Мишель Хуневен, Тамар Бояджан и многие другие. Они научили меня думать и преподавать. Я улавливаю отголоски их мыслей во всех работах, когда-либо написанных мной. Я счастлив, что мне наконец представилась возможность назвать их имена и поблагодарить их на страницах книги.
Замысел этого проекта возник во время семинара в Принстонском университете, в ходе бесед с Сергеем Ушакиным, неутомимым организатором всего, а также Кевином М. Ф. Платтом, Марком Липовецким, Ильей Кукулиным, Александром Эткиндом, Элиотом Боренстайном и другими. Многие из них оставались моими собеседниками и поддерживали меня в работе в последующие годы. Кевин, мой научный руководитель в аспирантуре Пенсильванского университета, прочел и откомментировал почти все редакции всех частей этой книги, в том числе раннюю версию первой главы на сто страниц, достойную разглагольствований Глазунова и Дугина. Нет слов, которые выразили бы, как я благодарен Кевину за его подвиг, но отплатить ему за столь же щедрое хлебосольство я все-таки надеюсь. Энциклопедические знания Марка Липовецкого о современной русской культуре на протяжении многих лет служили мне поистине бесценным источником. К тому же многие части этой книги, равно как и других моих работ, были написаны благодаря его приглашениям принять участие в многочисленных мероприятиях Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES), Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) и региональных семинарах. Еще один мой великодушный читатель – Илья Виницкий, глубоко изучивший риторику русских консерваторов XIX века и тем самым помогший мне понять ее позднейших наследников. Росен Джагалов появился в Пенсильванском университете как раз вовремя, чтобы заставить меня задуматься о политических взглядах позднесоветской и постсоветской интеллигенции. Хотя в финале этой книги встречается всего несколько отсылок к Средневековью, Юлия Верхоланцева существенно расширила мое понимание того, какую роль в риторике советской интеллигенции играло историческое прошлое. Я благодарен и за многие часы наших бесед в коридорах Уильямс-холла – о моей работе и на темы, связанные со славистикой в целом. Спасибо Питеру Холлуорду и Дэвиду Казанджану, примирившим меня с континентальной философией. Спасибо Питеру Холквисту и Бену Натансу, открывшим мне историю как научную дисциплину, с которой литературоведение – моя прямая специальность – может пребывать в продуктивном диалоге. Особая благодарность – Хаммаму Алдури, который однажды чудесным образом воплотился в лифте Библиотеки Ван Пелт в самый подходящий момент, чтобы стать, в некотором смысле, моим теоретическим терапевтом. Со своим отменным знанием континентальной традиции, Хаммам помог мне отточить аргументацию и, я надеюсь, удержал меня от низвержения в пропасть поверхностного философствования, что порой случается с литературоведами, любящими поиграть на соседней поляне. Спасибо и друзьям из Пенсильванского университета, благодаря которым «жизнь ума» не казалась чем-то излишне носозадирающим и переоцененным, особенно Майе Винокур, Алексу Мошкину, Хелен Штур-Роммерейм, Алисон Ховард, Сэму Касперу, Якову Фейгину, Алексу Хазанову и Соне Голланс. Отдельное спасибо психотерапевту, посоветовавшей мне «стать как водоросли».
В Европейском университетском институте во Флоренции паста в кафетерии всегда была аль денте, эспрессо щедро спонсировался, склоны холмов всегда зеленели, беседы неизменно увлекали, игра в футбол впечатляла, а еще удавалось кое-что читать и писать. Max Weber Fellowship и Александр Эткинд подарили мне чудесный плодотворный год, в течение которого основные тезисы этой книги обрели окончательную форму. Благодаря семинару по позднесоветской субъектности, проведенному в Европейском университетском институте весной 2018 года, я также познакомился с Анатолием Пинским, невероятным собеседником, знающим советскую историографию до таких тонкостей, что остается только завидовать. Отдельное спасибо почти бесплатному детскому саду Европейского университетского института, расположенному (как говорят) рядом с садом из «Декамерона» Боккаччо, – благодаря ему наше пребывание в Италии оказалось возможным в материальном отношении. А главное, было приятно провести год среди коллег и друзей, включая Венету Иванову, Виктора Петрова, Геннадия Яковлева, Катю Мотыль, Райана Дана, Мишку Синху, Дж. П. Слайта, Блэйка Смита, Анджело Каглиоти, Дениса Гореа, Сахар Неджати-Каримабад, Тома Завишу и Кэтрин Гриффитс.
Кафедра германских, русского и восточноевропейских языков и литератур Ратгерского университета (Rutgers University, New Brunswick) вот уже шесть лет служит мне замечательным научным домом. Спасибо Эдите Бояновской и Фатиме Накви, которые привели меня сюда, а также Марте Хелфер и Эмили Ван Баскирк, которые неутомимо поддерживали меня через все бюрократические перипетии, поделились со мной опытом работы в университете и стали для меня образцом блестящих руководителей, ученых и преподавателей. Большая радость – работать и общаться с такими потрясающими и дружелюбными коллегами, особенно с Хлоей Китцингер, Кори Андерсон, Николасом Ренни, Николой Берман, Майклом Левином, Региной Карл, Домиником Цехнером и Александром Пичугиным. Йохен Хелльбек и Белинда Дэвис помогли мне наладить контакты с кафедрой истории; Белинда и Садия Аббас ввели меня в Ратгерский центр исследований Европы (CES). Энди Паркер и Джанет Уокер радушно приняли меня на кафедре сравнительного литературоведения, Сьюзан Мартин-Маркес – на кафедре киноведения, а Джейн Шарп познакомила меня с кафедрой искусствоведения и удивительным собранием русского и советского нонконформистского искусства в Музее Зиммерли, куратором которого она является. Хочу поблагодарить и всех студентов, посещавших мои курсы, особенно «Россия – империя или нация?» и «Россия после Сталина». Ничто не дает такой возможности уточнить собственные формулировки, как диалог с замечательными студентами, прикасающимися к теме впервые и именно поэтому способными подвергнуть сомнению тезисы, которые порой оказываются не столь однозначными, как представляется на первый взгляд.
Последние правки я вносил в Центре Клюге при Библиотеке Конгресса, где мне посчастливилось провести два плодотворных семестра академотпуска. Благодарю Трэвиса Хенсли, Майкла Стратмоэна, Дэвида Конте и остальную команду во главе Центра Клюге, библиотекарей-русистов в Европейском читальном зале, оказавших мне неоценимую помощь. Рад был провести почти год в общении с коллегами и друзьями в Вашингтоне, особенно с Джулей Лейкин, Джеффом Уайтом, Мэттом Мэнголдом, Брэдли Горски и Джошом Яфе. Благодарю также Ребекку Валковиц, тогдашнего декана факультета гуманитарных наук Ратгерского университета, которая помогла организовать этот академотпуск и всячески поддерживала мою работу.
Было огромным удовольствием работать с Эмбер Седерстрём, Джессикой Смит, Шейлой Макмэхон и остальной командой издательства Висконсинского университета, где так гладко завершилась первая, английская, версия этого проекта. Я особенно признателен Александру Михайловичу и другим рецензентам, любезно согласившимся прочитать мою рукопись и высказать свои замечания, и Элизабет Стерн – редактору высшего класса. Я также благодарю Энсли Морс и Элиота Боренстайна, прочитавших книгу и одобривших ее окончательный вариант. Отдельное спасибо Роберту Киму, предоставившему мне фотографию торгового дома «Пересвет», сделанную им в 1993 году. Более ранняя версия третьей главы публиковалась как отдельная статья в Slavic and East European Journal (Khazanov P. The Most Important Thing is to Remain a Human Being: Decembrist Protest, Soviet Lichnost’, and the Post-1968 Mass-Market Histories of Natan Eidelman and Bulat Okudzhava // Slavic and East European Journal. 2021. Vol. 65. № 3. P. 478–498).
В течение всей научной карьеры мне необыкновенно везет с компанией хороших друзей, обычно разбросанных по разным университетам, но ежегодно съезжающихся на несколько головокружительных дней на конференции Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований и Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков, – благодаря им в лабиринтах гостиниц, где проводятся эти встречи, чувствуешь себя как дома. Джейсон Сипли, Фабрицио Фенги, Аня Айзман, Даниил Лейдерман, Эмили Ванг, Даша Езерова, Настя Осипова, Рита Сафарянц, Мариета Божович и многие, многие другие участвовали в секциях и круглых столах, на протяжении многих лет комментировали разные части этой книги и порой после сессии докладов в восемь утра не отказывались от «кровавой Мэри» в ресторане неподалеку.
Сарит и Джонатан Грибец, а также Эстер Дрейфус-Каттан помогали мне ориентироваться в мире науки с тех самых пор, как стали моей семьей. Они совершенно не были обязаны этим заниматься, но занимались! Эстер даже читала мою магистерскую по философии, лишенную, честно говоря, всякого смысла, о чем она вежливо умолчала, и это очень мило с ее стороны. Шломо Каттан и Мири Левенштейн, Эстер, Сарит и Джонатан, Лиор и Этти, Женя, Наоми, Исролек, Сара-Циля, Эстер-Хая – вы лучшая семья, какую только можно себе пожелать.
Зачем русскому гуманитарию писать книгу, если не для того, чтобы доказать, что его родители-интеллигенты заблуждались? Но я в конечном счете полагаю, что мои родители, Борис и Людмила, были правы – не во всем, но в главном. Им я и посвящаю свою книгу.
Габриэла Кэролайн Каттан-Хазанов – из Лос-Анджелеса в Лондон, потом в Вашингтон, Филадельфию, Флоренцию, снова в Филадельфию, в Филадельфию эпохи ковида и, наконец, в Южную Филадельфию… ты, не сдаваясь, остаешься с тем, кто выбрал, скажем прямо, странную профессию, чьи шутки, скажем прямо, обросли бородой и кого смысл песни Say My Name поверг в избыточное недоумение (может, этот парень просто не помнит ее имени?). Вот почему я люблю тебя, хоть ты и присвоила мой монитор, мои наушники и мой рабочий стол (ничего страшного, оставь их себе – у меня как раз пополнение в исследовательском бюджете).
Ноэми, Яша и Изя мало что знают о досоветской или позднесоветской интеллигенции, но часто высказывают ценные мысли – например, что где-то в радиусе четырех кварталов может находиться фургон мороженщика и что его поиск – занятие куда более увлекательное и осмысленное, чем попытки разобраться в очередном выхлопе катастрофической российской политики.
Введение
Россия незадолго перед катаклизмом была многогранна и многообразна. Существовала Россия чиновников: Акакий Акакиевич, Каренин, городничий; была Россия воинской доблести и славы: Бородино, оборона Севастополя, Шипка и Плевна на Балканах; была Россия бунтующая: Пугачев, Болотников, Разин, 1905 год; была Россия землепроходцев: Дежнев, Беринг, Пржевальский, Семенов-Тян-Шанский, Арсеньев; Россия науки: Яблочкин, Попов, Менделеев, Сеченов, Мечников, Тимирязев; Россия искусства: сотни имен. Была Россия студенческая и офицерская, морская и таежная, пляшущая и пьющая, пашущая и бродяжья. Но была еще Россия молящаяся.
Владимир Солоухин. Письма из Русского музея
В 2008 году режиссер Андрей Кравчук выпустил в целом тепло встреченный блокбастер «Адмиралъ» – фильм об Александре Колчаке1. Открывается фильм впечатляющими кадрами морского сражения Первой мировой под командованием бесстрашного капитана Колчака, а заканчивается расстрелом адмирала Колчака большевиками в Иркутске в 1920 году. В промежутке герои возносят молитвы, целуют кресты и щеголяют в стильной форме. Тем временем безликие красные убивают почти безликих белых, а у Колчака происходит бурный роман с Анной Тимирёвой, женой его сослуживца, который впоследствии переходит на сторону красных, тем самым оправдав измену жены (насколько мне известно, сюжетная линия о сослуживце, контр-адмирале Сергее Тимирёве, не соответствует историческим фактам). Фильм изобилует голливудской эстетикой, шаблонными сюжетными поворотами и обаятельными дорогостоящими кумирами – в частности, на главные роли пригласили Константина Хабенского и Елизавету Боярскую. И тем не менее, как замечает кинообозреватель газеты «Коммерсантъ» Андрей Архангельский, зрителей не должны «сбивать с толку» все эти «рекламные открытки», ведь «это все миражи», призванные привлечь внимание капризной молодежи к исторической картине с серьезной моралью, которую хорошо бы усвоить всем в постсоветской России: «Любой, даже плохой, порядок в России лучше, чем его разрушение»2.
Проанализируем некоторые аспекты этого разрушенного «плохого порядка», каким он изображен в «Адмирале». Выглядит он не так уж плохо. История любви в фильме разворачивается в изящных имперских декорациях, где льется шампанское, а главное, красуются элегантные офицеры со своими дамами. Кравчук мыслит возвышенно и заявляет, что такие вещи неважны, но, конечно, именно пышность и блеск досоветского мира, как его принято изображать, делают его столь притягательным в постсоветское время. Способствует этой притягательности и его явно непривлекательная альтернатива – бессмысленный хаос революции, вызванный жалкой плебейской толпой, которую мы, зрители, само собой, должны презирать. Поэтому, пишет Архангельский, дело даже не в том, что враги Колчака заблуждаются, что их теория ошибочна: «Колчак воюет с красными не из‑за идеологии даже». Враги – попросту «биомасса, безличное зло», которое «расстреливает и топит своих бывших командиров… и опять непонятно почему»3. Дальше мысль Архангельского легко продолжить: к сожалению, эта «биомасса» выиграла Гражданскую войну, но мы, здесь и сейчас, можем восстановить справедливость. Идея постсоветской России должна состоять в том, чтобы низвергнуть власть «биомассы» и установить власть добродетельной элиты. Или, если переформулировать ту же мысль словами Кори Робина (специалиста по англо-американскому консервативному политическому дискурсу), суть в том, чтобы преодолеть «безобразный, грубый, подлый и убогий» мир, выстроенный левыми популистами в 1917 году, и воздвигнуть на его месте мир «совершенный», где «лучший командует худшим» и где «право власти самоочевидно, а все привилегии заслуженны»4. В этом консервативном проекте современной России – основной политический посыл «Адмирала» с его дорогостоящим ретро.
Тот же консервативный политический посыл, как я покажу, заключает в себе и большинство других дорогих имперских ретрообъектов в постсоветском публичном пространстве. Многие крупнобюджетные постсоветские фильмы, действие которых происходит в царской России (скажем, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова), призваны объяснить «нам», постсоветским гражданам, преимущества подчинения тем, кто лучше нас и кто, как аристократ, понимает, что «его, офицера и дворянина, долг —напоминать об этом долге другим, менее сознательным людям»5. Досоветский стиль многих российских бизнес-центров напоминает нам, что новый российский капитализм легитимен по той же причине и что семьдесят лет, разделяющие до- и постсоветский экономические режимы, – всего лишь потерянное время, нелепость, случившаяся «по не зависящим от редакции обстоятельствам» (формулировка, годами вызывающе украшавшая первую полосу ежедневной деловой газеты «Коммерсантъ»)6. Баснословно дорогая реконструкция храма Христа Спасителя в центре Москвы в 1990‑е годы должна намекать нам, что религиозно-моральная иерархия в постсоветском государстве тоже восстановлена: заделана зиявшая в этом месте дыра, возникшая в результате безнравственного атеистического утопического советского эксперимента с его так называемыми народными дворцами, будь то сталинские высотки или хрущевские бассейны. Наконец, обилие позолоченного имперского ретро, окружающего фигуру Путина и многих из его свиты, внушает нам, что они у власти по праву помазанников, по велению вечной, великой истории российского государства, – в противовес каким-то там химерическим силам светской истории вроде партийного авангарда советского народа.
В книге я пытаюсь найти ответ на вопрос: с каких пор и почему все эти истины о славном прошлом, его позорном конце и великой миссии его возрождения стали самоочевидны для столь многих в современной России? В качестве отправной точки я выбрал «Адмирала», потому что в самой композиции этого фильма содержится начало ответа на поставленный вопрос. На первый взгляд, режиссер позаимствовал сентиментальный прием «Титаника» Джеймса Кэмерона: в обоих фильмах центральная сюжетная линия – линия главного героя – дана глазами пережившей его возлюбленной, много десятилетий спустя, уже в старости, вспоминающей прошлое. Однако если в столетней Розе Доусон-Кэлверт, которая воскрешает в памяти свой обреченный роман с Джеком, глядя на единственное, что от этого романа осталось, – баснословно дорогой бриллиант, – нет никакого политического подтекста, то аналогичному моменту в «Адмирале» присуща необычайная политическая острота. Здесь перед нами пожилая «мадам Колчак» в 1960‑е годы, разглядывающая последний подарок, который напоминает ей о былой любви, в то время как советская власть поспешно откапывает ее метафорические дворянские «драгоценности» – в частности, ее тонкое понимание того, как себя держать в дореволюционном высшем свете. Она ведь находится на съемочной площадке, где Наташа Ростова танцует с князем Андреем в легендарной оскароносной экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука (1965–1967), для которой она выступает консультантом по этикету и снимается в качестве статистки, grande dame из толстовского романа. Разумеется, партия, расстрелявшая ее мужа пятьдесят лет назад, возражает против ее присутствия; безликий чиновник выговаривает Сергею Бондарчуку (которого играет его сын Федор): «Я тут же проверил в картотеке, это точно она. Тридцать лет лагерей, жена заклятого врага революции – в нашей патриотической картине. Еще неизвестно, реабилитирована ли она. Вам это нужно?» На это великий режиссер гневно отвечает: «Мне лица нужны. Где я возьму такое лицо?»7 На этом диалог кончается. Мадам Колчак будет в экранизации романа Толстого. Без нее не получится как надо – в этом легко убедить даже партийного цензора. Потому что даже он уже понимает. Все всё уже понимают.
Но почему мы полагаем, что в 1960‑е годы все в самом деле так думали? Примечательно, что философ Мария Чехонадских пишет о фильме Бондарчука совершенно иначе. Она видит в нем апогей советского просвещения, полностью преодолевшего старорежимную культурную аристократию и не нуждающегося в подлинных аристократах на съемочной площадке:
[Фильм «Война и мир»] претендует на создание реалистического образа аристократического прошлого на основании системы Станиславского, но на самом деле весьма искаженно показывает отношения, поведение и социальные роли толстовских персонажей. Этот фильм является карнавальным шоу, в котором советские мужчины и женщины неловко разыгрывают высшее общество в соответствующих исторических декорациях. Эпическое полотно Бондарчука смущает самим своим желанием показать аристократию в пролетарском теле, но… прошлое – это тренировочный полигон, где пролетариат может упражняться в своих способностях переиграть классового врага. Поэтому понятно, почему романтичный и мятежный юноша Пьер Безухов в исполнении самого Бондарчука выглядит упитанным зрелым мужчиной с усталым лицом. Дело в том, что этот Безухов – не представитель русского 68‑го года девятнадцатого столетия, а советский современник-рабочий, совершающий в своем теле поминовение Безухова… <…> Переработка мировой культуры с точки зрения пролетариата – это перформанс в парике Моцарта и Пушкина8.
С точки зрения Чехонадских, никто бы не захотел увидеть в фильме Бондарчука настоящую аристократку (Чехонадских, по-видимому, не знает о присутствии мадам Колчак на съемках, что действительно имело место быть)9. В конце концов, установка этого фильма с позиций советского дискурса просвещения, который Чехонадских прослеживает в работах Александра Богданова и Михаила Лифшица, в том, чтобы показать не бывших аристократов, играющих самих себя, а бывших пролетариев, показывающих, насколько социализм овладел дореволюционной высокой культурой.
Размышления Чехонадских по поводу «Войны и мира» лишний раз напоминают, что культурное наследие имперской России необязательно содержит в себе антисоветские консервативные ценности, которые Архангельский и многие его современники приписывают ему по умолчанию. Сцену танца Наташи, снятую в 1960‑е годы, совсем не обязательно интерпретировать таким образом, тем более с точки зрения детей крестьян и пролетариев, таких как Сергей Бондарчук, или, если на то пошло, Путина и значительной части его окружения, представителей нынешней российской политической элиты, взросление которых пришлось как раз на этот период. Однако в книге я показываю, что с точки зрения истории формирования идеологии в современной России «Адмиралъ» прав. Я демонстрирую, что начиная с 1950‑х годов и до конца 1980‑х культурный процесс в СССР сложился так, что антисоветский дискурс о досоветском прошлом сформировался именно в эти десятилетия. Далее, тот же дискурс, с одной стороны, напрямую повлиял на мировоззрение сегодняшней правящей элиты в Российской Федерации, а с другой – расчистил ей дорогу, убедив людей некогда довольно влиятельных и способных к политическому противостоянию умерить свои оппозиционные амбиции под тем банальным предлогом, что «любой, даже плохой порядок в России лучше, чем его разрушение». Чтобы изложить эту историю, я выдвигаю четыре тезиса.
1. Несмотря на уверения во взаимной вражде, представители позднесоветской «интеллигенции», считавшие себя либералами и консерваторами, в постсталинский период общими усилиями сформировали ключевые представления об антисоветском проекте для России, и эти представления в конечном счете реализовались в постсоветской социальной жизни. Они, как правило, носили элитарный, консервативный характер (в данном случае речь о консерватизме в широком смысле слова, в каком это понятие используют такие ученые, как Кори Робин).
2. Процесс выработки этих общих принципов отчетливо прослеживается в воспоминаниях о досоветском прошлом России, написанных либералами и их мнимыми противниками – консерваторами и нативистами.
3. Благодаря официальным позднесоветским институтам культурного просвещения общее мнение интеллигенции о досоветском прошлом нашло свою аудиторию среди городских образованных масс позднесоветского периода – так называемых инженерно-технических работников (ИТР). Этот консенсус позволил классу ИТР считать себя тем, что я бы назвал «младшей интеллигенцией»10.
4. В 1990–2000‑е годы общие представления о досоветском прошлом сыграли свою роль в формировании постсоветского авторитаризма, сплотив даже либеральную оппозицию вокруг ключевых элементов нового дискурса власти.
Чтобы прояснить, как строится аргументация этой книги, в остальной части введения я очерчиваю историческую логику утверждений о «России, которую мы потеряли» (название документального фильма Станислава Говорухина времен перестройки, вынесенное в заглавие этой книги). Для этого я кратко изложу культурную историю, прослеживаемую далее в шести главах: первые четыре относятся к советской эпохе, а последние две – в основном к перестройке и 1990–2000‑м годам. Я также прокомментирую используемый в книге метод критики идеологии (ideology critique), уделив особое внимание таким терминам, как «идеология», «дискурс» и «Субъект». Наконец, я остановлюсь на некоторых ключевых понятиях, играющих важную роль в моей работе, таких как «народ», «интеллигенция», «интеллигентность», «культурность». В заключение скажу, в чем я сам вижу ограничения и недочеты своего метода.
Начнем с очевидного вопроса: когда существовала «Россия, которую мы потеряли» и когда она исчезла? Учитывая резкую смену режима в 1917 году, вопрос может показаться глупым. Однако, намеренно отказавшись считать эти хронологические рамки самоочевидными, можно различить другие точки зрения, с которых история России в ХX веке выглядит иначе. Например, если говорить об истории культурного канона в России, можно отметить, что революция не ознаменовала столь радикального разрыва, как многим в то время казалось. Хотя некоторые раннесоветские марксисты и попутчики-авангардисты призывали к полной переоценке культурного прошлого, к концу первого сталинского десятилетия в силу разных, порой противоречащих друг другу причин пароход культуры с Пушкиным у штурвала остался практически нетронутым, несмотря на смену режима и, вероятно, чересчур громогласные призывы к бунту на борту11. Возьмем другой пример: с точки зрения российской/советской экономической истории 1917 год едва ли можно назвать столь же значительной вехой, как 1930‑е (когда началась форсированная сталинская индустриализация) или «длинные» 1960‑е (приблизительно 1956–1968 годы), когда логика управления советской промышленностью исчерпала себя, отстроив урбанизированное государство с относительно высоким уровнем образования, впоследствии проигравшее в экономической конкуренции с Западом, поскольку командная экономика оказалась не способна адаптироваться к глобальному постиндустриальному повороту конца ХX века12. Обе эти историографические перспективы играют в книге определенную роль.
В свою очередь, представление о 1917 годе как радикальном разрыве, безусловно, входило в одобренную партией концепцию прошлого – которую, рискуя впасть в излишний схематизм, можно вкратце изложить как социальную историю «долгого» XIX века (1790–1917), когда развивалось революционное движение, кульминацией которого стал большевистский советский проект13. У этой концепции имелась очевидная цель – обосновать власть партии в настоящем как следствие исторической необходимости. По обратной логике, этот нарратив неизбежно предполагал существование антипода – антисоветского дискурса, отрицающего историческую необходимость партии. Антисоветский дискурс тоже сосредоточился на 1917 годе как историческом водоразделе, как годе катастрофы, когда партия незаконно захватила власть и свернула историю России с «нормального» курса развития. Именно такой смысл отчетливо угадывается во фразе: «Россия, которую мы потеряли». Все это означает, что мы можем ответить на вопрос, когда она существовала и когда кончилась: на протяжении XIX века и вплоть до 1917 года, но только с точки зрения определенного Субъекта политического дискурса, который, пусть и в негативном плане, убежден в центральной роли советской власти в интересующем нас политическом вопросе.
Почему я пишу слово «Субъект» с большой буквы? Этот вопрос подводит нас к методологии моего исследования. Я прослеживаю дискурс, подразумевающий существование некоего «мы», восхваляющего досоветскую Россию с антисоветских позиций. Такое «мы» (очень часто в кавычках) встречается в книге много раз, и порой читатель невольно задумается, кто, собственно, в это «мы» входит. Важно, что у него нет четкого, фиксированного значения. У «мы» во фразе: «Россия, которую мы потеряли» нет привязки к конкретным социологически или даже исторически определимым группам. Это местоимение описывает скорее предполагаемый расплывчатый коллектив, выстроенный вокруг некоей дискурсивной проекции. Оно окликает «нас», призывая читателей и собеседников двигаться дальше в уверенности, что «мы» действительно существуем как коллективное целое, рассуждающее о досоветском прошлом таким образом. В историческом плане в позднесоветский период те же читатели и собеседники сталкивались и с другими коллективными дискурсами, например о технологической модернизации, об универсализме, о социальном государстве, о социальной демократии и т. д. Процесс, в ходе которого человек улавливает отклики различных дискурсов и отождествляет себя с их Субъектами, Луи Альтюссер называет интерпелляцией. Такое отождествление происходит лишь наполовину сознательно, инстинктивно, вот почему Альтюссер описывает его метафорически, на примере человека, который мгновенно останавливается, услышав окрик полицейского: «Стой!», и только потом как-то комментирует происходящее14. Конечно, прохожий на улице слышит не одних только полицейских. Вот почему я пишу слово «Субъект» с большой буквы – чтобы подчеркнуть, что я не свожу живых людей, слышащих разные вещи, к одномерной идентичности. Вместе с тем я настаиваю, что на уровне дискурса действительно можно воссоздать своего рода абстрактную целостность. Субъект, произносящий фразу: «Россия, которую мы потеряли», действует посредством культурной логики, влияющей на людей именно потому, что она обретает для них смысл на многих уровнях: она включает их в себя и находит способ собрать другие значимые дискурсы (например, дискурс o технологической модернизации, который прекрасно слышали массы советских инженеров, ученых и руководителей среднего звена). Исходная задача этой книги – проследить, как «Россия, которую мы потеряли» превратилась в столь монолитный и всеобъемлющий постулат, то есть в идеологему. Здесь следует сделать еще одну оговорку: такие термины, как «идеология» и «идеологема», используются в этой книге для характеристики того, что Славой Жижек назвал бы «неизвестным известным» (unknown known), которое скрепляет коллективное целое15. Для меня эти термины имеют мало общего с официальной советской идеологией, поэтому, говоря о последней, я, как правило, употребляю такие слова, как «доктрина» или «догма».
В книге я вскрываю исторический контекст идеологемы «Россия, которую мы потеряли», показывая, как росла ее привлекательность в глазах говорящих и их слушателей начиная с эпохи оттепели. В первых двух главах я сосредоточусь на говорящих, то есть на людях, наиболее склонных с ностальгией вспоминать досоветское прошлое в особой политической ситуации послесталинской оттепели. Следуя устоявшейся историографии российского либерализма, недавно подкрепленной такими исследователями, как Владислав Зубок, я рассматриваю этих людей как культурную и творческую элиту, на тот момент занявшую ведущие позиции в определении будущего России и СССР16. Как утверждает Зубок, либеральное крыло этой группы стало формулировать постсталинский проект и осмыслять собственную роль в нем, естественным образом прибегнув к диаде, издавна укорененной в российском социальном воображении, согласно которой общество делится на интеллигенцию и народ. В первой главе я развиваю эту тему, задаваясь вопросом, почему, как свидетельствуют данные Зубока (и мои собственные), размышлять в подобных терминах казалось столь естественно. В конце концов, неужели для якобы либеральной интеллигенции имело смысл говорить о советском социальном поле в категориях, сформировавшихся в России в XIX столетии? Ведь с тех пор прошло несколько десятилетий урбанизации, индустриализации и социалистического просвещения, и наступила эпоха масс-медиа и массовых аудиторий. Мы увидим, что диссидентский теоретик Григорий Померанц серьезно размышлял над этим вопросом. Однако даже этого дальновидного мыслителя так и не убедили до конца его собственные аргументы. Ему и другим либерально настроенным интеллигентам (в первой главе я привожу в качестве примера Анну Ахматову и Юрия Лотмана) было проще считать, что они говорят от лица автономного неоинтеллигентского элитарного Субъекта, носителя высокой культуры, обладателя того, что Зубок называет «интеллигентностью» (intelligentsia ethos), унаследованной, по-видимому, от досоветской эпохи17. Неоинтеллигентский Субъект рассматривал постсталинский проект как возвращение к утраченной досоветской норме культурных отношений, в которых интеллигенция вновь, как до советской власти, будет играть ведущую роль в борьбе с авторитаризмом. Но, в отличие от классической интеллигенции, ее советские преемники размышляли об этой борьбе в либеральных категориях меньшинства, а не в социалистических категориях большинства – иными словами, они уже не думали, что в народе, то есть в лишенном права голоса большинстве российского/советского общества, дремлют силы, которые в конце концов и низвергнут тиранию.
Ощущение собственной интеллигентности, с которой либералам было так удобно идентифицироваться, само по себе отсылало к воображаемой потерянной эпохе расцвета дореволюционной интеллигенции. Тем не менее, как показывает случай Померанца, риторика либеральной интеллигенции еще не перетекала в упрощенческую антиисторическую ностальгию. Сама по себе она не породила идеологему «Россия, которую мы потеряли». Во второй главе я утверждаю, что довершить этот процесс должны были противники либералов. Исследователям и очевидцам хорошо известно, что КПСС стратегически, порой тайно поддерживала русских консервативных националистов, стравливая их с постсталинской либеральной культурной элитой18. Я демонстрирую, что эти консервативные фигуры опирались на антиисторизм, уже тогда присутствовавший в риторике либеральной интеллигенции. Они переиначили логику либералов на консервативный лад, присвоили ее, превратив либеральное понятие об интеллигентности в антиосвободительную идеологему, звучавшую все же вполне убедительно и для либеральной точки зрения. Так советские консерваторы довершили процесс преобразования «России, которую мы потеряли» в общепонятную и даже привлекательную для многих идею.
Вторая глава открывается случаем восьмидесятилетнего монархиста Василия Шульгина – я показываю, как в 1960–1970‑е годы ему удалось, воспользовавшись антиисторизмом, уже присущим дискурсу либеральной интеллигенции, позиционировать себя как интеллигента. Советские биографы, режиссеры и даже сотрудники КГБ изображают Шульгина, в прошлом крайне правого депутата Государственной думы и ярого противника социализма, политзаключенного, освобожденного по амнистии, как культурного представителя старого режима, который поставил крест на прошлом и стал союзником советской власти. Чтобы создать такой образ Шульгина, документалист Фридрих Эрмлер придумал сентенцию: «История памятлива, но не злопамятна»19. Как я покажу, из‑за цензуры в фильме Эрмлера невозможно было последовательно изложить недавнюю историю. По иронии судьбы эта непоследовательность оказалась на руку Шульгину, избавив лично его от злопамятства истории. Вместе с тем я полагаю, что Шульгину удалось выставить себя в выгодном свете еще и потому, что позднесоветская обновленная риторика об интеллигентности тоже не видела за ним особой исторической вины. В 1910‑е годы Шульгина, черносотенца, служившего самодержавному царю, никто бы не счел интеллигентом. Но позднесоветский либеральный дискурс запутался в своих исторических противниках. Отчасти так случилось потому, что интеллигенты времен поздней империи, презиравшие подобных Шульгину, как правило, принадлежали к социалистам, чье советское наследие заставляло либералов 1960‑х годов чувствовать себя неуютно. Кроме того, как отметил Зубок, риторика об интеллигентности на тот момент более подразумевала эстетику утонченной самопрезентации, чем связный историко-политический дискурс (опять же по причине цензуры). В результате обоих этих факторов деисторизации человек вроде Шульгина мог, вопреки своему явно фашистскому прошлому, в 1970‑е годы сойти за рафинированного интеллигента.
Пример Шульгина показывает, как валоризация эстетической утонченности и приостановка требований к исторической связности – или, если использовать философский термин, их «обездействование» истории, – стали ключевыми элементами в консервативном варианте интеллигентского Субъекта20. Далее я продемонстрирую, как те же элементы, только еще более выраженно, присутствуют в работах Вадима Кожинова, Владимира Солоухина и Ильи Глазунова о классической русской культуре, способствовавших тому, что у этого Субъекта наконец сложилась целостная картина «России, которую мы потеряли». Суть трактовок Кожинова, Солоухина и Глазунова состояла в том, чтобы выстроить антилиберальный канон, зачастую из произведений, права на которые прежде заявила либеральная интеллигенция. Поэтому консерваторы превозносили таких писателей и художников, как Николай Гоголь, Алексей Венецианов, Виктор Васнецов и мирискусники, объявив, что их искусство – «искусство ренессансного типа». С одной стороны, такая риторика несла на себе печать либерального гуманизма, подразумеваемого понятием «ренессанс». С другой – консерваторы понимали «ренессанс» очень по-своему: они видели в нем моральную обязанность художника и тем более критика воспринимать любое изображение социальных явлений прежде всего как изображение гармонии, а не конфликта. Так, Солоухин в «Письмах из Русского музея» обращается ко многим картинам из русской жизни XIX столетия, настаивая, что, несмотря на реализм изображения, эти полотна наказывают зрителю и писателю не вчитывать в них социальные конфликты. Вместо этого, полагает Солоухин, в этом искусстве следует видеть целостную картину России чиновников, бунтарей, землепроходцев, науки и искусства, «России студенческой и офицерской, морской и таежной, пляшущей и пьющей, пашущей и бродяжьей», какой она была до революции21.
Солоухин намеренно ставит все выбранные им досоветские социальные типы в один ряд. Он намеренно не дает нам разбить этот ряд или подвергнуть его сомнению, пустившись в докучливые вопросы, рискующие обнажить пропасть между, скажем, Россией «пляшущей и пьющей, пашущей и бродяжьей», которая до революции составляла подавляющее большинство, и всеми остальными в его списке. Таким образом, то, чему либеральное крыло сопротивляется (прогрессивному социалистическому историческому нарративу), консерваторы полностью исключают. И этот запрет, в свою очередь, порождает антисоциалистический нарратив об истоках поздне- и постсоветского общества, согласно которому дореволюционные массы уже предвосхищают это общество. Ведь многие из перечисленных Солоухиным профессий напоминают характер занятий ИТР. А значит, для формирования этой группы советский проект как будто и необязателен. В той мере, в какой масса образованных советских горожан вообще существовала в 1960‑е годы, она бы сложилась и без советской власти. Это последнее логическое звено было необходимо для появления законного объекта ностальгии – «России, которую мы потеряли», – предполагающего, что «наша» прежняя модель правления не требовала полного пересмотра, чтобы сформировать «нас» сегодняшних: ни «нас», представителей элиты, составляющих интеллигенцию как Субъект, ни «нас», широкую публику, которую, как я показываю в третьей и четвертой главах, приглашают стать частью этого субъекта.
Первые две главы посвящены маневрам интеллигентского Субъекта и показывают, как он искал свои корни в досоветском социальном воображении и отгораживался от окружавшей его советскости. В результате этого процесса воображения и отгораживания «Россия, которую мы потеряли» обрела смысл как идеологема. У нее был устойчивый объект (отчетливо несоветская, даже антисоветская Россия до 1917 года) и устойчивый Субъект («мы», живущие в 1960–1970‑е годы, но считающие себя не слишком отличными от «мы» интеллигенции до 1917 года). В следующих двух главах речь идет о позднесоветской исторической действительности, от которой интеллигентский Субъект стремился отгородиться; в частности, я показываю, как дискурс интеллигенции находил приверженцев посредством советских массовых культурных институтов. Здесь моя аргументация тоже строится диалектически: открывает диалог либеральный вектор, а завершает консервативный.
В третьей главе, анализируя популярные исторические и художественные произведения брежневской эпохи о декабристах, я прослеживаю, как либеральный дискурс окликал городские образованные массы и предлагал им отождествиться с интеллигентским «мы». Книги Натана Эйдельмана и Булата Окуджавы, на мой взгляд, выработали для своей широкой аудитории, воспринимаемой как младшая интеллигенция, неодекабристский политический сценарий. Младшей интеллигенции предлагалось услышать призыв либералов «выйти на площадь», чтобы протестовать против власти. Вместе с тем ей советовалось направить дух противостояния в гуманистическое русло, так, чтобы, культивируя в себе чувство просвещенной интеллигентности, читатель мог относить себя к оппозиционной элите. Обе эти установки, как мне представляется, полностью отвечали консенсусу относительно ценности личности в постсталинской России – консенсусу, сознательно формируемому, как показали исследователи, в частности Полли Джонс и Кристин Эванс, постсталинскими культурными институтами совместно с лояльной оппозицией (или «полудиссидентами», как их иногда называли)22. С точки зрения советского истеблишмента, гуманистическая близость между либералами и советским просвещением должна была успокаивать технический класс, демонстрируя ему, что его политические запросы (обеспокоенность тиранией и недостаточной гуманностью советской власти) услышаны и даже учтены. С точки зрения массовой аудитории, неодекабристский дискурс позволял читателям считать себя, по выражению Эванс, «альтернативной элитой», то есть хотя и меньшинством, но весьма заметным и обладающим потенциальной властью, а значит, способным в будущем легитимизировать новый режим, что в конечном счете и произошло в 1990‑е годы и в первое десятилетие XXI века23.
В четвертой главе опять прослеживается консервативная вариация на либеральную тему. Я анализирую три фильма Никиты Михалкова, снятые один за другим с 1977 по 1980 год: «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Пять вечеров» и «Несколько дней из жизни Обломова». В этих фильмах Михалков исходит из той же аксиоматической позиции, которую занимают рассматриваемые в третьей главе либералы-популисты, и даже усиливает ее: его фильмы предназначены для урбанизированной, образованной советской аудитории, считающей себя законной наследницей дореволюционной элитарной культуры. Однако, вместо того чтобы изобразить представителей классической русской культуры как либеральную оппозицию, режиссер показывает их как мелодраматическую элиту – собрание очаровательно несовершенных людей, привлекательных своей нескладностью, напоминающей нашу собственную. Такое смещение акцентов опирается на консервативный дискурс, описанный во второй главе. Там было показано, как желание либеральной неоинтеллигенции отстраниться от исторической складности влечет за собой консервативное требование уйти от всякого политического действия. Михалков берет этот консервативный квиетизм и делает из него массовый сценарий для «нас», младшей интеллигенции, которая должна мыслить прошлое и будущее России не как какой-то наш политический проект, а как окончательный уход от всех проектов. Всякие представления о собственной политической значимости должны уступить место наслаждению нашей культурной, эмоционально насыщенной частной жизнью, без участия в по определению безрассудных инициативах. К тому же, думая о себе таким образом, «мы» преодолеваем и диаду «интеллигенция – народ», но с консервативных позиций. С одной стороны, нам, зрителям фильмов Михалкова, близок вишневый сад чеховских дворян, причем он нам куда роднее, чем крестьянские избы, воспеваемые Александром Солженицыным или писателями-деревенщиками. С другой стороны, Михалков предлагает нам отождествиться с наиболее важным аспектом консервативного представления об идее народа: что смысл этого понятия не столько в любви к крестьянскому укладу и славянофильским побрякушкам, сколько в отказе от политической субъектности и стремлении слиться с пассивной народной массой, которая не хочет и не может творить историю.
Тактика Михалкова заключается в том, чтобы убедить свою образованную, урбанизированную массовую аудиторию прислушаться к консервативной идее народности, наряженной в платье чеховских дворян. В случае с младшей интеллигенцией эта тактика приносит плоды, ведь, как и либеральный декабризм, чеховская мелодрама Михалкова – тоже законная интерпретация «социализма с человеческим лицом». В либеральном сценарии, рассмотренном в третьей главе, советский гуманизм служил разрешенной почвой для преодоления сталинизма средствами умеренной либерально-оппозиционной субъектности. Теперь же, разбирая михалковскую версию оттепельной пьесы «Пять вечеров», я показываю, что в позднесоветскую эпоху существовал еще и гуманистический сценарий преодоления сталинизма, не предполагавший оппозиционной субъектности. В рамках мелодраматического гуманизма люди послесталинской эпохи могут сойти за культурных, искренних и слишком глубоких, чтобы рассуждать о политике. Именно тот факт, что «нам», постсталинскому поколению, наконец дозволено быть такими глубокими, вроде бы аполитичными личностями, доказывает, что сталинизм остался позади. В то же время «наша» приверженность мелодраме должна оберегать нас от возврата к активизму сталинской эпохи, понимаемому как нечто превращающее нас в орудие политической риторики – в противовес целостным личностям, избегающим такого рода вещей.
Образ досоветской интеллигенции в интерпретации Михалкова прямо сопрягается с антиполитическим общественным договором мелодраматического гуманизма. Михалковская трактовка творчества Чехова и романа Гончарова «Обломов» задним числом обращает жизнь досоветской элиты в полноту человечности без какого-либо проекта. А созданная режиссером версия «Пяти вечеров» показывает, что постсталинская эпоха уже достигла толики этой полноты – и что состояние это непрочно и его надо оберегать от «наших» дальнейших попыток его нарушить. В политическом отношении отсюда следуют два вывода. Во-первых, государству не надо как-то кардинально меняться, чтобы позволить нам обрести «Россию, которую мы потеряли», потому что в определенном смысле мы уже обрели главный ее аспект – нашу благородную человечность. Во-вторых, если и когда государство действительно меняется в 1990‑е, жест Михалкова указывает еще одну идею, с помощью которой будущий режим сможет наладить контакт с младшей интеллигенцией, – идею отказа от политической активности из страха снова потерять «нашу» Россию.
Если с первой по четвертую главу я обращаюсь к причинам, наделившим досоветское прошлое привлекательностью и смыслом в массовом восприятии в 1950–1980‑е годы, то в пятой главе я перехожу к постсоветской парадигме и к тому, что я называю столыпинистской дискурсивной вариацией на тему «России, которую мы потеряли», где происходит синтез либерального и консервативного подхода к этой идеологеме. Я полагаю, что культ Петра Столыпина (председателя Совета министров при Николае II, в 1905–1911 годах) в современной России восходит к высказываниям Солженицына 1970‑х годов и подразумевает образ идеального государственного деятеля, руководящего страной в интересах культурной элиты и младшей интеллигенции, но без излишне демократических институтов, рискующих поставить под угрозу и его, и их власть. Столыпинство представляет этот полуавторитарный баланс как два этапа. Во-первых, он ставит задачу полного пересмотра государственного устройства как проекта, который можно осуществить с опорой на здравый смысл, на нормативные представления о том, кто должен руководить процессом. Согласно столыпинистским представлениям о законной иерархии, именно «мы», облеченная властью интеллигенция – теперь уже явно понимаемая как союз культурной элиты и технического класса, – должны стать во главе нового строя. Более того, за десятилетия как либерального, так и консервативного дискурса о досоветском прошлом мы уверовали, что мы всегда существовали в таком обличье и всегда стояли во главе. Постсоветская Россия должна быть просто возвратом к этому всегда считавшемуся нормальным состоянию. Во-вторых, столыпинство говорит о политике как о чрезвычайном процессе, когда пришедшие к власти считают себя демократами и при этом стараются уйти от демократических процедур, чтобы не позволить государству пасть жертвой безрассудных, не способных выражать мнение большинства «красно-коричневых» орд, всегда ищущих случая «нас» уничтожить, как уже было в 1917 году. Сначала я покажу, как в 1970‑е годы Солженицын, полемизируя с Померанцем, выстроил миф о наделенной властью столыпинистской интеллигенции. Миф этот был основан на внутренних противоречиях либерального дискурса о досоветском прошлом, о которых идет речь в первой и третьей главах. Далее я перейду к тому, как в условиях перестройки, благодаря популярным документальным фильмам Говорухина «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли», столыпинство слилось с дискурсом «демократической» ельцинской коалиции. Наконец, я продемонстрирую, как посредством поздне-, а затем и постсоветских работ популярного консервативного историка Святослава Рыбаса культ Столыпина наложился на консервативный дискурс, описанный во второй и четвертой главах, и как этот вектор привел к тому, что постсоветский интеллигентский Субъект, теперь якобы облеченный властью, признал законной путинскую «управляемую демократию».
Разгадка убедительности столыпинства кроется в его привлекательной способности сплачивать «мы» в «России, которую мы потеряли». Он позволяет «нам» не только воображать себя наследниками тех, кто жил до советской власти, но и отмежеваться от своих советских социальных корней, вести свою родословную из более давнего прошлого, минуя советское, и даже заново изобрести образ имперской элиты так, чтобы он больше походил на нас самих. Завершает книгу шестая глава, где я показываю, как сопротивление этому образу мыслей может сложиться внутри столыпинистского дискурса, даже среди тех, кого по-прежнему привлекают его установки. Эти более или менее современные представители российского либерализма осознали, какова цена веры в антисоветские фантазии о досоветском прошлом: она имеет слишком много общего с дискурсом постсоветского авторитаризма, будь то в его путинской или ельцинской разновидности. В первой части этой главы прослеживаются примеры обеспокоенности в творчестве Бориса Акунина24 и Людмилы Улицкой25 на фоне в целом ортодоксального, оптимистичного изображения столыпинистского Субъекта. Во второй части я рассматриваю произведения Леонида Парфенова, Александра Сокурова и Виктора Пелевина, где угадываются попытки критики изнутри, предпринимаемые настороженным, но по-прежнему столыпинистским Субъектом. На мой взгляд, главная линия этой критики изнутри – дистанцирование от имперского прошлого. Такой жест не отменяет ощущения ценности этого прошлого, но подрывает «нашу» кажущуюся самоочевидной преемственность по отношению к нему. Этот разрыв, в свою очередь, подводит столыпинистского Субъекта к осознанию условий своего исторического бытия – к осознанию, что он является продуктом советской истории. Такое осознание не разрушает этот Субъект, но позволяет тем из «нас», кто продолжает с ним идентифицироваться, признать, пусть неохотно и неуверенно, что столыпинство не должно быть главным способом осмыслять политическое действие в реальном мире здесь и сейчас и что не стоит позволять нашим фантазиям о «России, которую мы потеряли» диктовать характер изменений в России, в которой мы сейчас живем.
Я закончу введение двумя оговорками. Первая касается ограничений моей методологии. В моей книге, несомненно, изложена история, но не такая, где четко прослеживаются причинные связи типа «некто А подумал Х и поэтому совершил действие Y». Максимум эта книга показывает, как антисоветский дискурс о досоветском прошлом повлиял на идеологическое силовое поле в духе того, что Альтюссер назвал бы «структурной причинностью». Антисоветский дискурс о досоветском прошлом укоренился в политическом воображении российских исторических акторов и помогал им решать (часто лишь наполовину осознанно), как действовать в ключевые моменты. Я убежден, что этот дискурс помог склонить чашу весов в определенную сторону для акторов, причисляющих себя к интеллигенции, на исторических водоразделах, таких как 1968 год, брежневские десятилетия, перестройка, а также в переломные для постсоветской истории моменты – 1991‑й, 1993‑й, 1996‑й и 2011–2012 годы. Я не сомневаюсь, что социологический или антропологический инструментарий, которым я, как человек с филологическим образованием, не владею, способен уточнить или опровергнуть некоторые из моих тезисов. Без этого инструментария я не могу и прямо ответить на вопрос: «Как вы можете с уверенностью утверждать, что некто А или некая группа Б в самом деле имели в виду Х?» Впрочем, я полагаю, что мой метод дает на такие вопросы косвенный ответ, предлагая вниманию читателя обширный, хотя и не исчерпывающий, архив артефактов, созданных видными деятелями культуры и наделенными властью политиками. Их статус и/или очевидное культурное влияние позволяет мне заключить, что они успешно донесли свои идеи до масс. При этом, стремясь рассмотреть процесс в деталях, я выбрал произведения, примечательные тем, что в своей аргументации они опираются друг на друга, хотя и созданы авторами, не имеющими, на первый взгляд, ничего общего, такими как Ахматова, Лотман и Эйдельман, с одной стороны, и Солоухин, Михалков и даже Путин – с другой. Из консенсуса между предполагаемыми противниками я делаю вывод, что антисоветский дискурс о досоветском прошлом сыграл свою роль, поспособствовав тому, что новейшая российская история приняла то направление, которое она приняла (включая и повороты 2014 и 2022 годов). Однако оценить, насколько велика эта роль, не в моих силах.
Последнее утверждение подводит меня ко второй оговорке. Так как моя книга построена на критическом анализе идеологии, она причастна к «герменевтике подозрения», если воспользоваться термином Поля Рикёра26. Подозревать кого-либо – значит в чем-то его обвинять. Разумеется, не следует преувеличивать вину отдельных авторов, упомянутых в моей работе. И все же тем древним вопросом, который некогда задавали себе марксисты в советской России: «В какой момент все пошло не так?» – безусловно, задаются сегодня и все, кто причисляет себя к интеллигенции в постсоветской России, особенно после 24 февраля 2022 года. И так же, как в прежние времена марксисты, постсоветские интеллигенты сегодня очень часто подозревают, что они сами или их непосредственные предшественники ответственны за такой поворот российской истории. Эта книга их (нас!) не утешит. В ней утверждается, что постсоветский авторитаризм отчасти узаконен интеллигенцией – именно потому, что она предпочитает считать себя интеллигенцией. Говоря словами Марка Липовецкого, интеллигентский дискурс лишен «силы сопротивления» Путину, потому что в его системе ценностей не так уж мало общего с путинизмом27. Со своей стороны, выступая отчасти как наследник интеллигентского социального воображения – в силу как специальности слависта, так и моего происхождения из среды городских образованных младших интеллигентов, – я подозреваю долю этой коллективной вины и в себе. Вместе с тем меня тревожит собственная вера в силу критики. Действительно ли осуществленная мной деконструкция современной российской интеллигентской идеологии служит сколько-нибудь ощутимому решению политических проблем? В книге, видимо, действительно это утверждается, и у этой убежденности тоже есть культурная логика, причем весьма подозрительная. Задачу реконструкции и критики этой логики – или поиска более остроумного выхода за ее пределы – я оставляю читателю.
Теперь же уйдем в дебри нашей темы. И начнем с того, с кого все приличные люди начинают рассуждать о русской культуре, – с Пушкина.
1. Советские дети в поисках имперских прадедов
Либеральный интеллигентный Субъект и его историческая близорукость
«Это ведь первая дама Империи!» – <…> «Она-то первая, да вы не второй».
Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой
Возвращение империи поэтов
В 1962 году по случаю 125-летней годовщины смерти Пушкина в толстом литературном журнале «Звезда» вышел короткий текст Анны Ахматовой «Слово о Пушкине». Это не первый текст Ахматовой о творчестве Пушкина, и по сравнению со всеми ее другими литературными и научными трудами, затрагивающими наследие главного русского поэта, «Слово о Пушкине» кажется безделицей. Но в этой безделице есть любопытный формальный элемент – сложное предпоследнее предложение:
Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, – они [враги Пушкина] могли бы услышать от поэта:
- За меня не будете в ответе,
- Можете пока спокойно спать.
- Сила – право, только ваши дети
- За меня вас будут проклинать28.
Что это за «поэт», от которого «они могли бы услышать» такие слова? Жанр этого эссе наводит на мысль, что Ахматова завершит его стихами Пушкина, в идеале известными и часто цитируемыми. Собственно, именно так она и поступает в последнем предложении: «И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный aere perennius». Но четверостишие, предваряющее это предложение, принадлежит не Пушкину, а самой Ахматовой, а значит, «поэт», о котором она говорит, – она сама. В чем смысл этой вставки, особенно тогда, в 1962 году?
На первый взгляд, очень краткое «Слово о Пушкине» сродни тривиальным поэтическим нравоучениям – здесь, как и в других своих эссе, Ахматова пишет об элите, которая предала поэта ради придворной карьеры, но не избежит возмездия в исторической памяти29. Однако, если копнуть глубже, перед нами текст не столько о Пушкине и даже не об Ахматовой как об отдельном поэте, сколько об идеологии фигуры «поэта» и ее роли в 1960‑е годы. В период оттепели, последовавший за смертью Сталина, Ахматова уже не была просто автором, оставившим легендарное творческое наследие. К тому времени она превратилась в своего рода институцию. Как-то раз, вскоре после смерти Сталина, знакомый Лидии Чуковской в шутку назвал Ахматову «первой дамой Империи», и Чуковская с ним согласилась30. В другой части «Записок» – на дворе конец 1962 года, пик оттепели – эта мысль выражена еще более отчетливо:
Мы заговорили о том, может ли повториться 37‑й?
– Не может, – сказала Анна Андреевна твердо, – и знаете почему? Нет фона, на котором Сталин весь этот ужас взбивал. Вот вам косвенный признак: теперешнее молодое поколение нас с вами понимает, не правда ли? они для нас ручные, свои, а тогда, в 29‑м, в 30‑м году, было такое поколение, которое меня и знать не желало. «Как! Она тоже пишет какие-то стихи!» Было такое поколение, которое проходило сквозь меня, как сквозь тень. Какие-то там старые тетки любили когда-то какие-то ее стишки! – и все ждали, что вот-вот явится новый поэт, который скажет новое слово, и прочили в эти поэты Джека Алтаузена31.
В этом диалоге (как и в предыдущем примере) мы ясно видим ахматовскую идеологию «поэта». Ахматова – королева, к которой устремляются новые молодые поэты и писатели, такие как Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Андрей Синявский, Юлий Даниэль и Александр Солженицын, равно как и молодые актеры, в частности Алексей Баталов (все они и многие другие названы в «Записках» Чуковской). Все эти почитатели для нее «свои», «ручные». Она царит над своими придворными – литераторами и критиками. И именно с этих позиций Ахматова в 1962 году пишет о Пушкине. Именно в таком контексте возникает странная подмена, когда «поэт» говорит ее стихами.
Если учесть риторическое построение эссе, то получится, что Пушкин говорит от имени Ахматовой, причем ее словами. Она – это Пушкин, а Пушкин – это она. Она сливается со своим легендарным собратом, но не в диалоге и даже не как его физическое воплощение32. Речь идет о слиянии с Пушкиным на более абстрактном политическом уровне – слиянии, основанном на своего рода поэтическом варианте средневековой доктрины о двух телах короля. Ахматова знает, что в этот период она стоит во главе королевства, как в свое время стоял Пушкин. Об этом же ее стихотворение «Наследница», написанное в 1959 году. Тела конкретных монархов появляются и исчезают, но политическое тело вечно. Пушкин – и не только он, но любой великий русский поэт – переживает телесную смерть и продолжает жить, воплощаясь в наследниках своего трона. В годы оттепели самым очевидным претендентом на эту роль была Ахматова.
Я начал первую главу этой книги с Ахматовой, «первой дамы Империи», потому что окружающая ее аристократическая риторика – все эти королевы, короли, императрицы, наследники – должна несколько резать слух, учитывая, что дело происходит в советской России, почти через полвека после 1917 года. И действительно, двадцатью пятью годами ранее, во время столетнего юбилея смерти Пушкина, господствовала совсем другая риторика. Разумеется, Пушкин «был жив» и в 1937 году, но совершенно иначе, чем у Ахматовой в 1962‑м. Через двадцать лет после революции аристократический поэт вдруг оказался членом совета рабочих депутатов на Харьковском тракторном заводе33. Если верить Зощенко, обнаружилось даже, что Александра Сергеевича в детстве убаюкивала прабабка одного управдома34. Иными словами, он был «один из нас», «народный» поэт. Конечно, вставал вопрос: понимать ли слово «народный» в широком смысле или в революционном? Риторика, сопутствовавшая пушкинскому юбилею, всегда оставалась расплывчатой в этом отношении, как было свойственно всем дискуссиям о культурности (на заре советской эпохи обозначавшей государственную программу по повышению культурной грамотности и насаждению хорошего воспитания среди рабочих и крестьян) в сталинское время. Многие вариации на тему пушкиномании подразумевали, что Пушкин «наш» в житейском смысле слова. Считалось, что он просто по умолчанию принадлежит к «нашей» трансцендентной национальной сути – «нашей» народности. Между тем в уточнявшемся дискурсе советского просвещения Пушкин стал «своим» лишь недавно, когда революция присвоила великую культуру прошлого для блага победившего пролетариата. Как утверждал еще чуть ли не в 1930‑е годы советский марксист Михаил Лифшиц, в этом и заключалось главное противоречие сталинской эпохи, а значит, и советского просвещения – в колебании между революционными и термидорианскими установками. Официальная пресса провозглашала юношеские вольнолюбивые стихи Пушкина, его связи с декабристами – «дворянами-революционерами» – и, само собой, его крестьянскую няню свидетельствами его протосоветской социальной принадлежности. За всеми этими избитыми утверждениями Лифшиц усматривал традиционные механизмы культурной канонизации, включая считающуюся нормой убежденность в культурном превосходстве русских в сталинской «империи народов»35. В более идеальной версии, представленной Лифшицем в 1938 году в лекции «Народность искусства и борьба классов», дискурс советского просвещения пытался переиграть этот сценарий и заявить, что Пушкин объективно является представителем искусства мирового исторического значения, поэтому он теперь и принадлежит «нам», народу мирового пролетариата. При таком подходе место Пушкина становилось уже не вопросом национального наследия, а следствием более сложных диалектических отношений, причем фундаментальное отличие поэта от людей настоящего уже не сбрасывалось со счетов – актуальность его творчества для коммунизма объяснялась продуктивным парадоксом принадлежности за счет непринадлежности36.
Глядя из постсоветской эпохи, можно сказать, что вне зависимости от того, победил ли Лифшиц в философском споре в 1930‑е годы, историческую битву он проиграл, что, впрочем, было очевидно ему самому и другим представителям группы, известной как «Течение», еще в 1930‑е и стало тем более очевидно после смерти Сталина. В первое сталинское десятилетие эта идеалистская линия советского просвещения никогда не одерживала решительных побед над массовыми тенденциями в духе разговоров о няне Пушкина. Проходит двадцать пять лет, и ахматовский Пушкин – уже единственный в своем роде поэт, властелин тысячелетнего царства культуры, гордо возвышающийся над всеми и увенчивающий своих наследников, в то время как реальные политические враги приходят и уходят. Может показаться, что расстояние между позицией Ахматовой и рядовых сталинистов огромно, но на самом деле оно минимально. Да, в одном случае «поэт» – почти что крестьянский мальчишка-революционер в лаптях, и поэтому он «наш», в другом же поэт – отчетливо элитарное общественное предназначение, воплощение аристократии в самом прямом смысле слова, добродетельный правитель, противостоящий лжеэлите, наделенной политической властью. Но, как мыслители, подобные Лифшицу, заподозрили еще в 1930‑е, на самом деле Пушкин никогда не был крестьянским мальчиком в лаптях – недобросовестные нувориши-аппаратчики сталинской эпохи рядили в такие одежды, чтобы, присвоив себе права на его уже укрепившийся культурный статус, продвинуться к классовому господству, а революционная риторика была просто фиговым листочком, нужным для достижения цели. Ахматова и люди ее круга тоже это подозревали. Они видели, что сталинское общество, как и его предшественники, стратифицировано, что в нем есть своя элита, – разница в том, что при этом цинично притворялось постклассовой народной утопией; чтобы насаждать эту ложь – а новая буржуазия всегда знала, что это ложь, – оно создало массовую культуру соцреализма, а старую интеллигенцию, способную предъявить более законные права на статус культурной элиты, преследовало.
В приведенной мной цитате из «Записок» Ахматова озвучивает именно такую точку зрения: заменить ее Джеком Алтаузеном было нелепо, и «они» это знали; нелепо было и делать вид, что она «тень». Короче говоря, эти люди вовсе не избрали искреннее неподчинение прежней, традиционной культурной иерархии, и «мы» – поэты, критики, писатели (даже наихудшие авторы сталинистского толка) – всегда это понимали, даже если не подавали виду. У самой Ахматовой, хорошо знавшей крупных функционеров из Союза писателей, были все основания так думать37. Однако такая точка зрения, без сомнения, присуща не только ее поколению писателей досталинской эпохи. Приведу, например, сказанные в 1957 году слова Андрея Синявского (1925–1997), литературоведа, сформировавшегося полностью в рамках системы соцреалистической культуры:
Наша беда в том, что мы недостаточно убежденные соцреалисты… Вероятно, будь мы менее образованными людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для художника цельности. А мы учились в школе, читали разные книги и слишком хорошо усвоили, что существовали до нас замечательные писатели – Бальзак, Мопассан, Лев Толстой. И был еще такой – как его? Че-че-че-Чехов. Это нас погубило. Нам тут же захотелось стать знаменитыми и писать как Чехов38.
Синявский язвительно подчеркивает, как мало мы верим в официальную советскую культуру: мы действуем как «соцреалисты», но в действительности хотим стать «знаменитыми». Мы действуем так, словно хотим говорить на языке коммунистической утопии, но на самом деле хотим быть частью элиты и пользоваться ее привилегиями. Мы действуем так, словно строим новую культуру, но у нас очень традиционные вкусы, поэтому мы признаем превосходство старых форм культурного производства. В общем, мы наследуем основные механизмы функционирования дореволюционной культуры, но при этом лжем себе и другим. Но вот наступает оттепель, и, может, лгать больше ни к чему?
С точки зрения, изложенной в этой книге, антисоветский дискурс о досоветском прошлом начинается с запроса культурной элиты (или интеллигенции в узком смысле слова) эпохи оттепели на честность в отношении общего, всеми разделяемого традиционного взгляда на культуру. Зубок описал расцвет «последней советской интеллигенции» как приход поколения культурной элиты, которое унаследовало традиции дореволюционной интеллигенции и, по словам Иосифа Бродского – его цитирует Зубок, – «скорей интуитивно, чем сознательно, … стремил[о]сь именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры»39. То, что Бродский и Зубок считают «интуицией», на мой взгляд, представляет собой почву для полноценной массовой идеологии, а именно: полусознательного открытия того, что почти вся советская элита, официальная или неофициальная, «сталинистская», оппозиционная или репрессированная, всегда знала. Они, как и государство, всегда верили в «непрерывность», а не в теоретическую революцию. Они всегда знали про этого «как его? Чехова», и почти все (за исключением некоторых представителей раннесоветского авангарда) просто хотели присоединиться к старому пантеону, а не перекраивать его принципы. И оттепель воспринималась как время, когда все наконец перестанут притворяться и будут говорить «начистоту»40. Партия при Хрущеве не собиралась соглашаться на все предполагаемые требования интеллигентского дискурса искренности, но была готова на уступки в главном. А главным был тот принцип, о котором говорит ахматовский Пушкин. «Слово о Пушкине» прежде всего провозглашает возвращение к норме – к нормальному и традиционному для России противостоянию представителей разных элит – «поэта» как олицетворения политического тела культурной «интеллигенции» в духе Гоббса и «режима». Кроме того, в «Слове о Пушкине» с уверенностью высказано естественное предположение об исходе таких противостояний – «поэт» в конечном счете всегда побеждает. Но эта победа понимается не в категориях пролетарской революции. Она принимает форму брошенного элите вызова – в момент, когда «ваши дети» (то есть дети «режима», преследовавшего «поэта») становятся посмертными почитателями Пушкина (то есть частью интеллигенции) и «проклинают вас»41.
А как же все остальные? Ахматова полагает, что культура – исключительно дело элиты, или же народ так или иначе участвует в ней? В своем эссе Ахматова замечает, что «тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались»42. Кого она имеет в виду и когда? Уж конечно, неграмотные дети няни Пушкина не «бросились к дому поэта» в XIX веке. Равно как и прабабка зощенковского управдома. В то время под «всей Россией» подразумевалась, вероятно, только интеллигенция. Но как обстоит дело с 1960‑ми, и как «вся Россия» туда попала? Фраза Ахматовой заставляет вспомнить давнее представление о народе как безмолвном простом люде, который явно не посещал дом Пушкина, и если теперь там «вся Россия», сейчас речь идет уже о другой группе людей43. Наверное, есть десятки миллионов советских школьников, а еще родители многих из них, которые научились грамоте или пошли в начальную школу при Сталине. Но коль скоро все эти люди существуют и учитывая, как они появились (благодаря советскому просвещению в сталинской России и других советских республиках), какова их роль? Как они влияют на интеллигенцию? Если говорить о коллективном субъекте интеллигентского дискурса, это его внешняя сторона: кто они с исторической точки зрения, кто они сегодня, и усложняет ли этот вопрос нынешние представления?
«Постнарод» и пределы интеллигентского воображаемого
В ахматовском «Слове о Пушкине» – особенно если рассматривать его в юбилейном контексте 1962 года и в институциональной логике самой Ахматовой 1960‑х годов – дискурс интеллигенции о культурности носит открыто контрреволюционный характер. В этом дискурсе подчеркивается идея непрерывности культуры за счет преемственности между членами ее элитного коллективного Субъекта. Здесь нет значимого рубежа между тем, что было до и после 1917 года. Более того, этот дискурс предполагает зону соглашения между интеллигенцией и ненавистным «режимом» относительно неизменной социальной роли творческого сообщества, причем подразумевается, что это соглашение освящено не революцией, а традицией. Пушкин не «наш товарищ», а «наше все» – и не потому что так сказал Ленин или пролетариат, а потому что так сказали Тургенев и Достоевский, потому что так сказала Цветаева, потому что так сказала Ахматова. Иначе говоря, потому что интеллигентская культура с ее непрерывной, нерушимой родословной научила «нас», своих подданных, так думать, и те, кто работает на «режим», здесь такие же подданные, как и все прочие. Но если мы говорим обо «всех», где границы этой группы и кто остается вне их?
Вопрос о границах поэтической власти Ахматовой подводит нас к главному политическому вопросу, связанному с оттепелью: как выглядит антисталинистский политический коллектив. В контексте интеллигентской культурной империи и дискурса о ее непрерывности возвращение к досоветской нормальности, каким виделась оттепель, кажется антисталинистским по определению. Такой взгляд отражен в процитированном диалоге Чуковской и Ахматовой, и ту же в основе своей идеологию мы наблюдаем у других мыслителей-интеллигентов оттепели. Утверждения такого рода каждый раз наталкиваются на вопрос о пределах этого коллективного Субъекта, а значит, о пределах интеллигенции и ее антисталинской политики. Ахматова расплывчато пишет обо «всей России», которая читает Пушкина и теперь, по-видимому, станет читать и Ахматову, что будет означать поражение сталинизма. А, скажем, Владимир Саппак, первый теоретик советского телевидения, около 1960 года пишет о зрителях, естественно, даже на уровне физиологии, склонных получать удовольствие от искренности; они якобы составляют идеальную аудиторию для интеллигенции, наиболее способной к риторике искренности, поэтому сообщество таких телезрителей означает поражение сталинизма44. В обоих случаях в основе культурного процесса лежит туманный миф, в котором культурная элита сеет разумное, доброе, вечное от имени всех остальных (нации? всего мира?), все порядочные люди от души поглощают эту смесь, а все плохие – режим, его пешки и безмолвные массы (нация? какая-то ее часть?) – оказываются против «нас». Добро в конце концов, разумеется, победит – в данном случае когда настанет конец сталинизма. Но существовала ли среди «либералов» менее расплывчатая теория интеллигентской политики, отношений между культурной элитой и всеми остальными и осязаемого результата этих отношений? Именно этот вопрос в 1968 году, в переломный момент Пражской весны, занимал Григория Померанца.
В отличие от Ахматовой, официально признанной фигуры, которую государственная цензура в каком-то смысле вынуждала говорить на социальные темы эзоповым языком, Померанц был либеральным мыслителем-диссидентом, распространявшим свои эссе в самиздате, а потому имевшим возможность изъясняться более прямолинейно. В его работах 1960‑х годов особенно очевидно то, в каких пределах дореволюционный интеллигентский коллективный Субъект мог осмыслить позднесоветское социальное поле. Померанц всецело разделяет основной тезис контрреволюционного дискурса о непрерывности интеллигентской культуры. Свои мысли он выражает, постоянно прибегая к цитатам из Цветаевой, Тютчева, Хомякова, Сергия Булгакова, Бердяева и других. Некоторые его эссе – кальки с работ досоветских мыслителей45. Однако Померанц понимает, что идею коллективного Субъекта с такой интеллектуальной преемственностью необходимо скорректировать: если в XIX веке интеллигенции имело смысл определять себя по отношению к народу, то сегодня эта схема не работает и не должна работать. В полемике с Александром Солженицыным, которого Померанц считает «внутренне честным почвенником»46, он утверждает, что советская модернизация повлекла за собой коренное преобразование общества, так что традиционное для интеллигенции культурное понятие народа – а значит, и солженицынское почвенничество – больше не имеет смысла.
В чем же состояло традиционное представление о народе? Оно складывалось отчасти из социологии («народом» были крестьяне), а отчасти из уникального образа жизни, обладавшего некоторыми эстетически привлекательными, особенно в глазах интеллигенции, аспектами («народ», вдохновивший Пушкина и Гоголя). Как крестьяне, народ являл собой неотесанную массу, слабо интересовавшуюся утонченными культурными наслаждениями. Он, например, не знал любви, как ее понимает Померанц:
Трубадуры, миннезингеры – это штука шляхетная, рыцарская и по преимуществу европейская. У нас – одна из вольностей дворянских. Мужицкое отношение к любви недавно напомнил нам А. И. Солженицын: «Женятся для щей, замуж выходят для мяса»47.
Как образ жизни, «народ» подразумевал состояние до модернизации, с присущим ему привлекательным примитивизмом – «Аркадией», в которую современные люди (первоначально интеллигенция, но теперь гораздо более широкий круг советских людей) иногда «играют»48. Померанц считает морально оправданной «романтическую» склонность интеллигенции «играть в Аркадию», но не поддерживает идеологию народников, некогда отправлявшихся к крестьянам и стремившихся превратить свойственную им народную мудрость в политическую платформу49. Для Померанца народ – носитель фольклора («пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева»), но если говорить о его коллективной мудрости, она всегда была ограничена – «хорошее» в народе сводилось к общему для всех, исконному чувству совести, стремлению к «правде-истине-справедливости»50. Но, так или иначе, сегодня, в 1960‑е, не особо важно, каким был народ, потому что его больше нет.
В эссе «Человек ниоткуда» Померанца интересует не столько досоветская история, сколько его эпоха, 1960‑е годы. А в эту эпоху народа уже не существует ни в социологическом, ни в духовном смысле. После нескольких лет форсированной индустриализации и урбанизации от старого русского крестьянства остались «только рожки да ножки»51. Рабочие массы же не развились до духовно значимого коллективного субъекта:
Пролетариат городской и сельский заменил народ в политической жизни, но не в духовной жизни общества. После всех попыток Пролеткульта, пролетарского искусства и великой пролетарской культурной революции в Китае от рабочего ничего уже и не ждут в этой области. К нему обращаются только тогда, когда надо посечь очередного интеллигента. И тогда газеты печатают интервью: «Я не читал Пастернака, но…» <…>
Класс, вызванный к жизни первым промышленным переворотом, выросший, как на дрожжах, до 50 процентов населения, создал профсоюзы, советы, забастовки и т. п., без чего нельзя представить себе XX век, создал некоторый дух солидарности в борьбе с притеснением, но ничего положительного, ничего такого, что способно оставить прочный, долговечный, вековечный след. Нет никакого особого пролетарского нутра. То, что было названо пролетариатом, в духовном отношении ничем не отличается от остальной урбанизированной массы. Это просто нижний слой ее, без всяких провиденциальных перспектив. <…>
В первые годы после революции пелись революционные песни, сложенные интеллигентами – народниками и марксистами. Потом пошла в ход блатная лагерная песня, песня вычеркнутых из списков «пролетарской» общественности52.
Далее Померанц переходит к 1960‑м, когда среди высших и низших слоев городского населения происходит творческий «Ренессанс наизнанку»:
А сейчас началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынули песни, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись.
Герою Синявского мерещится, что весь Союз пишет, что в каждом окошке графоман. <…>
Пишет очень широкий слой – от шофера такси Алешковского до профессора математики И. Грековой-Венцель, но явно преобладают верхи. <…>
Если правда, что нет народа без песни, то именно здесь складывается хребет нового народа – или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду и занародную песню. <…>
Любопытно, что наши менестрели – какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но решительно без почвенной основы: не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного прогрессом в безликую слесарно-бухгалтерскую массу…53
«Интеллигентский фольклор» и «Ренессанс наизнанку» Померанца – оксюморонные символы послевоенной современности, где вновь рождается своеобразная постиндустриальная версия «постнарода», но уже в совершенно ином социальном слое. Дети и внуки рабочих и крестьян, люди, которые не могут считать себя пролетариями, которые в западных странах принадлежат к так называемому среднему классу, люди технических специальностей и работники сферы услуг – именно они создают современный городской фольклор. И, что еще важнее, в культурном отношении эти люди намного ближе к старой культурной элите. Прочертить четкую границу между теми, кто формирует, синтезирует и потребляет культуру, больше нельзя. Все эти процессы протекают, по-видимому, внутри одного социального тела. Как называть это тело? Может быть, интеллигенцией, но уже какой-то другой, с другим коллективным воображаемым? Далее в тексте Померанц обращается к этой проблеме. Он полагает, что между всеми прежними определениями интеллигенции есть нечто общее:
…Проводится граница, и то, что лежит по одну сторону ее, объявляется интеллигенцией, а то, что по другую, – нет. Получается примерно такая структура образованных слоев: 1) кадры, вросшие в государственный аппарат и болеющие за интересы этого аппарата, как за самих себя (потому что они и есть государственный аппарат); 2) мещанство, более равнодушное к общим делам и болеющее скорее за свои мелкие делишки, а также за игрушки, которые ему дают: за «Динамо», за «Спартак», за наших советских космонавтов, за наш национальный престиж (разница между мещанином и «кадром» в оттенках: то, что для одного главное, для другого – второстепенное); 3) интеллигенция, болеющая за то, что не положено, что не подсказано газетой, радио, телевидением54.
Померанц добавляет:
Эта статическая модель годится для описания современного положения в России, но совершенно не объясняет таких социальных сдвигов, как в Чехии, когда даже известная часть кадров, даже большинство ЦК становится интеллигентным55.
Поэтому он предлагает новую модель интеллигенции – «интеллигенции без границ, интеллигенции как излучения, имеющей свой центр, свой максимум интенсивности, но принципиально не имеющей пределов». Центр – это «кучка людей», «способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры». Затем следует «относительно широкий круг людей», составляющих «одушевленную интеллигенцию»; эти люди не формируют культуру напрямую: они «заняты своими профессиональными задачами», но «неспособны заниматься ими без внутренней тревоги и страдания за судьбу человечества, нации, угнетенных, культуры, искусства, религии, истины, справедливости, иногда даже одной какой-то ценности при слабой чувствительности к другим». Наконец, нижний ярус этой пирамиды – широкий слой, обладающий наибольшим политическим весом, – «интеллигенция неодушевленная, в этическом отношении ничем не отличающаяся от мещанства», но более образованная, а потому способная «несколько одушевиться». Поэтому теоретически верхний слой может транслировать свой дискурс нижнему. Даже бюрократические «„кадры“ постепенно пропитываются интеллигентностью и ведут себя, как прочие интеллигентные специалисты»56.
Аргументация Померанца поражает сочетанием логических доводов и веры, равно как и постоянными колебаниями в позиции Субъекта. Говоря о том, что индустриализация уничтожила старую народную культуру, и о несостоятельности Пролеткульта, Померанц вступает на территорию марксистской аргументации. Описанная им культурная ситуация «интеллигентского фольклора» явно обусловлена преобразованиями, которые повлек за собой проект советского просвещения и индустриализации, сформировавший политическое тело, где образованные горожане – не крестьяне или рабочие, а их потомки – теперь производят и потребляют культуру. Эту культуру нельзя назвать пролетарской (по крайней мере в общепринятом смысле); она одновременно перекликается с дореволюционными городскими традициями и вбирает в себя продукты советского просвещения. Померанц доказывает это, в общих словах ссылаясь на творчество авторов-исполнителей и графоманов, выпускающих самиздат, но с тем же успехом он мог бы привести в пример советские анекдоты 1960‑х годов, где, среди прочих, действуют Наташа Ростова Льва Толстого и поручик Ржевский Эльдара Рязанова. Опять же, когда Померанц описывает идею интеллигенции как излучения, он, казалось бы, формулирует социальную теорию новой, ориентированной на демократию интеллигентской политики, в рамках которой советские писатели, ученые, критики, инженеры, руководители и «менестрели-космополиты» – то есть уже большинство или по крайней мере весьма многочисленное меньшинство советского населения – объединены схожими образованием и бытовыми условиями, несмотря на советские привилегии для элиты. Все эти люди потенциально составляют единое сообщество, сложившееся вокруг «духа» интеллигенции.
Вместе с тем Померанц с подозрением относится к массовым коллективам и убежден в добродетелях элитарного интеллигентного меньшинства. В одном месте он пишет:
Христос… никогда не проповедовал массам. Массы тогда, как и сейчас, предпочитали Варавву. Проповедовал небольшим группам избранного народа, чтобы они стали ядром нового Адама…57
«Сейчас» (в 1960‑е годы), как и тогда, урбанизированные массы не тождественны народу. То, что некогда звалось «избранным народом», теперь интеллигенция, понимаемая как пророки и подвижники, подобные отцам Церкви58. Померанц пытается определять интеллигенцию как излучение, но уверен, что значение имеет только ее центр. Передача «духа» в его модели происходит строго сверху вниз, несмотря на то что все получили образование и «шоферы такси» пишут стихи. Даже когда Померанц говорит, что эту «нормальную» интеллигентскую модель образованного общества приходится корректировать, когда речь идет о тогдашней Чехословакии, он одновременно заявляет, что эта «нормальная» модель статистически «годится для описания современного положения в России» – как будто на российско-советском телевидении и радио нет интеллигентской культуры, как будто советский «аппарат» по-прежнему остается или когда-либо был монолитным, как будто представления о «мещанстве» как о совершенно «бездушных» конформистах, homo sovieticus, имеют смысл, как будто все «мелкобуржуазные массы» смотрят по телевизору исключительно «Динамо» и «Спартак», а не, например, Вана Клиберна, или Чуковского, или Шкловского, или записи спектаклей Большого театра и МХАТа, и т. п., как будто нельзя быть интеллигентом и при этом восхищаться Гагариным59. Да, в принципе ценности интеллигенции могут испускать излучение и провоцировать масштабные социальные преобразования, но, несмотря на огромный потенциал всего, о чем говорит Померанц, он настаивает на проведении границы между «одушевленным» меньшинством и «неодушевленным», «мещанским» большинством. Он убежден, что единственные люди в России – а может быть, и в мире, – обладающие творческой и деятельной субъектностью, – это «высокая», традиционная интеллигенция в узком смысле слова, то есть очередная вариация на тему прежней империи поэтов.
В социалистической трактовке Померанца на первый план вышла бы его осторожная чуткость к радикально-демократическому потенциалу, открывшемуся в годы оттепели. Если говорить в терминах советского марксизма, Померанц ощущает, что цели советского просвещения практически достигнуты и вскоре исполнится данное некогда большевиками обещание наделить политическими полномочиями всех, кто достиг культурности, в то время как диктатура партии должна ослабнуть перед лицом нового коллектива. Это коллективное чувство иногда определяет восприятие «интеллигентности» как главной действующей силы в эпоху оттепели у Зубока. У Померанца же, как мы видим, оно может обозначать не просто утонченный круг культурной элиты, но саму мысль, что в этот исторический момент очень многие – потенциально большинство советских граждан, теперь или в ближайшем будущем – могут считать себя интеллигенцией и поэтому могут взять в свои руки дальнейшее строительство социализма во всем Восточном блоке. Так что, вопреки всем своим диссидентским убеждениям, Померанц осторожно намечает просоветское будущее мира, где советская интеллигенция прислушивается к его призывам, отказывается от этнонационалистической риторики и действует, как подобает «интеллигенции сверхдержавы» «в центре большой системы». Сверхдержава и система остаются единым целым благодаря идее «гуманного социализма», достаточно «универсального» для этой задачи и за счет сообществ международной «солидарности» среди восточноевропейской интеллигенции60.
Впрочем, как мы уже видели, Померанца можно и, вероятно, проще читать в антисоциалистическом ключе, как еще одного сторонника интеллигентского элитизма. Хотя он с воодушевлением называет советскую интеллигенцию потенциальным источником топлива для нового народа, вряд ли он готов к последствиям такого положения дел. Вероятно, именно поэтому, когда в его самиздатском эссе дело доходит до формулировки конкретных политических требований, Померанц изъясняется весьма туманно. Он настойчиво утверждает, что интеллигенция, по его мнению, не должна брать власть, потому что это грозит «грехопадением» и возможной диктатурой (Померанц полагает, что именно так случилось с большевиками). Но ему кажется вероятным, что интеллигенция как пророчески избранный «новый народ» убедит нынешнее государственное «руководство» впитать интеллигентскую культурность и придерживаться ценностей интеллигенции, и тогда… а что тогда? Об этом эссе умалчивает. Померанц много говорит о прогрессе, о бесконечном пути «от зверя к Богу», и в какой-то момент даже упоминает свободную печать, ведать которой было бы поручено исключительно интеллигенции, но дальше классических либеральных свобод – слова и художественного самовыражения – его фантазия, по-видимому, не идет. По всей вероятности, Померанц не задумывался, в той или иной форме, о свободном рынке; к тому же, ему (как и Хрущеву) нравится, как США обустроили сельское хозяйство. Что ему совсем не нравится, так это явный поворот позднесоветского государства в сторону этнонационалистической риторики и сопутствующее ему употребление слова «народ» в значении «подлинной России», страдающей под игом выскочек-космополитов – еврейской элиты. Это главный пункт полемики, которую Померанц пытается навязать Солженицыну. Он полагает, что автор недавно вышедшего в самиздате полемического антилиберального эссе «Образованщина» (см. пятую главу), а также опубликованных произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» поддается опасным иллюзиям, думая, что народ, понимаемый как традиционное многострадальное русское крестьянство, по-прежнему существует и жаждет возмездия за совершенные против него преступления. Самому Померанцу очевидно, что такого органического народа не существует, – существует постпролетарская, индустриализованная «масса»; писатели-деревенщики предлагают этой массе с санкции партии и правительства считать себя модернизированным этнонационалистическим народом, но такое популистское самоопределение, как и национальная гордость, рождает заблуждения и ксенофобию.
Сколь ни велик соблазн согласиться с доводами Померанца против обновленного советско-русского этнонационализма, очевидно, что и сам он никак не может расстаться с дорогими ему иллюзиями – что монолитная интеллигенция противостоит монолитному режиму, что существует разделение между теми, кто обладает духом интеллигенции, и теми, кто его лишен, что культурность есть необходимое условие непрерывной передачи традиционных истин относительно того, какова «подлинная культура», кто ее «истинные хозяева» и враги. В эссе «Поэтика ИТР-дискурса» Липовецкий отмечает, что эта же идеология составляла наиболее слабое место советской культурной элиты:
Вытекающие отсюда эссенциализм и склонность к бинарным оппозициям становятся главными чертами ИТР-дискурса. Спроецированные на сферу культуры, эти черты ведут к ее «эссенциализации», в результате чего культура предстает не как динамичный и противоречивый процесс, а как набор «вечных» ценностей. При таком подходе от культуры ожидают готовых штампованных идей, а не проблематизации ценностей (той «неуютности культуры», о которой говорит Леонид Баткин и, на свой лад, Джанни Ваттимо), неколебимой верности давно усвоенным урокам, а не творческого дискомфорта, благоговейной защиты существующей иерархии, а не бунта61.
По мысли Липовецкого, корни этой идеологии – в официальном советском «идеологическом эссенциализме». На мой взгляд, эта идеология уже вшита в досоветский интеллигентский дискурсивный Субъект. Если уж на то пошло, то именно дискурс советского просвещения придает теории Померанца некоторый искупительный потенциал, который можно извлечь при несколько насильственном прочтении. Однако если мы не будем применять насилие, если истолкуем рассуждения Померанца буквально, тогда получится, что даже там, где он как будто говорит нечто новое – об интеллигенции как излучении, – он на самом деле пережевывает очень старую дореволюционную модель политики, основанной на культуре. И в этом он не одинок. Юрий Лотман, знаменитый основатель Тартуской семиотической школы и, вероятно, главный советский ученый-гуманитарий своего поколения, пишущий почти одновременно с Померанцем, обнаруживает именно такую модель излучения в основе пушкинской эпохи, то есть эпохи самого первого политического проекта имперской интеллигенции.
В известном эссе «Декабрист в повседневной жизни» Лотман утверждает, что благодаря семиотической передаче своей модели культурности декабристы изменили русское общество, хотя восстание 14 декабря 1825 года и закончилось провалом. Это удалось им потому, что они создали целостный облик высокоморального гражданина и затем посредством семиотики распространили эту «школу гражданственности» на социальную группу, далеко выходящую за пределы Северного и Южного обществ62. В самой эмоционально напряженной части эссе Лотман говорит о поведении декабристов в сибирской ссылке и отмечает: все эти бывшие князья были так хорошо воспитаны, что умели непринужденно беседовать с крестьянами на базаре, не заставляя последних ощущать свое более низкое положение, ведь
подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца63.
Далее Лотман еще более категорично добавляет:
Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры64.
Наконец, он затрагивает воспоминания Льва Толстого об отношении к декабристам:
…Если вопрос о роли декабристской идеологической традиции применительно к Л. Н. Толстому представляется сложным и нуждающимся в ряде корректив, то непосредственно человеческая преемственность, традиция историко-психологического типа всего комплекса культурного поведения здесь очевидна. <…> Трактовка Толстого очень интересна; мысль его постоянно привлечена к людям 14 декабря, но именно в первую очередь – людям, которые ему ближе и роднее, чем идеи декабризма65.
Урок декабризма для Лотмана примерно тот же, что урок Пражской весны для Померанца: ему не слишком интересны ни политическая платформа декабризма, ни рассуждения декабристов о социальной реальности, ни их способность сформировать политический коллектив. Гораздо важнее способность дворян-революционеров транслировать свою интеллигентность более широкому кругу людей и ослеплять их своей культурной утонченностью и неопределенным чувством «гражданственности». Это расценивается как одно из достижений 1820‑х годов, равнозначное поэзии Пушкина. В то же время Лотман пренебрежительно отзывается о «базаровских замашках разночинца». Столь открыто выражая презрение к вымышленному тургеневскому нигилисту-шестидесятнику, Лотман косвенно порицает бытовое поведение большевика – а в конечном счете, утверждает историческое и культурное превосходство политически неэффективных декабристов, дворян в изгнании, над намного более политически эффективными, но стоящими ниже по культурному уровню радикалами XIX века, часть которых дожила до революции 1917 года и увидела плоды своих замыслов. Что касается упоминания Лотманом Толстого, именно здесь историческая отсылка к позднесоветской эпохе особенно очевидна. Ведь исторически Толстой занимает положение, сходное с положением самого Лотмана. Писатель родился после декабрьского восстания, в 1828 году (а Лотман в 1922‑м), а встретил бывших декабристов только в 1850‑е годы, когда они получили помилование. После тридцати лет сибирской ссылки и почти полной оторванности от жизни русского общества (аналогичных тридцати годам правления Сталина, отделяющим мир имперской интеллигенции от современников Лотмана) политические взгляды почти всех вернувшихся были далеки от реалий того времени. И все же Толстой мог унаследовать если не их идеи, то их поведение. История ушла вперед, но декабристская культурность не утратила своей неизменной актуальности – таков урок, почерпнутый Лотманом у Толстого.
Как отметила Людмила Тригос, сам факт, что Лотман считает главным наследием декабризма культурность, а не вклад в последующее столетие революционной практики, как предполагал официальный советский марксистский дискурс, выдает в нем инакомыслящего либерала66. Мне кажется важным дополнить это наблюдение, уточнив Субъект этого инакомыслия – он может быть описан как досоветский интеллигентский Субъект культурности, или, может быть, представитель империи поэтов, или носитель хороших манер, или, в лучшем случае, речь идет о Субъекте лично принципиальном и порядочном, но не о Субъекте, оперирующем внятным массовым политическим дискурсом и практиками. Суть в данном случае не в том, чтобы «изменить мир», как говорил Маркс (к слову, и Померанцу одиннадцатый тезис Маркса не нравился), а в том, чтобы просто жить в нем, как подобает интеллигенту, чье социальное превосходство несомненно67. Можно разве что надеяться, что в конце концов присущий интеллигенции дух благородства просочится сквозь стены режима и убедит находящихся по ту сторону аппаратчиков разрешить свободную прессу, нефигуративное искусство или авторское кино.
Между тем, Лотман намеренно не останавливается на том, что ему хорошо известно: на существовании альтернативного коллективного проекта имперской интеллигенции, то есть социалистического проекта, который в публичной сфере некогда отстаивал зарождающийся и растущий слой образованных людей из небогатых, недворянских, словом, в том или ином смысле непривилегированных семей – так называемые «разночинцы», радикально изменившие социальный состав и политические настроения имперской интеллигенции. Лотман отвергает социалистический проект разночинцев как чуждый культурности, и Базаров, конечно, как нельзя лучше подходит на роль пугала. Само собой, Лотман знает, что среди разночинцев немало людей, внесших в русскую культуру куда больший вклад, чем декабристы на сибирском базаре. Возможно, Лотману кажется, что нет необходимости рассказывать эту историю, поскольку ее присвоила советская власть. Однако именно из‑за такого манихейского дискурсивного противостояния окостенелому советскому государству контрреволюционный, антисоциалистический интеллигентский Субъект дискурса о досоветском прошлом рисуется особенно отчетливо.
2. История не злопамятна
Правая вариация на тему о неоимперском интеллигентском Субъекте
История памятлива, но не злопамятна.
Старый большевик Петров в фильме «Перед судом истории»
Разве вы провозгласили коммунизм для того, чтобы летать на Луну?
Василий Шульгин Владимиру Ленину во сне 1959 года
Патриотическая интеллигентность
Примерно в то же время, когда Ахматова писала «Слово о Пушкине», другой ее современник, семидесятилетний Василий Шульгин (1878–1976) – сначала крайне правый монархист и депутат Государственной думы, затем идеолог Белого движения, затем видная фигура эмиграции, затем неприметный житель Сербии, затем советский политзаключенный и, наконец, старик, после амнистии 1956 года живущий во Владимире, – записал в дневник следующий сон:
Я представил какой-то театр, совершенно пустой (в смысле публики), а на сцене расположился суд. Слева от суда – прокурор, справа – место защитника, но защитника нет. <…>
Будто бы входит Ленин. Я его спрашиваю: «У вас есть защитник?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Так нельзя, судить без защитника. Хотите, я вас буду защищать?» А он говорит: «Защищайте!»
В воздухе висят весы… Весы правосудия. Говорит прокурор:
– Ленин учредил ЧК <…> Сколько крови пролила эта так называемая ЧК…
<…>
– Затем убили царя, царицу, всю семью, династию… Всех убили, кто не успел сбежать за границу…
И крови в чаше обвинения прибавляется так, что она начинает течь через край. <…>
Прокурор кончил. Председатель говорит:
– Слово защитнику.
Моя речь состояла всего из двух слов: «Брест. Нэп».
<…>
– Смотрите, прокурор, смотрите, судьи! Чаши добра и зла уравновесились. Они стоят на одном уровне.
Ленин виновен? – Виновен. Ленин не виновен? – Не виновен.
Он оправдан?
Не оправдан. Но и не обвинен. Он пойдет на суд Божий, и только Бог, Который светит добрым и злым, вынесет ему Свой приговор68.
Сон Шульгина – неотъемлемая часть его попытки найти язык для разговора с советской властью: Шульгин полагал, что, пройдя уникальный жизненный путь, он может дать тем, кто руководит его страной, ценный совет69. Как отмечал Шульгин в другом месте, советские «стражи бутылки» с ядерным «джинном» вызывали у него уважение, поскольку даже «самая плохая власть лучше анархии», к тому же «во второй половине ХX века партия многое делает правильно»70. Что касается советской власти, трудно сказать, часто ли ей снился Шульгин (хотя некоторым ее представителям, может, и снился), но она точно не имела ничего против разговора с ним71. Насколько мне известно, занимавшие высокие посты «стражи бутылки» никогда не встречались со стариком лично, зато с ним встречались на удивление многие советские аппаратчики и представители культурной элиты – от сотрудников КГБ в 1950‑е годы до режиссера Фридриха Эрмлера и всех, кто участвовал в съемках фильма «Перед судом истории» (1965), не говоря уже о ключевых фигурах позднесоветского русского национализма, таких как художник Илья Глазунов и писатель Владимир Солоухин. Даже Мстислав Ростропович, виолончелист с мировым именем, был знаком с Шульгиным и обещал на столетний юбилей сыграть для него частный концерт; правда, «последний очевидец» имперской России, к сожалению, не дожил двух лет до своего столетия72.
Что бывший враг советской власти имел сказать третьему поколению советской элиты? Сам Шульгин считал, что хочет поделиться некоторыми политическими истинами – касающимися главным образом необходимости повторить «Брест» и «нэп», то есть оставить Восточную Европу и отказаться от плановой социалистической экономики. До некоторой степени к тем же выводам к тому времени уже пришли советское руководство и многие диссиденты. Как мне представляется, Шульгин не был особенно уникальным или красноречивым выразителем этой идеи, поэтому она не объясняет, почему он приобрел скромную известность в определенных кругах73. Думаю, собеседников интересовала в Шульгине его личность – в той мере, в какой он олицетворял основания потенциального позднесоветского консервативного ответа на преобладающий дискурс либеральной интеллигенции. Этот ответ можно воссоздать по собственным словам Шульгина, но особенно по их восприятию, которое я анализирую, двигаясь от записей приставленных к Шульгину агентов КГБ к фильму Эрмлера о нем, а затем к советскому мини-сериалу 1967 года «Операция „Трест“». Все эти тексты выражают смысл консервативной интеллигентности, воплощенной в фигуре Шульгина, – а именно: мысль, что можно претендовать на статус интеллигента, поддерживая авторитарный политический проект. Такая переоценка становится возможной потому, что процесс ухода либерального дискурса от ценностей социализма и веры в исторический прогресс завершается консерватором. Складный нарратив истории интеллигенции обездействован, что позволяет такому человеку, как Шульгин, в 1960‑х годах слыть интеллигентом.
Если исходить из собственных слов Шульгина, его сон о Ленине служит поставленной Шульгиным цели принести пользу своим советским собеседникам, обездействовав собственные исторические суждения – совершив намеренный, кто-то сказал бы – циничный (а сам Шульгин сказал бы – «мистический»74), акт абстрактного отказа. Это отражено в метафоре суда, фигурирующей в его сне: Шульгин, юрист по образованию, готов «защищать» Ленина, добившись ситуации, когда присяжные не могут прийти к единому мнению – «не оправдан, но и не обвинен». От суждений о ходе истории намеренно воздерживаются и его собеседники. Агент КГБ Шевченко, приставленный к Шульгину, в январе 1991 года вспоминал, как ему поручили «сопровождать» Шульгина во время поездок последнего в 1960‑е и 1970‑е годы. Шевченко утверждал, что во время этих поездок обнаружил «объединяющее начало», составлявшее основу его общности с подопечным. Оказывается, Шульгин всегда был «истинным патриотом России», хотя и заблуждался:
…Судьбе было угодно, чтобы именно Шульгин принял отречение от престола императора Николая II. Поэтому, исходя из своих убеждений, Октябрьскую революцию Шульгин не воспринял, как не восприняло ее казачество, восставшее почти поголовно, часть офицеров, с которых сорвали погоны, и часть интеллигенции, не стерпевшая позора Брестского мира75.
Маневр Шевченко здесь напоминает адвокатскую уловку самого Шульгина – он не оправдывает Белое движение, но призывает отложить советский историографический учет. «Восстание» белых перестает быть частью большого советского нарратива, где старорежимная буржуазия проиграла революционному пролетариату. Те, кто был «неправ» в 1917 году, просто пришли в патриотическое негодование из‑за капитуляции перед немцами.
Агент КГБ счел, перефразируя знакомую сталинскую формулу, что убежденный правый антикоммунист был «патриотичен для своего времени»76. Как стал возможен столь явный ревизионизм? Когда Шульгин показывает, что присяжные не могут прийти к согласию относительно приговора Ленину, ему важнее всего, чтобы советская авторитарная власть продолжила разговор с ним. Как заявляет Шульгин, он «последовательный контрреволюционер», а значит, все исторические суждения должны подчиняться реакционной тактике здесь и сейчас, пока советское государство стабильно и контролирует ситуацию77. Поэтому, что бы Шульгин ни думал по поводу неистовства большевиков в 1917 году, сейчас это не верно и не ошибочно – скорее неопределенно. Однако, с точки зрения Шевченко, писать панегирик старому монархисту куда сложнее. Конечно, у агента та же стратегическая мотивация, что и у его подопечного. Если говорить шире, именно циничная антилиберальная тактика по большому счету и побудила высшие эшелоны советских спецслужб поддерживать в печати русских националистов в позднесоветскую эпоху. Проблема в том, что представители советского государства не могли позволить себе роскошь открыто участвовать в реакционных кульбитах «мистиков» вроде Шульгина. В конце концов, у СССР был великий революционный нарратив, и при всем желании спасти Шульгина этот нарратив накладывал свои ограничения. Борьбу с такими ограничениями можно наблюдать в документальном фильме Фридриха Эрмлера о Шульгине «Перед судом истории», снятом в 1965 году78. Фильм в конечном счете успешно снят, несмотря на ограничения, потому что в случае Шульгина режиссеру важно было показать не столько идею об обездействовании советского исторического нарратива о Белом движении, сколько переиначить социальный образ интеллигенции на консервативный лад. Шульгин, известный монархическими взглядами, не стесняющийся своих фашистских симпатий, убежденный антисемит, не должен был принадлежать к интеллигенции и, конечно, не принадлежал к ней в 1910‑е годы, – зато в 1960‑е годы он вхож в эту группу в качестве «патриотически настроенного интеллигента», потому что сами либералы пересмотрели это социальное понятие.
Выход фильма «Перед судом истории» на экран не прошел удачно. Документальная картина о Шульгине, снятая Эрмлером, бывшим чекистом и многократным лауреатом Сталинской премии, была изъята из проката уже после нескольких показов, поскольку, как предположили сочувствовавшие Шульгину русские националисты, «суд Истории» над старым монархистом не удался79
