Исповедь дилетанта
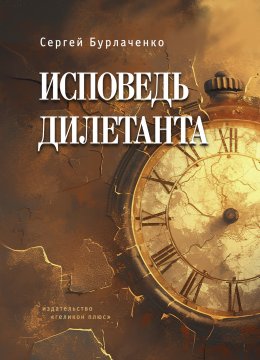
© Бурлаченко С., текст, 2024.
© «Геликон Плюс», макет, 2024.
Всем, кого люблю
Сегодня 30 января 2023 года. Это важно. Сегодня я начал новый роман, который назвал «Исповедь дилетанта».
Последние два года я не писал ничего, кроме стишков. Отложил прозу и занялся рифмованием. Вышло так себе. Оказалось, что писать ни то ни другое я толком не умею. Умею подражать тем, кто уже написал хорошую прозу и стихи.
За сорок с лишним лет я не понял, как писать, но понял, что пишу не то.
Короче, начну с признания.
Я не писал по трём причинам. Болезнь рассеянный склероз, жизнь в деревне, губительная лень.
Первая причина привязала меня к инвалидному креслу и к письменному столу. Не имея возможности жить на полную катушку, я оказался в глухом ящике, куда нет хода никому и ничему извне. То есть в нём можно слышать, читать, обдумывать, обсуждать с самим собой, но ни увидеть, ни потрогать, ни ощутить запаха и вкуса нельзя.
Вторая причина следующая. Жизнь в подмосковной деревне Саморядово отрезала меня от контактов с тем, что происходит в Москве и где-либо ещё. Кроме того, спрятала меня от родных, знакомых и друзей. Здесь хорошо существовать, но не жить. Во всяком случае, мне. Я утратил частичку живого себя. А писать прозу без самого себя невозможно.
И третье. Я позорно обленился. Ничего не читаю, толком за настоящий писательский труд не берусь. Стишки, наверное, пишу от лени. Она стала соединением болезни, провинциальности и нежелания вообще шевелиться.
Я решил со всем этим покончить. Возьмусь за роман. То есть за ум, за терпение и усидчивость. То есть за то, что во мне осталось.
Идея следующая. Я буду писать обо всём, что было в моей жизни, что хочу помнить, вновь переживать и воссоздавать. И делать это по-своему. То есть так, как считаю нужным.
Вот и всё. Дальше – роман «Исповедь дилетанта».
Отец
Чётко я помню отца со своего двух- или, скорее всего, трёхлетнего возраста.
То есть тогда был 1962–1963 год. Отцу двадцать пять лет. Он инженер на заводе. Вечно улыбается и вечно спешит. По утрам бреется у настольного зеркала в кухне. От него веет спокойствием и уверенностью.
Кажется, мы живём в коммуналке. Но мне тогда (да и теперь) это не ясно. Наша комната в двухподъездном двухэтажном деревянном доме красноватого цвета. Эти дома почему-то называются стандартными. У нас в комнате есть дверь, окно и смешная маленькая печка.
Остального не помню. Помню только тёплый комнатный свет и домашний запах.
Так вот, утро. У отца небольшая круглая мисочка солнечного латунного цвета, помазок и белая мыльная пена. Он пачкает ею лицо, а потом из-под неё появляются чистые щёки, подбородок и крепкая шея.
– Валюша, ну-ка!
И мать с помощью маленькой штучки-бритвы удаляет отцу пену с шеи под затылком. Потом отец надевает свежую белую рубашку, галстук и убегает.
Он занят, и это так привычно и обыкновенно.
Через несколько лет мы оказываемся в большой комнате кирпичной пятиэтажки на Краснодарской улице. Это уже точно коммунальная квартира. Мне нравятся наша соседка баба Варя (лет сорока), большая ванна с горячей водой и колонкой с синим огоньком пламени, туалет с цепочкой, за которую надо дёргать, длинный коридор и слово «Краснодар».
Мама называет отца Володя, и мне это имя тоже нравится.
Отец уходит на работу рано утром и появляется к вечеру, усталый и всегда разговорчивый. Он рассказывает матери о делах на заводе, посмеиваясь, чуть волнуясь и заикаясь. Потом мне объяснят, что заикание у него с войны. Но мне оно кажется нормальным. И я даже не понимаю, почему однажды оно исчезает.
Я учусь в начальной школе. В ней же преподаёт мама. Я очень старательный. Меня любят все педагоги. Мне разрешено переодеваться в тесном учительском гардеробе. Мне это кажется нормальным. На самом деле я изгой, и скоро мне это объяснит мелкая школьная шпана.
Рядом со школой идёт стройка. Сносят старые дома и возводят длинные блочные девятиэтажки.
После уроков я с приятелями Генкой Бухбиндером и Андрюшей Дороженковым играю за забором на стройке среди огромных блочных плит. Однажды к нам цепляются двое старших пацанов. Они оттесняют Генку и Андрюшу в сторону и кулаком бьют мне в подбородок.
Испугаться я не успеваю. Тем более что перед тем, как получить по физиономии, я удостаиваюсь звания жидёнка. Кто такие взрослые жиды, мне неизвестно. Неведение как бы спасает меня от злопамятства.
Короче, я удивлён и дома ничего не рассказываю. Чуть саднит нижняя губа и побаливает шишка на затылке. Удар несильно стукнул меня головой о блочную плиту. Но ребёнку всё это неинтересно и быстро им забывается.
Кажется, в первом классе, то есть в 6–7 лет, отец вечерами начинает водить меня в заводской Дом спорта. Переодевшись в раздевалке вместе с другими мужчинами, мы с отцом поднимаемся наверх. Там волейбольный зал с сеткой. Мужчины и отец играют в волейбол, а я ношусь с мячом позади площадки. Там есть гимнастические маты, на которых я кувыркаюсь. В огромном зале яркий свет, оглушительные крики, хлопки мяча и такой крепкий и уместный мужской запах.
Иногда появляется мальчишка, мой сверстник, и мы гоняем с ним в футбол.
Мама в Дом спорта с нами не ходит. Я чувствую, что здесь мы только с папой, это наше с ним занятие, и, наверное, здесь я понемногу становлюсь мужчиной.
После волейбола мы с отцом плаваем в 25-метровом бассейне того же Дома спорта. Отец учит меня плавать сначала по-собачьи, а потом брассом. Под вышками тёмно-зелёная вода. Там глубоко, и я туда не суюсь. Вообще же здесь здорово.
Но однажды мне в воде сводит ногу. Спазм очень сильный. Отец ведёт меня хромающего домой. Тогда я понял, что отцу со мной не очень интересно. Я был как бы номинально сыном, но фактически слегка лишним.
То есть у отца была своя жизнь, которая с моей пересекалась вынужденно.
Но я об этом ещё не думал. Слишком много вокруг было необычного, нового и интересного.
Например, огромный аквариум в нашей комнате. 120-литрового гиганта отец установил на нижнюю часть серванта, сняв верхнюю с полочками для посуды и застеклёнными дверцами. Сооружение стояло поперёк комнаты. За ним ночью раскладывали мою раскладушку. Отец с мамой спали в другой половине комнаты, где был выход на балкон.
Аквариум, таким образом, был в те годы моим окном в другой мир. Там плавали гуппи, гурами, меченосцы и скалярии с вуалехвостами. Я рано выучил названия рыбьих пород и этим гордился. Мне нравился яркий свет лампы в аквариуме, журчание пузырьков воздуха из конденсатора и каменный за́мок на дне, похожий на игрушку. Раз в месяц отец чистил грунт. Он сливал воду в бак, заставляя меня втягивать воздух из резиновой трубки для забора воды. Я помню тухловатый и несвежий вкус во рту.
Ещё отец брал меня на Птичий рынок, где покупал сухой и живой корм для рыб. Мне это было неинтересно, хотя я послушно мотался с отцом в Калитники то на электричке, то на 74-м автобусе.
Вот сами поездки мне нравились. Я смотрел в окно, слушал разговоры соседей и по-взрослому болтал с отцом. Случалось, отец ездил со мной на районные поля аэрации, где мы большим сачком ловили в мутной воде каких-то букашек. Отец хотел увлечь меня аквариумом, но меня аквариум оставлял равнодушным.
То есть и здесь мы с отцом никак не совпадали.
Рано или поздно это должно было кончиться скандалом. Мой отец хотел любимого сына, будущего мужчину, а я рос молчаливым и равнодушным мелким паразитом. Видимо, мы оба ждали друг от друга семейного родства, а получили тлеющий годами конфликт.
Вот так.
Отец возил меня в детские театры на спектакли «Синяя птица», «Сомбреро» и «Волшебник изумрудного города». А однажды отвёз в Цирк на Цветном бульваре. То, что я там увидел, было ужасно. По арене болтались ряженые дядьки и полуголые тётки, полыхал яркий свет, дубасила музыка, зрители ахали, визжали и гоготали. Всё время воняло потом и навозом. Клоуны идиотски кривлялись и походили на пьяных болванов.
Но хуже всего было с лошадьми, медведями в юбочках и худыми тиграми. У них у всех вырывался из пасти злобный рык, текли слюни, заплетались лапы и, по-моему, капали слёзы. Зверей хлестали бичами и жгли огнём. Короче, я видел, что им плохо, и мне было их жалко.
Всё представление я смотрел на вращающийся диск с цветными фильтрами перед прожектором и истово ждал конца этой муки. С тех пор слово «цирк» стало мне ненавистно.
Дома нас встретил воскресный обеденный стол с праздничными шоколадными конфетами, которые мама сама делала из какао-порошка. Отец сиял, а я еле держался на ногах. Мама была по-женски счастлива.
– Теперь расскажи нам с мамой о цирке, – громко сказал отец. – Тебе понравилось?
В его голосе было что-то то ли врачебное, то ли экзаменационное. Я весь сжался и молчал.
– Ну чего ты?
А я боялся честно признаться, что я всем виденным раздавлен. И ещё попросить, чтобы больше в цирк меня никогда не водили.
– Что с тобой, Серёжа? – мама поняла, что мне нехорошо. – Ты не заболел?
Я молчал.
– Тебе не понравилось? – отец почувствовал от меня подвох и попёр на авось. – Почему? Плохие звери? Неинтересные акробаты? Несмешные клоуны? Чего ты молчишь?
А я надулся и молчал. Во мне перемешались в кашу испуг и ненависть. Я сидел у стола, близкий к обмороку.
Отец пошёл багровыми пятнами.
К нему бросилась мама.
– Володя, успокойся!.. Серёжа, промолви хоть словечко!
Она металась между нами, как перепуганная птица.
А мне от этого становилось ещё хуже. Наверное, я не вымолвил бы ни слова, даже если бы меня разодрали на части.
– Встань быстро! – отец заорал так, что посуда на столе зазвенела. – Иди в угол! Будешь там стоять, пока не попросишь прощения! Марш в угол!
Я никогда не плакал. И в тот день простоял в углу несколько часов без единой слезинки в глазах.
Отец с матерью ушли в кухню.
В комнате стемнело. Журчал и светился аквариум. С улицы доносились детские голоса. Там играли вовсю. А я стоял в углу перепуганный, голодный и, очевидно, потерявший всякое представление о реальности.
Я понимал, что запомню этот выходной день навсегда.
Потом мама вытащила меня из угла, обняла, расцеловала, пожалела и попросила извиниться перед отцом.
Скорее всего, я попросил у него прощения. Я был очень послушным мальчиком и понимал, что виноват. Но, как назло, теперь ничего этого не помню.
Есть одна очень важная вещь, которую я упустил. Мне был годик, когда я заболел малокровием. Я должен был умереть, но меня спас отец. Мне перелили его кровь, и я выжил.
Получилось, что внутри я почти что он.
То есть теперь, рассказывая об отношениях с отцом, я фактически рассказываю о своих отношениях с самим собою.
Наверное, это не так. Но в сложностях часто скрыты неведомые нам первичные вещи.
Собственно, вот и всё маленькое отступление.
Теперь двинусь дальше.
На улице Краснодарская мы жили лет пять. Но однажды вдруг переехали на улицу Ставропольскую. Завод дал отцу квартиру в кирпичной пятиэтажке бледного оранжевого цвета.
Мне было десять лет. У меня появились отдельная комната и сестра Наташа. Мы жили с ней в маленькой комнате, а отец с мамой в большой.
Через год мама перевела меня в другую школу, рядом с домом. У меня объявились новые друзья в новой школе и в новом дворе.
Я стал задумываться. Однажды неподвижно сидел в большой комнате в отцовском кресле. Близился вечер, и в тихом комнатном полумраке размышлять и молчать было хорошо.
– Чего ты сидишь?
Голос у отца был резкий. Я понял, что отец раздражён. Я испугался, потому что хорошо знал его вспыльчивость и не знал, что ей противопоставить.
– Так просто, – сказал я. – Думаю.
– О чём?
– Вообще.
Отец встал напротив меня. Я видел, что ему не нравится, что я лепечу какую-то чушь, бездельничаю и вообще сижу в его кресле. А мне не нравилось, что он меня не понимает и не собирается понимать.
Мы оба долго молчали, словно чего-то друг от друга ждали.
Наконец отец не выдержал.
– Странный ты какой-то, – негромко сказал он. – Занялся бы чем-нибудь. Дел гора в доме. Или учёбой. А то так и останешься…
Слова он не подобрал. Сыграл желваками и из комнаты вышел.
А я посидел в кресле ещё немного для демонстрации, потом встал и ушёл на улицу.
Но, повторю, в целом я был послушным мальчиком. Отец много работал, надо было кормить нашу семью. После смены на заводе за кульманом в своём проектно-конструкторском отделе он шёл читать лекции в вечернем техникуме и ещё приносил домой чертежи студентов и их правил. Как я понимал, за деньги.
Однажды я решился.
– Пап! Хочешь, я помогу тебе чертить? – сказал я, когда отец после ужина разложил листы ватмана на письменном столе.
Он удивился, но не сильно. Просто спросил:
– Думаешь, справишься?
– Наверное.
– Ну давай. Пишешь ты аккуратно, с линейкой и карандашом подружишься, что не ясно, объясню. Для начала вот тебе чертёж попроще. Это консоль для автокрана. Здесь размеры и масштаб. Ясно?
Тупицей я не был. Часа через три показал отцу свою работу. Подправив огрехи, в целом он мой труд одобрил. Три или четыре вечера я сидел над чертежами, высунув язык и обуреваемый азартом пользы.
В общем, я увлёкся. Чертежи у меня получались. Отец одобрительно кивал, мама повторяла, что я умница.
Пролетели несколько месяцев. Отец поверил, что я стану со временем инженером-конструктором, а я – в собственный неожиданный талант.
И вдруг всё оборвалось, вернее, сорвалось – наподобие рыбы с крючка.
Мне стало скучно. Свет настольной лампы, шорох карандаша и стирательной резинки, запах ватмана, грифельная грязь и чужие фамилии, которые я скрупулёзно выводил в нижнем углу листа, в один миг осточертели.
Не сказав отцу, я неделю по вечерам допоздна гонял в футбол, а придя домой, принимал душ, ужинал и заваливался спать. К листам с чертежами я не притрагивался. Мне было непонятно, зачем я вообще этой мурой занялся.
Отец терпеливо ждал моего раскаяния, но не дождался. Я делал вид, что здесь ни при чём, и ушёл с головой в дворовые пацанские дела.
Лишь раз за ужином отец насмешливо заметил:
– Видел, как ты жаришь головой по мячу. Мозги ещё не вышибло?
Кстати, меня уже злили его улыбочка свысока и как бы терпеливое снисхождение. Поэтому я ляпнул:
– Мозги – нет. А желание пахать за других – отбило напрочь.
Отец встал из-за стола и спокойно констатировал:
– Ну и зря. Бездельником быть легче, только глупо, – и добавил, словно про меня забыв: – Спасибо, Валя. Вкусная капуста. Люблю твою стряпню, чес-слово!
После «чес-слово» обычно добавлялось: «Куда крестьянину податься? Здесь поят, кормят и не забывают. Житуха – самый коленкор».
А меня, одиннадцатилетнего паразита, всё это начинало раздражать. Ещё меня смешило, когда отец тянул горячий чай из своей огромной фаянсовой кружки. У него при каждом глотке вжимались щёки и бессмысленно округлялись глаза.
Я пытался повторить выражение его лица утром или вечером за чаем. Но у меня не получалось. Отец походил на клоуна, а я на пьяного деда Степана, его отца.
Чёрт знает что! Зоопарк! Дешёвка!
Зачем я этим занимался, не знаю. Наверное, физический рост связан с временным оглуплением мозга. То есть сам растёшь, а других опускаешь ниже и радуешься тому, как они мельчают в твоих глазах.
Несмотря на мой дворовый футбольный балдёж, отец увлечение спортом принимал хорошо. В юности он был спринтером-легкоатлетом. Мама часто показывала мне небольшую чёрно-белую фотку, на которой 22-летний отец бежал какую-то короткую дистанцию. У него было злое напряжённое лицо, бицепсы на руках и развевающиеся волосы. Вернее, чуб. Тот отец-спортсмен мне нравился.
На платяном шкафу у нас в квартире стояла мраморная статуэтка пятигорского орла на скале. Это был отцовский приз за победу на Всесоюзной спартакиаде. Было странно, что сам отец мне о лёгкой атлетике никогда не рассказывал. Но к спорту приучал. Во-первых, водил в заводской Дом спорта. Во-вторых, брал на заводской стадион «Локомотив» летом, чтобы я посмотрел игры в волейбол, футбол и городки. В-третьих, зимой по выходным устраивал лыжные прогулки в Кузьминском лесу с мамой и со мною. В-четвёртых, постоянно ходил со мной зимой на каток с клюшкой и шайбой. В-пятых, два раза возил меня – правда, неудачно – на приём в хоккейную школу ЦСКА.
Ну и дарил мне то коньки, то хоккейный шлем с вратарской маской, то клюшку, то мяч. Учил смолить лыжи и правильно подбирать к ним мазь.
То есть благодаря отцу я рос спортивным парнем. По сути, готовым к соперничеству в жизни. Я хотел быть первым, ещё не зная, в чём именно.
– В четверг едем на хоккей СССР – ЧССР в Лужники. Увидишь, как это красиво.
Я обожал отца, услышав о поездке на матч. Там будет вкусное мороженое в хрустящем вафельном стаканчике, наши в красном и чехи в синем, белый сверкающий лёд, холод от ледовой коробки и дружный ор с трибун. Могучая музыка государственного гимна, огоньки табло, живые Петров – Михайлов – Харламов и скрежет коньков.
После такого чуда я должен был стать только спортсменом. Желательно в красной форме с белой надписью «СССР».
В вагоне метро на обратном пути домой мы с отцом были самыми близкими людьми на свете.
Близость с отцом тогда сделала хорошее дело. Я стал понимать, чего хочу. Самостоятельности и соперничества. Услышал голос крови.
Я записался в хоккейную секцию. Сам приехал на стадион завода АЗЛК у станции метро «Текстильщики» в получасе езды на автобусе от нашего дома, разобрался, где там и что, нашёл тренера детской хоккейной команды и стал членом его учебной группы.
Был октябрь. Мы носились с клюшками в огромном пролёте подтрибунного уличного помещения, учились пасу шайбой, обводке и комбинированию атак и защиты. Полы были скользкие, покрытые осенней влагой, шайбы по ним летали туда-сюда, трещали клюшки, детские глаза горели, обучение хоккею казалось мне реализацией какой-то смутной мечты.
Ну что взять с одиннадцатилетнего пацана?
Я вопил вместе с другими: «Пас!», «Точнее!», «На ход!», «Мазила!», «Слепой!», «Дурак!» и всё такое.
То же самое орал наш тренер. Сыпались обидные словечки, грубая ругань и подзатыльники. То есть это был настоящий хоккей, только без коньков.
Пришли морозы. На стадионе сразу залили льдом несколько хоккейных коробок. На одну допустили нас, новичков. С нами вместе на лёд выходили старшие воспитанники нашего тренера. На них были панцири, налокотники, наяичники, ножные пластиковые причиндалы для защиты, хоккейные краги, шлемы и жёлто-синие рейтузы, бриджи с вшитыми щитками и свитера. На груди в синем кружке стояла красная буква «Т» – торпедовцы!
Мы все переодевались в одной раздевалке. Там пахло кожей, резиной ковриков под ногами и изолентой на крюках клюшек. Висели хохот и пацанская перебранка. Само собой, мы – новички, не имевшие ничего, кроме коньков и клюшек, – пускали слюнки, разглядывая амуницию старших. И коряво бегали среди них по льду, еле уворачиваясь от их увеличенных амуницией раз в десять тел.
А им доставляла удовольствие наша мышиная возня под их чуть ли не слоновьими ногами.
Особенно страшен был защитник Петя ростом метра два и весом в тонну. Наверное, он мог сломать или раздавить любого из нас. Когда он ловил на силовой приём новичка, гоготали все старшие и особенно тренер.
Однажды в учебной игре я совершенно случайно забросил шайбу в ворота старших. Петя кинулся за мной с остервенелым лицом. «Догонит – убьёт!» – понял я. Я носился по полю, забыв о матче и стараясь увернуться от Пети. Об игре уже не думал. И всё-таки он меня накрыл. На коньках я ездил фигово, поэтому уйти от разъярённого Пети не смог. Единственное, я хорошо видел поле и был изворотлив. И уловил задней чуйкой, подъезжая к борту, что Петя летит мне в спину всей тушей. Я упал на лёд, а он пролетел надо мной и лбом впаялся в борт.
Помню треск дерева, вопль Пети и дикий крик тренера.
Дальше Петю под руки увели в раздевалку жёлто-синие, и тренировка прекратилась.
Тренер на коньках подъехал ко мне и вдруг сказал, улыбаясь:
– А ты ловкий, Бурлачук, – и, хохотнув, добавил: – А Петя – тупой боров. Получил свою гранату.
Я боязливо молчал.
– В футбол гоняешь?
– Да.
– Приходи завтра к трём на учебное поле. Мои ребята играют матч с футболистами. Ты хорошо видишь поле, быстро бегаешь и, кажется, больше футболёр, чем хоккеист. Придёшь?
Я кивнул.
– Вот и правильно. Дадим пижонам в гетрах просраться. Завтра в три. Не ссы. Петра – на помойку. А тебя – в центр хавбеком. Лично я в тебя верю, Бурлачина!
И я понял, что отныне с хоккеем – кранты. А я – хавбек, то есть почти свой по-собачьи.
Назавтра я пришёл и сыграл футбольный матч под снежным сырым ливнем и по колено в мякотной грязи. Мне пару раз съездили бутсами по голени и один раз наступили с размаху на стопу. Домой я ушёл хромая, и больше в хоккейной секции не появлялся.
А через год в апреле к нам в класс пришёл невысокий подтянутый мужчина с необычайно спокойным лицом и сказал тихо и размеренно:
– Здравствуйте! Меня зовут Виктор Михайлович. Кто хочет записаться в легкоатлетическую секцию? Спринтерский бег, прыжки и барьеры. Видели Борзова? Станете его сменой.
Как раз в августе предыдущего года была Олимпиада в Мюнхене. Я этим не интересовался. Но однажды отец заставил меня поехать с ним в гости к бабушке Ане и дедушке Ване. У них был новый большой телевизор «Горизонт».
– Поехали быстрей! – отец почти лупил меня в спину, пока я возился со шнурками на ботинках. – Сегодня финал стометровки. Наш Борзов должен выиграть. Ноги в руки! Такое надо видеть!
Ну, надо так надо. Я послушно сделал вид, что мне интересно.
А дальше я помню чёрно-белый экран телевизора, восьмерых бегунов на дорожках и одного среди них в тёмной майке с гербом СССР, выигравшего забег и вскинувшего руки на финише.
Отец орал так, что звенели оконные стёкла.
– Ты видел? Ты видел? Он олимпийский чемпион! На стометровке! – отец сошёл с ума. – Наш Валера Борзов – с золотом! Наш! Наш! Наш! Это самая великая победа в моей жизни!
Да, выиграл Борзов легко и красиво. Казалось, все стояли, а он летел. Мне понравилось. Хотя я был уверен, что сборная СССР должна побеждать везде. Как хоккеисты.
Но имя «Валерий Борзов» я запомнил. И что такое лёгкая атлетика – тоже.
Слово «стометровка» навсегда запало в душу.
Тем апрелем мы записались в секцию лёгкой атлетики с моим школьным другом Игорем Вислоушкиным. И оказались опять на стадионе АЗЛК. Только теперь на битумной дорожке. Виктор Михайлович был торпедовцем и занимался с мальчиками и девочками бегом на короткие дистанции.
Тренировки были несложными. Бег, прыжки, гимнастика, растяжка ног и немного силовой работы с тяжёлыми набивными мячами.
Да, и низкий старт с колодок.
Вся эта несложная механика нам с Игорем приглянулась. Мы преданно ездили на тренировки два раза в неделю. Носиться тёплым весенним днём по пустому стадиону в компании с такими же чудиками было здорово.
Но больше всего мне нравилось, что спринтеры друг другу не мешают. У каждого отдельная дорожка, отдельные стартовые колодки, личные шиповки и кусочек стадиона, на котором можно прыгать, тянуть мышцы, гнуть поясницу, да и просто валяться, закинув ноги на барьер для отдыха.
Чтобы отливала кровь и мышцы расслаблялись.
Я понял, что я индивидуалист и ни в какие мерзкие хоккеи и футболы больше не сунусь.
В июле Виктор Михайлович предложил мне поехать в спортивный лагерь.
К тому времени мой друг Вислоушкин исчез из нашей легкоатлетической секции. В классе мы сидели за одной партой. Хочешь не хочешь, однажды разговор между нами зашёл о спортивной жизни.
Игорь сказал, что записался в подростковую беговую секцию на московском стадионе «Динамо». В смысле, там лучше условия и интереснее тренер.
Я махнул рукой. Самостоятельность и соперничество – вот что теперь было главным. Мы продолжали дружить, но спорта в разговорах больше не касались.
Родителям насчёт спортлагеря я сообщил. Летние каникулы обычно состояли из двухмесячного пребывания в пионерлагере «Юность» под Подольском. Это был отдых для детей заводчан того самого ЛЛМЗ, где работал отец. А лагерь спортивный – это было что-то новое и незнакомое.
Я выжидал, что решат парентса.
– Сорок рублей на одну смену я найду, – уверенно сказал отец матери, ничего с ней не обсуждая. Он считал, что в дела мужчин женщинам лезть не стоит. – Со всем остальным пусть сам разбирается. Не век же нам с тобой пасти парня.
И я поехал в подмосковный спортивный лагерь. Названия места сейчас не помню. Остался в памяти сосновый бор вокруг нашей территории и огромные оранжевые армейские палатки, в которых мы жили по десять человек в каждой.
На пионерлагерь это совсем не было похоже. Никаких линеек, концертов и дурацких кавээнов. Утром мы тренировались на небольшом стадиончике, потом обедали, спали и все вечера напролёт играли в волейбол.
Место было комариное, так что волейбол был единственным спасением от стай кусачих дармоедов.
В Москву я вернулся довольным и крепко влюблённым в лёгкую атлетику.
Но придя в сентябре на занятия в секцию, услышал от Виктора Михайловича следующее:
– Серёжа, для спринта ты слабоват. Я познакомлю тебя с Эдуардом Васильевичем. Будешь средневиком. Так для тебя лучше.
Я знал, что спринт – это дистанции в 60, 100, 200 и иногда 400 метров. А средневик бежит 800 и 1500 метров. Мне этого не хотелось. Но я был послушным мальчиком и согласился.
– Отлично! – спокойно сказал Виктор Михайлович и отвёл меня в легкоатлетический манеж того же стадиона завода АЗЛК.
Манеж сразил меня наповал! Такое великолепие вообразить себе было трудно!
Поднявшись из раздевалки по широкой бетонной лестнице, мы оказались на специальном стадионе для бегунов. Что там было? Тёмно-коричневое тартановое покрытие всего ядра стадиона, белые линии четырёх круговых дорожек, высокие наклонные виражи в торцевых частях и синтетический, липко-возбуждающий запах всего огромного помещения.
Звуки отдавались под высоченным потолком и заставляли с ходу поверить, что ты попал в малодоступный и самый лучший мир.
Дневной свет падал на беговые дорожки из толстенных стеклянных боковых стен.
Прежде легкоатлетического манежа я не видел. Тренировок в нём себе не представлял. Но понял, что, очевидно, поднялся на ступеньку выше по спортивной лестнице.
Тренеры пожали друг другу руки, покивали на меня и вообще в пространство, похлопали дружески по плечам и расстались.
Я остался один на один с Эдуардом Васильевичем.
Полагаю, ему было лет тридцать. Светлые волосы, коричневый спортивный костюм и загорелое лицо с жёсткими, всегда прищуренными глазами.
Голос был уверенный и чуть как бы с трещинкой.
– Ну что, начнём?
– Угу.
– Давай десять кругов для разминки и каждый раз после очередного третьего круга дважды ускорения на прямых. Посмотрю, на что ты способен. Виктор Михайлович говорил, ты выносливый. Это правда?
– Угу.
– Тогда вперёд! После разминки сразу ко мне. Проверю дыхалку и пульс. Усёк?
– Угу.
И я побежал десять кругов с ускорениями. Мне было нетрудно, я действительно выносливый.
Потом подошёл к тренеру. Он послушал, как я дышу, а затем вдруг обхватил мне шею под подбородком, прижимая большой и указательный пальцы возле ушей. Как я понял, там были артерии и Эдуард Васильевич таким образом контролировал мой пульс.
Он полминуты смотрел на циферблат наручных часов.
– Нормально! – и отпустил мою шею. – Теперь снимай бриджи, надевай шипы и начнём тренировку.
Больше вспоминать о моей карьере средневика нечего. Всю осень и зиму я, как белка, крутил круги по пять-шесть километров в день и пробегал по заданию тренера от 600 до 1500 метров на время.
Никаких особых тонкостей не было. Ни гибкостью, ни физикой я не занимался. Я мотал круги и тяжело дышал. Эдуард Васильевич хватал меня за шею и щупал пульс. Я как-то привык к этому и даже скучал по нудным, в целом, тренировкам.
Кстати, других воспитанников своего тренера я никогда не видел. Как и Виктора Михайловича с бывшей моей группой спринтеров. Или сейчас просто не помню. Соревнований тоже никаких не было. Два раза в неделю манеж и только бег, бег, бег до упаду.
Так продолжалось до весны. То есть скоро – открытый стадион и битумные дорожки. Или кроссы по каким-нибудь паркам и перелескам. И 800 и 1500 метров на время. А то и больше. И прощай любимый манеж до следующей зимы!
Родители меня ни о чём не спрашивали, и я им ничего не рассказывал. Картина была странная. Я куда-то бежал, а они отставали от меня всё больше и больше. И всё как бы с обоюдного молчаливого согласия.
Только однажды, когда я буквально приполз с тренировки на четвереньках, отец встал в коридоре напротив меня, пытавшегося аккуратно снять куртку и ботинки, и по-своему резко спросил:
– Ну и как?
– Нормально.
– Ну и долго ещё?
Я уклончиво пожал плечами.
– По-моему, Серёжа, тебе пора заняться чем-нибудь другим.
– Чем?
Отец потёр переносицу, что означало, что решение им уже принято.
– Ладно. Что-нибудь придумаем.
И он придумал. И сделал меня счастливым на всю жизнь.
Чего я, само собой, никогда не забуду и за что буду ему всегда благодарен.
Если быть точным, тот счастливый случай выбрал для меня май 1974 года. Мне было 13 лет. Я родился в декабре 1960-го, за двенадцать дней до Нового года, поэтому почти на год отставал от сверстников.
И я до сих пор путаю года событий и свой точный возраст в тот момент, когда события случались.
Теперь к делу.
Итак, мой отец в молодости увлекался лёгкой атлетикой. Он точно знал, где в Москве лучшие спецы в этой спортивной дисциплине. Хорошим майским днём он приказал мне одеться по форме, положить в сумку майку, трусы, носки, костюм, кеды, шиповки и ехать с ним в Сокольники. Там, недалеко от станции метро, на Русаковской улице находился легкоатлетический стадион. Официально – Школа олимпийского резерва имени братьев Знаменских.
Отец всё заранее выведал и привёз меня строго, что называется, по делу. На тот момент это была одна из лучших легкоатлетических школ в столице.
Та небольшая арена сразу мне приглянулась. Она была отделена от Русаковки тротуаром и газоном с молоденькими ясенями. Всего десятью метрами, не больше. Само ядро стадиона лежало ниже уровня улицы метров на пять. С тротуара открывался парапланный вид на арену за невысоким металлическим заборчиком-балюстрадой, а снизу со стадиона были видны фигуры прохожих и верхние этажи московской массивной сталинки на заднем плане.
Позже, став старше, я узнал, что так разом, лавиной и обухом, чаще всего приходит и бьёт наповал любовь.
Страшного ничего, но одурь стопроцентная. Шок на долгие годы.
Я переоделся прямо здесь, на невысокой трибунке, и спустился на беговые дорожки. Они были выложены квадратными упругими плитами из рекортана цветом под сурик. Шли тренировки. Казалось, что вся арена шевелится. Сотни полторы молодых парней и девушек работали. Одни неслись по кругу, другие терпеливо накручивали километры, третьи трусили, разминаясь или «заминаясь». Звенели падающие барьеры у ребят и девчат барьеристов. Дробно топотали ноги в шиповках и кроссовках. Кто-то иногда вопил: «Дорожку!» – требуя свободного пути. Многие зайцами кидались в стороны. Таково правило – беспрекословно уступать дорожку бегущему. Свистели, командовали, подбадривали, осаживали, восторгались, хлопали в ладоши и покрикивали тренеры.
В свете закатного майского солнышка мелькало разноцветье мира атлетов – будущих олимпийцев.
Мне уже хотелось остаться здесь во что бы то ни стало навсегда!
– Разомнись хорошенько! – скомандовал отец. – А я пока договорюсь с тренером.
Я побежал разминочной трусцой по узкой круговой дорожке, выложенной слоями войлока. Потом тянул мышцы, разминал пах, пару раз коротко ускорился. Отец продолжал беседу с мускулистым, коротко стриженным мужчиной. Как с давним приятелем или со своим хорошим знакомым.
Увидев, что отец машет мне рукой, я подошёл к ним.
– Значит, готов? – мускулистый мужчина посмотрел на меня очень внимательно.
– Готов.
– Я вижу. Как тебя зовут?
– Серёжа.
– Отлично. Побежишь триста метров. А после я решу.
Но мне показалось, что они уже всё с отцом решили. А эти триста метров – простая формальность.
Я стянул тренировочный костюм и перешёл на противоположную прямую. Встал на белую полосу, отмечающую начало дистанции. Поднял руку – готов. Тренер взял в руку секундомер и показал – он тоже готов. Я приготовился, выдохнул, согнулся, замер и рванул что есть мочи с высокого старта.
Какой же это был кайф – бег здесь, среди настоящих легкоатлетов, на время. Понимаете? Здесь для меня, тринадцатилетнего пацана, всё было по-настоящему. И я был – настоящим. Каким никогда прежде не был!
На вираже я крикнул кому-то: «Дорожку!» – и две девушки порхнули в сторону. У меня давно не было такого азарта и лёгкости. Наверное, я мог бы пробежать в два или три раза больше, потому что здесь не бежать было просто нельзя.
После финиша я вернулся к отцу и тренеру.
– Ничего, – мускулистый одобрительно хмыкнул. – Почти по первому юношескому разряду.
И крикнул кому-то в сторону:
– Боря!
К нам подошёл мужчина низкого роста, со смуглым южным лицом, умными глазами, горбатым, но скромным носом и жестковолосой короткой причёской. Из-под лёгкой фланелевой куртки выглядывал синий спортивный костюм на молнии и висящий на груди секундомер.
Значит, тоже тренер.
Мужчины разговорились. Я услышал своё имя и фамилию, число и время. Итак, меня приняли в школу имени братьев Знаменских и назначили тренировку в группе того самого невысокого горбоносого тренера.
Он пожал руку отцу:
– Борис Аркадьевич Шапошник, спринтерская подготовка.
Мускулистый, устроивший мне проверку, как бы сожалея, вздохнул:
– А я бы записал Серёжку к себе в десятиборцы. Просто рановато.
Отец улыбнулся удовлетворённо, словно сам только что успешно пробежал трёхсотку, и переспросил:
– Так что, мы пойдём?
– Да. Занятия в понедельник.
– До свидания!
– Пока!
И мы уехали.
Других подробностей я сейчас не помню, так что врать не буду. Мы с отцом вернулись домой. Всю дорогу он наставлял меня, как лучше добираться до Сокольников и как вести себя на тренировках.
Но я и сам всё уже знал. И путь хорошо запомнил, и опыт легкоатлетический имел, и вообще отца подводить не собирался. Это был мой первый серьёзный шаг в настоящую жизнь. Люблино в тот майский день куда-то исчезло. Ему на смену выкатились Русаковская улица, стадион с рекортановыми дорожками, тёплый весенний воздух и новые заботы в мальчишеской голове.
Отца я не поблагодарил. Видимо, считал, что он сделал именно то, чего я хотел. То есть чуть ли не по моей подсказке. Зачем учить тому, что я и так знаю! Справлюсь без посторонних. Так это и продолжалось потом много лет. То есть иллюзия моей самостоятельности, независимости и безотчётности.
На самом же деле это было не так. И отец, и частично мама мной руководили. Но отец по-своему, молча и как бы ненавязчиво, учил меня быть мужчиной.
Для этого и привёз меня тогда в школу общества «Спартак».
Откуда, собственно, родом вся моя теперешняя жизнь, если хорошенько разобраться.
В школе имени братьев Знаменских я тренировался до марта 1977 года. То есть почти до выпускных экзаменов в 10-м классе. И теперь вспомнил то время благодаря воспоминаниям о моём отце.
Случились три события, запомнившиеся мне подростковым и отцовским унисоном.
События, конечно, разрозненные, но сплетённые в один крепкий узел. Сейчас я могу назвать узел призраком семейственности. Дело в том, что спортивные занятия не сблизили меня, подростка, с отцом. Мы с ним словно не замечали друг друга. И это стало обычностью.
Но именно те события всплыли в памяти, как поплавки, сигнализирующие о долгожданном улове.
Видимо, был-таки клёв. Но улов я обнаружил только теперь, выбирая толстых рыбин из прошлого. Хорошую добычу для своей Исповеди.
Помню тёплый летний вечер, ничем не занятый и располагающий к радости. Кажется, субботний или воскресный, потому что отец тоже был дома.
Я что-то читал, сидя в своей комнате, когда отец, войдя, как всегда, без стука (у нас вообще это было обычным делом), сказал:
– Пойдём на наш стадион. Пробежишь четыреста метров, а я засеку время. Посмотрим на результат. Обмозгуем. Собирайся!
И мы пошли на заводской стадион «Локомотив» в десяти минутах ходьбы от дома.
Помню свою всегдашнюю готовность к подобной ерунде. Я любил бегать и проделывал это с удовольствием. Отец когда-то был чемпионом республиканского первенства на дистанции 400 метров и даже рекордсменом СССР. Видимо, в этот вечер его кольнуло воспоминание о юношеском прошлом. Он решил предаться ему, занявшись проверкой сына-легкоатлета.
Слово «обмозгуем» вообще сближало меня с отцом по-настоящему, нешуточно и по-мужски.
Мой отец всегда был замкнутым, закрытым человеком. Редко откровенничал и в чём-то сознавался, особенно в неудачах, проблемах или, скажем, в непрошеной слабости.
Хотя был сентиментальным и неуёмно болтливым в своих компаниях. Однажды я видел, как он расплакался за столом во время праздничной вечеринки. Говорили тогда то ли о детстве, то ли о Великой Отечественной войне. Отец сидел с красными набухшими глазами и что-то хрипел сквозь зубы. Он был беззащитным и совсем ребёнком.
Так что скорее всего тот забег и его в нём соучастие был всплывшей в нём юностью пополам с отцовской мужественностью и заботой о своём сыне.
На стадионе я хорошенько размялся и, сменив полукеды на шиповки, вышел на гаревую дорожку.
Отец стоял рядом со мной в начале виража. На руке у него были обычные часы. Я понял, что стартую сам, принял беговую стойку, выждал пару секунд и рванул.
Бежать по пустому стадиону – дело нетрудное. Ни с кем не соревнуешься, кроме как с собой. Отсутствуют другие ощущения, кроме чувства удовольствия от самого себя.
Финишировав, я немного постоял, согнувшись в поясе, отдышался, выпрямился, встряхнул ногами, сбрасывая с них мышечный спазм после бега, и подошёл к отцу.
Он как раз надевал часы на руку.
– Ну что? – спросил я, имея в виду результат.
– Неплохо, – отец ко мне пригляделся. – Как сам? Ничего?
Я поразился его как бы незаинтересованности в том, что произошло. Тем не менее спокойно сказал:
– Ничего.
– Тогда пошли домой. На сегодня хватит.
Результат он мне так и не сказал и о чём думал тогда – тоже. Этот забег и поведение отца так и остались для меня навсегда загадкой.
Буквально через месяц отец отвёз меня на подмосковную станцию «Москворечье». Там проводился кросс для сотрудников ЛЛМЗ. Это было обычным делом для профсоюзной организации в СССР. Таким образом они отчитывались о своей работе с народными массами. Зимой – лыжные гонки и русский хоккей, летом – всякие игры с мячом и состязания в беге.
На электричке мы доехали до железнодорожной станции. Недолго шли по негустому смешанному лесу, добрались до поляны, где толклись брюхатые мужики в трениках и кедах, строгие судьи и разморенные бездельем милиционеры.
Регистрируясь в стартовом протоколе, отец, конечно, выдал меня за себя. Мне ещё не исполнилось 15 лет, но заводскому профсоюзу это было до фени.
Между двумя берёзами был натянут кумачовый плакат «Летний кросс здоровья! Привет смельчакам и богатырям!».
Сами смельчаки и богатыри выглядели хиловато. Один километр дистанции был для них суровым испытанием.
Я сказал отцу:
– Как бы они не окочурились к финишу. «Неотложка» тут есть, надеюсь?
Отец поиграл желваками, что значило, что ему не нравятся мои слова.
– Ты пробеги сам достойно, – сказал он жёстко. – А мужиков не трогай. Ты спортсмен, а они физкультурники.
– Понял. Ну и с кем же тут соревноваться?
– С собой. Выбежишь из трёх минут, зауважаю.
Ясно! Отец был бойцом и меня приучал всегда и везде бороться. Ну а я был юн и мне это нравилось – бороться и побеждать.
В общем, я толково размялся, как меня учили в школе Знаменских, разделся до майки со спартаковской эмблемой и белых беговых трусов, надел полукеды, поправил короткие белоснежные носочки (пижон пижоном!) и подбежал к старту.
Там уже топтались шесть дядек, моих соперников. По-моему, им хотелось не бежать, а хлопнуть винца и покурить где-нибудь в теньке под деревом.
Но я всё-таки сосредоточился, дабы не подвести отца. Привычно выбрал среди соперников того, кто наиболее соответствовал беговым характеристикам. Это был высокий худощавый парень лет 25, более других похожий на кроссмена. У него были тренированные шея, руки и ноги. То есть он умел бегать и, вероятно, даже неплохо.
Я взял его на заметку и заранее решил не давать ему возможности разбежаться со старта. Блокировать его сразу, сбить с толку своей наглостью, а как только он скиснет, набрать максимальную скорость и катить к финишу, не сбавляя темпа и ускоряясь.
Краем глаза я видел отца. Он переживал. Его выдавали прищуренные глаза свинцового цвета и побелевшие кисти рук.
У меня тоже всегда сужались зрачки и бледнели пальцы перед стартом.
– Внимание! – хрипло и важно выкрикнул стартёр. – Запоминайте! Дистанция – один километр! Трасса обозначена красными лентами! За них не выбегать! После финиша сдайте судье свои бумажки с фамилиями! В них запишут ваш результат и место! Ясно?
Мы чего-то гукнули и, потолкавшись, расположились на старте.
Я чуть согнулся в поясе и наклонился вперёд для разбега. То же сделал и худощавый парень.
Значит, я правильно выбрал главного соперника.
Несколько секунд паузы – и сухой треск пистолета. Забег начался.
Я полетел как на крыльях. Все сразу остались далеко у меня за спиной. Тот парень тоже. Через полминуты мне уже казалось, что я вообще бегу один. Был лес, тропинка с притоптанной листвой и хвоей, красные ленты по бокам, светлый проём между деревьями впереди, шлёп шагов, ритмичное дыхание и прохладный ветерок у лба и щёк. Плюс – чертовская энергетика в теле. Видимо, я действительно был хорошо натренирован. Так легко на дистанции мне давно не было.
Короче говоря, я финишировал первым с огромным отрывом. Вот так!
Четырнадцатилетний паренёк оказался быстрее всех тех, кто рядом с ним выглядели настоящими мужиками.
Но они не умели бегать. А я умел. Того парня, назначенного мной в главные соперники, я вообще почти сразу потерял из виду. Он оказался «мылом», как мы называли в своей легкоатлетической школе совсем слабых ребят.
То есть мой юный опыт оказался здесь ни к чёрту. Я понял, что до матёрости мне ещё далеко.
Когда возвращались с отцом в Москву на электричке, он вдруг сказал:
– Честно говоря, я не ожидал, что ты этот кросс выиграешь. А ты победил легко и запросто. Уважаю! Время своё знаешь?
– Две пятьдесят девять. Я видел протокол. Правда, с твоим именем.
– Ну да, ты же бежал вместо меня. Как инженер ЛЛМЗ.
Я промолчал. То есть мне не нравилось быть подсадной уткой, хотя побеждать нравилось.
Отец добавил:
– Тысяча метров быстрее трёх минут – отлично! Скоро выбежишь на четырёхсотке из пятидесяти секунд. Месяц назад на стадионе у тебя была пятьдесят одна. Знаешь, почему я тебе тогда этого не сказал?
– Не поверил? Да?
– Не поверил. А теперь верю. Растёшь. Только не задавайся. Спорт не любит выскочек. Их ждёт глубокая лужа.
Тот отцовский совет я запомнил. Я чувствовал, что мы с ним заодно. Как сыну мне это было чертовски важно.
Ну а третий памятный мне эпизод – зимнее первенство Москвы для юношей-спринтеров в декабре того же 1975 года.
Мой тренер Шапошник записал меня в состав второй команды «Спартака» эстафеты 4х400 метров. За мной был первый этап. Других ребят той эстафеты уже не помню. Помню только, что в забеге с нами участвовала команда общества «Октябрь», которая, как правило, всегда побеждала на четырёхсотметровке на московских соревнованиях. И мы заранее знали, что проиграем им эстафету. Опыт укрепляет знание. Мы были уже на том уровне, когда заранее знаешь первого и стремишься быть на финише как минимум вторым, показав свой лучший результат.
Дело происходило в легкоатлетическом манеже Стадиона юных пионеров (СЮП) у станции метро «Динамо». Я хорошо знал этот манеж, когда-то в нём тренировался ещё с первым тренером Виктором Михайловичем.
Сейчас того манежа нет. Его снесли вместе с летним стадионом СЮП в 2015 году. Теперь на этом месте высотные дома и автомобильная парковка.
То есть советский юный спорт вместе с юными пионерами почили в бозе.
Ладно. Неважно.
Было воскресенье, и отец поехал на СЮП со мной. Я волновался. Мне предстояло показать отцу, на что я способен после года занятий в школе Знаменских.
Отец поднялся на зрительский балкон. Я переоделся в раздевалке, размялся и вышел на арену.
Здесь было многолюдно и шумно. Состязания были в разгаре. А мы, спринтеры-эстафетчики, как водится, завершали день.
Рефери расставил четыре команды из нашего забега за внутренним краем беговых дорожек. Я вместе с остальными тремя участниками первого этапа занял позицию в стартовых колодках. Двухсотметровый круг манежа состоит из четырёх беговых дорожек. Бежать надо стараться по первым двум. Слабакам достаётся третья, самая фиговая, потому что она длиннее. На ней к четырем сотням метров за два круга дистанции набираешь лишних метров пять-шесть. А это лишнее время и, в общем, жопа!
Короче, надо сразу занимать первую дорожку, жаться к бровке и к финишу выскочить из группы соперников. А ещё лучше оторваться на несколько метров. То есть дать возможность следующему этапу разглядеть тебя среди других бегунов, занять выгодное место и принять эстафетную палочку, не теряя скорости и позиции.
Такая наука. Не бог знает что, но со своими тонкостями.
Первый этап хорош тем, что второй строится по тебе, а ты просто делаешь своё дело, ну и прёшь быстро, как можешь.
Итак, мы стояли вчетвером на старте. Каждый на своей дорожке и с разрывом по дуге.
Сходятся все на одну дорожку после первого круга. К этому моменту и надо выскочить на первую иди вторую позицию.
Лось из общества «Октябрь» пошёл вперёд сразу со старта! Парень был выше меня на голову и длиннее ногами. Где они таких мослов набирают? Хрен догонишь, хрен поймаешь!
Но я делал всё, что мог. Приклеился к нему следом и не давал слишком оторваться. Других двоих не видел. Только спину первого в тёмно-синей майке с номером «10». У меня был номер «11». Значит, я должен был быть следующим за «10» во чтобы то ни стало! Кровь из носу! Сам в лепёшку! Глаза из орбит!
Не помню как, но я был-таки в забеге вторым. На этой дистанции после 300 метров человек вырубается. Физика знает свой предел. Дохнет дыхалка, темнеет в глазах, цепенеют ноги. Способ держаться – сохранить ритм движения рук. Шапошник советовал:
– После трехсот метров беги руками. Ноги как-нибудь за ними успеют.
Я так и сделал. И удержался вторым. «Октябрь» умотал от меня метра на три вперёд. Я передал эстафету и почти рухнул за бровкой беговой дорожки.
Так мы и пришли в том забеге вторыми.
А в целом заняли тогда третье место в эстафете 4х400 по Москве.
«Октябрь» нас вытащил. Мы даже обыграли первую команду «Спартака». Они были шестыми.
Время нам, конечно, не сказали, но наградили латунными медальками с позолоченными лучами и круглой зелёной серединой с цифрой «3». Медалька висела в моей комнате на стене несколько лет. Я её всем показывал, пока куда-то не затерял во время переездов.
Когда мы с отцом возвращались домой, у метро «Автозаводская» он купил огромный «Киевский» торт.
– Тебя, Сергей, с небольшой победой, – сказал отец и, видя, что я еле держусь на ногах, нёс коробку до дома сам и только следил, чтобы я не шлёпнулся на мостовую.
А дома мы вместе с мамой пили чай и ели орехово-шоколодное бизе «Киевского» гиганта.
А потом меня стошнило, и отец уложил меня в постель. Он по личному опыту знал, каково бывает спринтерам после этой дистанции.
Вот и сейчас я помню люблинский стадион «Локомотив» летним вечером, кросс на станции «Москворечье» с заводскими мужиками, СЮП, зелёную медальку, ненавистный торт и отца, сидящего у моей постели и говорящего:
– Молодец, Сергей. Сегодня ты усёк главное. Победа всегда даётся через блевотину. Так что привыкай быть победителем.
Жёны
Часть первая
Её имя Марина. Ей было 15 лет, а мне 19. Знакомство наше было случайным и, как многое в молодости, неизбежным. Летом 1980 года мы увидели друг друга в обстановке советской барочности.
То есть всё было по-русски невинно и значительно. Давно описано Тургеневым, Чеховым и, само собой, Набоковым.
Я работал на производственной практике как техник-топограф, а совсем юная девушка отдыхала на школьных каникулах рядом с папой, главным инженером топографической партии, занятой летними полевыми работами.
Она была беззаботной Лолитой, а я Костей Треплевым, ищущим свою чайку.
Нижегородская область, село Сурадеево, речка Пьяна, изба-пятистенок, солнце, ароматы травы и пыльной деревенской дороги, стада коров, тушёнка с рисом, сортир на улице, по вечерам комары, транзистор с «Голосом Америки», романтичная робость, школьница и студент болтают на крылечке, кокетничают, кадрятся и вот-вот начнут целоваться. Юрий Иванович, папа Марины, нам не мешал. Скорее всего, не принимал всерьёз игрульки дочки-девятиклассницы и студента. Ну а мы увлекались друг другом всё больше и больше.
Я много курил. Как-то нашёл на столе свою сигарету с аккуратной надписью синей шариковой ручкой: «Серёжа, бросай курить». Я понял, что девчонка в моих сетях.
Дальше дело было за мной.
Но до самого конца практики я ничего такого себе не позволял. Так, разговорчики, шуточки, загорание вдвоём на речке, короткие взгляды на её стройные босые ножки, студенческие байки московского хмыря для провинциалочки, песенки под гитару – да и всё.
Прощаясь, сказали друг другу коротко:
– Пока, Марина!
– Пока. Я буду скучать.
– Значит, рано или поздно увидимся.
– Наверное…
Вежливая необязательность желаемого обоими свидания.
И уже в августе мы с Мариной снова встретились. Расставаясь с ней, я записал адрес: Павловский Посад, улица Кирова, дом 73 – и однажды без предупреждения приехал.
Во дворе пятиэтажки я окликнул восьмилетнюю девочку:
– Знаешь Марину Федяеву?
– Из двадцатой квартиры? Знаю.
Я снял с руки часы на металлическом браслете.
– Отнеси, пожалуйста, и отдай ей лично в руки, – и предупредил: – Только обо мне ни слова!
Я жил в игре, как всякий самоуверенный ловелас.
Через две минуты Марина выскочила на улицу.
Я улыбался.
– Привет!
– Привет!
– Куда пойдём?
– Не знаю. В парк, наверное. Не против?
Я улыбался.
Мы пошли по улице Кирова в парк, который был совсем рядом. Марина шла, стараясь не волноваться.
Встречные девочки-подростки смотрели на нас словно на инопланетян. Скорее всего, это были одноклассницы Марины из её школы. Ну и ладно, думал я чуть заносчиво и высокомерно, теперь пойдут слушки и завистливые разговорчики и шушуканья во всех павловопосадских девчачьих уголках. Забавно!
Марина – красивая. Я тоже ничего. К тому же в кожаном пиджаке и штатовских джинсах. Для этого городка – то, что надо!
– Я не ожидала, что ты приедешь, – вдруг беззащитно призналась Марина.
– Я, в общем-то, тоже.
– Ты серьёзно?
– На все сто.
Марина то краснела, то вздрагивала. Я её явно поразил и почти что раздел без спроса.
Но я уже знал, что девушкам, впервые влюблённым и целомудренным, это нравится. Только ни в коем случае не надо ни на чём настаивать. Надо быть вежливым и немного скучающим. Помнить прапорщика Григория Александровича Печорина и княжну Мери. Классика – надёжный триггер. Куда лучше музыки, вина и обещаний, данных с клятвами и возбуждённым шёпотом.
Ранний сентябрь был ненастным. Я приезжал в Павловский Посад почти каждый день, почти влюбившись.
Помню дождливый день, окно коридорного пролёта между четвёртым и пятым этажом, покрасневший носик моей девушки, свой зад на подоконнике и вокзальный упрямый повтор песни из чьей-то квартиры:
- …Три-и ме-е-ся-а-ца-а зи-ма
- И ве-е-ечная весна-а-а!..
Мы с Мариной не обнимались, не целовались и ни о чём не говорили. Мы слушали песню и как бы чего-то ждали. Особенно вздрагивающая от волнения и холода Марина.
А я был невозмутим. Точнее, равнодушен.
Сейчас из всех утюгов нам говорят, что более всего мы хотим жертвовать собой. Видимо, уже тогда я был тем, кого имели в виду утюги. Сейчас мне кажется именно так. Я стоял с девушкой в подъезде между этажами и готовил себя ей в жертву. Зачем? Ради чего? Какого рожна? Неизвестно. Это странно, но рассматривая мутное окно и искоса девушку, слушая дурацкую песню и немного скучая, я уже был готов к тому, что называют семейным счастьем. Мне было лень включить мозги и всё-таки понять, каким будет это счастье. Я со странным восторгом готовился принести себя в жертву.
Наверное, тогда это казалось мне необходимым и естественным.
Я выдумывал себе будущее, совсем не оценивая настоящее. Надо признать, что мы оба его не оценивали. Мне было девятнадцать лет, ей пятнадцать, для нас всё было приключением, но никак не шагом туда, где лежат наготове капканы, колючая проволока и настоящие мины.
И самое странное, что ни мои, ни её родители не одёрнули нас и не дали обычных подзатыльников.
Мы с Мариной были в невесомости, без гравитации и связи с Землёй.
Я не сваливаю вину на других. Я лишь поражаюсь, как охотно мы сами бежали в сторону придуманного и долгого наказания.
Музыка затихла. Стал слышен полусонный шум дождя.
Марина посмотрела на меня, как на учителя у школьной доски, и спросила:
– Я тебе не надоела?
– Перестань, – опомнился я. И вдруг сказал: – Поехали в Москву?
– Нет.
– Почему?
– Это невозможно. Нельзя. И очень глупо.
– Ну и что?
Она улыбнулась, повернулась, поднялась по лестнице к квартире и скрылась за дверью, не попрощавшись. А я поехал домой. Помню, что очень хотел есть и мечтал о горячем душе.
Такие у нас были свидания, ничего не значащие и ничем не кончавшиеся.
Прошли осень, зима, наступила весна. Всё как в песне. Я репетировал в молодёжном театре-студии и учился в техникуме. По ночам писал рассказы и сочинял песенки. Пел их на дружеских вечеринках под гитару. Просто так. Но во мне всё требовательнее заявляло о себе авторское я.
Однажды, встречаясь с Мариной, я сказал:
– Есть мысль. Дать концерт в твоей школе. Часа на полтора. Ты за?
– За деньги?
– Бесплатно. Откуда у вас деньги?
– А как это организовать?
– А ты спроси у вашего школьного начальства. Директора или завуча. Аппаратуру мы привезём с собой. Нам нужен только зал и человек сто зрителей. Давай сбацаем замес! Идея нехилая!
Марина взволновалась.
– Точно! – щёчки у неё вспыхнули. – Я поговорю с Верой, нашей пионервожатой. Она активная. Думаю, что согласится. Всё-таки – ребята из Москвы! У нас это редкость.
Итак, дело пошло! В театре я сагитировал нашего радиста Жеку и подбил своего дружка, студента топо-системы Макса. Жека обещал три микрофона, две колонки и усилитель. Макс – читать в зале за столом с микрофоном подготовленные мной тексты ведения концерта.
Я решил, что между песнями нужны остроумные несложные связки-прокладки. Макс обожал советскую рок-эстраду. Тут я надеялся на его фанатизм и вкус. И грамотное чтиво. А павловопосадские старшеклассники (особенно старшеклассницы) должны были стать на короткое время нашим небольшим и преданным клабом!
Да, мне ещё по просьбе Марины пришлось встретиться с Верой-пионервожатой.
– Мы с удовольствием придём на ваш концерт, Сергей. Всей старшей школой, – полноватая курносая девушка лет 25 смотрела на меня почти с любовью. Видимо, я был для неё редкостью. Московским заповедным зверем. Мои длинные волосы, интеллигентное лицо и мятые джинсы брали её голыми руками. – Только один вопрос. Не будет скандала, как недавно с «Машиной времени»?
Месяц назад «машинисты» дали концерт в местном ДК. Был транспортный коллапс на электричках, аншлаг в городе, перевёрнутые урны, сломанные скамейки и деревья, хамские надписи на стенах и разбитые стёкла в магазинах.
Я как бы неуверенно пожал плечами:
– Гарантий, конечно, никаких. Но своих фанов я возьму в ежовые рукавицы, – и положил руку Вере на горячее плечо. – Не волнуйтесь! Я сам не люблю дураков. Поэтому и еду к вам, как к умным людям. Порядок обещаю и жду того же от вас.
Таким образом скандальная «Машина» и мне сделала рекламу. Школьный актовый зал был набит до отказа. Отдельный ряд занимали педагоги и начальство. Мне запомнился невысокий мужчина в галстуке и с очень жёсткими глазами глубокого нефтяного цвета.
Это был директор. Самым вальяжным и напряжённым зрителем. Вера сидела рядом с ним, чересчур много улыбалась и всё время нервничала.
Мы приехали в школу часов в одиннадцать. Расставили аппаратуру, проверили звук, я подстроил гитару, размял голос и дыхание.
Жека и Макс волновались. Я же был профессионально спокоен и уверен. Прибежала Вера:
– Можно пускать в зал? Там народу человек двести! Настоящий дурдом!
– Через минуту, – я был спокоен, как маршал Жуков. – Макс, Жека, готовы?
– Йес!
– Тогда я на сцену! Ни пуха, ни пера! Вера, запускай!..
Через пять минут концерт начался. Зал слушал, не шевелясь. Макс прочитал первую приветственную фразу, пожелал всем удачи и хорошего путешествия, я подошёл к микрофону, надел на плечо ремень своей «Кремоны» и запел:
- Дорога нас ведёт туда,
- Где счастья светится звезда.
- Где в тишине лесов и рек,
- Лесов и рек,
- Счастливым станешь ты навек!..
Эту короткую фигню, розовый анонс, я сочинил именно к концерту. Я уже понимал, что короткими восемью строчками надо собрать внимание зала, как бы приучить его ко мне и спокойно добивать в остальные полтора часа.
Школьники послушно поддались моему голосу и гитаре и ничего против не имели. Внимание было стойким и дружелюбным.
Марину я не видел. Я знал, что она в зале, но даже не искал глазами. Я был весь в концерте и на мелочёвку не тратился.
Всё шло как по маслу. Только через час во время исполнения баллады «Красная кирпичная стена» произошло маленькое ассаже. Как только прозвучали строки: «Если только на пути не встретится / Красная кирпичная стена!» – директор поднялся и вышел из зала. За ним побежали Вера и несколько педагогов. Я видел это. Но не сбился, продолжал петь, только в подсознании мелькнуло: «Козлы!..»
Был лёгкий ветерок опаски и одновременно гордости.
«Красная кирпичная стена» не была ни антисоветской, ни диссидентской. Но, видимо, слова про эту стену из красного кирпича вызвали какие-то странные мысли и аллюзии. Если честно, я этого не ожидал. Но, стоя на сцене в павловопосадской школе, вдруг почувствовал себя заодно с «Машиной», «Воскресением», БГ и чуть ли не со всем затраханным тупыми ублюдками миром.
После концерта Марина поехала в Москву с нами. Она чувствовала, что попала в иной мир, где весело, необычно, умно и свободно.
Мы сидели у меня на кухне, ели пельмени, пили токайское, курили, травили анекдоты обо всём и в общем и целом посылали бытие на три заветные буквы.
Марина то и дело краснела, но от этого была ещё красивее и соблазнительнее. Я обнимал её за тонкую трепещущую талию и съезжал понемногу мозгами.
Особенно меня донимал большой пальчик её голой ноги с аккуратненьким перламутровым ноготочком под кухонным столом. Я ждал, когда Жека и Макс отвалят, мы с Мариной останемся одни и тогда…
Наконец друзья ушли. Захлопнулась входная дверь в коридоре. Кухня была полна сигаретного дыма и немытой посуды.
Мы сидели с Мариной в кухне и о чём-то болтали. Наверное, о моём концерте и о восторге её подружек.
Стемнело. Часы с металлическим браслетом показывали начало десятого.
Марина заторопилась.
– Надо домой, – сказала она чуть хмельным и чуть не слушающимся голосом. – Завтра городская контрольная. Папа с мамой будут волноваться. Проводишь меня?
Господи, как она мне нравилась! Вся! С длинной курчавой льняной причёской, сиреневым тонким платьем, небольшой детской грудью, перламутровым ноготочком на босой ноге, неуверенным голосом и почти откровенными карими глазами!
– Может, останешься? – с лёгким нажимом на «останешься» спросил я.
– В другой раз.
– Какой такой другой?
– Какой-нибудь.
Зазвонил телефон. «Кто-нибудь из студии, – подумал я. – Не спится оглоедам!»
Марина была уже в прихожей. Она причесалась гребешком из своей сумочки с латунным сердечком на ремешке с замочком, надела туфли, оправила платье – и стала ещё красивее. Тем более что лампа в коридоре была неяркая, да ещё прикрытая лукавым абажуром песчаного цвета с нарисованной на нём алогубой улыбкой.
Надо было ждать у моря погоды. Как полагается.
– В другой раз, так в другой раз, – согласился я.
И поехал провожать Марину в уже ставший немного родным Павловский Посад.
Один современный популярный писатель сказал, что сейчас все пишут о прошлом. Настоящее, мол, им неподвластно. Тем более будущее. Потому они и копаются в окаменелостях прошлого.
В этот момент я как раз писал главу о моей первой жене Марине. И задумался. Не обиделся, а, наоборот, возбудился.
Время сейчас страшное. Две страны втянуты в войну. Гибнут города, люди и всё живое вокруг. Это там и у нас. И никто пока не знает, чем закончится этот кошмар.
Так ведь и писатели тоже не знают. У них есть опыт жизни, а не смерти. «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Василий Тредиаковский, XVIII век. Писал он о том, как царь будет расплачиваться в аду за свои злодеяния.
Сидел поэт за столом с пером и листом бумаги, всё знал и строчил свою поэму.
А Радищев потом этим императрице Екатерине – по сусалам!
Но сейчас, видимо, не тот масштаб. Мелочь пузатая. Так что лучше о Марине, чем о светлом будущем.
А кому надо, смотрите телевизор.
Всё, поехали дальше.
В мае 1981 года я окончил топо-систему, получил диплом, распределение в Мосгоргеотрест и поехал в Полоцк на военные сборы. За долгожданными звёздочками младшего лейтенанта запаса.
Служба была не бей лежачего. Если не считать гонки учебных теодолитных ходов вокруг нашей части и химатак в палатке. В земле было полным-полно ржавого железа, стреляных гильз, разряженных гранат и настоящих мин, оставшихся после Великой Отечественной. Много пили наши московские офицеры. Местные смотрели на это как на цирк. Комвзвода капитан Петухов, задумчивый белорус, называл нашу службу «садук», то есть детским садом.
Однажды одного молодого солдатика за какую-то провинность отправили на недельную гаупвахту в соседнюю часть. За ним приехали два жлоба в синих беретах. Это были те самые десантники, которые в 1979-м брали Кабул. Я впервые лицезрел убийц.
«Есть такая профессия, Родину защищать!»
Ну и так далее.
Солдатик вернулся с фингалами под глазами и с синяками на руках. Он сидел в курилке, опустив голову, ничего не рассказывал и вздрагивал каждый раз, когда слышал громкий крик или внезапный хлопок двери.
Очевидно, он на неделю оказался тем, от кого защищали Родину эти синие береты, и очень жестоко.
По-русски он почти ничего не понимал и вообще был похож на недобитого зайца. Кажется, он был таджик или киргиз. Чучмек, как его любовно называл наш прапорщик Воронько.
Вечерами в Ленинской комнате я строчил письма родителям и Марине. Девушку я не забывал. По ночам в казарме видел как наяву её лицо, ключицу под голой шеей, спелые икры в паутине колготок и ещё черт-те что, чего на самом деле вживую не видел.
В ужин мы пили из кружек горячий чай с бромом. Так что молодому парню в одинокой постели можно было и не такое увидеть!
Да, чуть не забыл. В январе того же года, то есть ещё во время моей топо-учёбы, ко мне в Москву неожиданно приехала Марина. Обычно румяное и юное её лицо было серым и словно постаревшим.
– Что случилось? – взволновался я.
– Мама!.. – она боролась со слезами. – Я больше не могу там жить!
– Что мама? Заболела?
– Она вообще больная. Я тебе раньше не говорила. У неё психическое заболевание. То истерики, то хохот, то депрессия. Я сама почти сумасшедшая. Она там нас всех угробит.
Мне некуда было деваться, мужик всё же и так далее, и я сказал:
– Ну и поживи у меня. Всё устаканится.
А через два дня в техникуме появился Юрий Иванович.
– Где Марина? – спросил он. – У тебя? Когда она вернётся домой?
– На днях. Она хочет отдохнуть. Я не против.
– Это не очень хорошо. Но я тебе верю. Ты парень с головой. Объясни Марине, что мы по ней скучаем.
Юрий Иванович был похож не на главного инженера, а на того самого забитого солдатика, которого я увидел через год на военных сборах.
То зимнее приключение имело хороший исход. Мы с Мариной сдружились по-настоящему. Была близость не физическая, к которой мы пока и не стремились, а узнавание друг друга, соединение без вспышек и высоковольтных разрядов, постепенное смешивание жидкостей в сосуде с чистыми стенками.
Со сборов я вернулся в июле и сразу поехал в Павловский Посад. Марина, которая закончила школу прошлой весной, теперь, в 17 лет, стала обалденной, совершенно самостоятельной девушкой. Мы много гуляли по Москве, много болтали, много где бывали и много чего уже хотели.
Макс через своего отца, приехавшего из Элисты по своим газетно-партийным делам, достал нам комплект билетов на очередной МКФ. Мы ездили по утрам в кинотеатр «Зарядье» и вволю отрывались.
Я видел, как Марина постепенно забывает Посад, и чувствовал, что нам с ней пора взрослеть по-серьёзному.
Та самая ночь, первая и опасная, прошла в девственной сентябрьской тишине.
Марина почти не плакала. А я её почти не уговаривал. Мы просто целовались, ласкали друг друга, чуть стеснялись и чуть пытались помочь друг другу сделать то, чего так давно хотели.
У меня всё получалось, а у неё всё было для меня готово.
Ну а дальше мы просто стали жить вместе в моей квартире в московском районе Люблино. Я работал в Мосгоргеотресте на Белорусской, а Марина устроилась в почтовое отделение на Тимирязевке. Тогда подмосковной девчонке устроиться на работу в Москве без прописки было нельзя. Но мне помогли мои театральные друзья. Мама одной нашей актрисы была начальницей почтового отделения на Астраханской улице и всё устроила.
Марина перевезла ко мне свои вещи и, собственно, стала моей гражданской женой.
– А твои родители не будут против? – если честно, я всё ещё не верил своему незаслуженному счастью.
– А я с ними уже поговорила.
– Ну и как они?
– Мама не поняла. А папа сказал, что он тебе доверяет.
Я сделал серьёзное лицо:
– Мне – понятно? А тебе?
Но Марина была смелее меня. Он просто скинула платье, легла в постель и протянула мне изящные голые руки:
– Знаешь, что у меня есть для тебя?..
Сами понимаете, что двадцатилетнему юноше аргументов против семнадцатилетней нахалки тут не подобрать.
Вечерами я пропадал в своём театре-студии. Марина иногда ходила к нам на репетиции и всякие вечеринки. Нам это нравилось. А многие в студии уже принимали Марину за свою.
У неё рос живот.
Как-то моя мама меня спросила:
– Ну и что дальше? По-моему, тебе пора что-то решить.
– Да, конечно, – маму я с детства побаивался. Она всю жизнь работала педагогом в средней школе и умела с ходу обуздать даже самого лохастого шпанёнка. – Мы обязательно распишемся. Только ей ещё семнадцать…
– Так вот, сходи в загс и узнай, как это делается. Марина в положении. Возраст тут препятствием не будет. Даже сможете расписаться вне очереди. Шевельнись, будущий папа!
Папа и мама Марины вообще пропали. Или мы сами про них забыли. Жизнь захватила нас полностью и хотела общаться только с нами, словно кокнула ради себя и нас всё остальное человечество.
Тем не менее я делал много нужного. Мы подали заявление в загс, сшили Марине хорошее свадебное платье свободного кроя и нежного оливкового цвета, купили ей золотое обручальное кольцо (на второе моих денег не хватило!), заказали такси, ресторан, пригласили гостей и т. д. и т. п. «со всеми остановками».
Само празднество состоялось 20 февраля. Шёл хороший лёгкий снег, на улицах было светло и морозно. Денёк удался во всех отношениях.
Сейчас я его почти не помню. Кстати, некоторые мои друзья тоже. Есть фотографии с церемонии бракосочетания. Их тоже заказывал я. На тех чёрно-белых снимках мы немного на себя не похожи. Очень молодые, красивые, важные и смешные.
Странное дело, но прошлое почему-то чаще всего кажется забавным. Наверное, это пролог любого будущего. Чтобы настоящее не очень привередничало, не лезло всюду со своими линейками, транспортирами и микроскопами. Тогда и прошлое с будущим как-то притираются и не торчат поперёк друг друга.
Как говорится, знать бы будущее, может быть, остался в прошлом.
Ха-ха три раза. Театральная ремарка.
Итак, 20 февраля с утра мы съездили в наш люблинский загс и расписались, днём устроили маленький банкет в квартире моих родителей, чуть закусили, чуть выпили и чуть сбросили лишнее напряжение.
Приехал Юрий Иванович, сел за стол, закусил, выпил и как-то еле слышно нас с Мариной поздравил. Словно был в чём-то виноват. Помню его худое, скуластое лицо и зыбкие глаза.
По-моему, Юрий Иванович всю жизнь чувствовал себя виноватым. То ли из-за болезни жены, то ли из-за странной смелости дочери, то ли ещё из-за чего-то. Не знаю.
Мой отец, хороший физиономист и психолог, в какой-то момент поднялся из-за стола и громко сказал:
– Юра, давай выйдем. Ты покуришь, а я расскажу тебе про моего дурака-сына.
– По-моему, Сергей ничего, не глупый, – смутился Юрий Иванович. – Впрочем, я его не очень хорошо знаю.
– Скоро узнаешь! Пошли. Покажу тебе пару беспроигрышных отцовских приёмчиков.
– Зачем, Владимир Степанович?
– Пригодятся. И давай по именам, Вова, Юра. Мы же теперь родственники. Свёкор с тестем. По рукам?
И они вышли в коридор. А Марина занервничала. А я стал её целовать и зацеловал при всех до красных пятен на лице и почти до обморока.
Думаю, Юрий Иванович там, в коридоре, передал моему отцу деньги на нашу свадьбу. Он был очень справедливый. Это уж точно.
А потом мы вызвали два такси и вшестером уехали догуливать праздник в ресторан «Загородный», где мои друзья заказали стол.
Там мы и гуляли допоздна: Димка, Оля, Макс, Лара и мы с Мариной. Третьего моего друга Геши почему-то с нами в тот день не было.
Тот ещё хмырь! Он всё время находил причину вывернуться. Хотя дружил со мной и Димой искренно, с самого детства. Просто Геша всегда относился ко мне больше шутливо, чем товарищески.
Наверное, это такой вид эгоизма. Похожего на странную принадлежность одновременно всем и никому в частности.
В ресторане я в какой-то момент киксанул. Видимо, подвели-таки нервы. Ребята танцевали в полутёмном зале, а мы с Олей сидели за столом, не разговаривая. Помню её трогательные, детские глаза, вопросительные и почти родные.
И у меня выступили еле видимые слёзы.
Прошла молодость! Накрылась свобода! Пропала жизнь!
Гремела музыка, мелькал цветной свет, пахло вином и сигаретным дымом.
Я углублялся в свою тоску. Оля терялась больше и больше. А мне всех и вся было жалко до слёз и до самой печёнки!
Наконец я встал и ушёл танцевать с Мариной. Мы с ней вместе еле держались на ногах.
– Кажется, я сейчас умру, – вдруг сказала Марина.
– Ни фига подобного, – возразил я. – Танцуем до упора. Уплочено!
Разъезжались мы уже далеко за полночь. «Загородный» погас и вежливо гнал гостей в ночную тьму и снежную даль.
Дима с Олей уехали в своё Орехово-Борисово, а мы вчетвером – к нам в Люблино. Девушки в машине дремали, а Макс хохотал и требовал шефа остановиться и заняться делом.
– Макс, заткнись! – в конце концов не выдержал я. – Ты пьян. Каким ещё делом?
– Будем охотиться на белых медведей! – Макс смеялся и пытался открыть дверцу. – Они хорошо идут на свист снежной ночью.
– Уйми идиота! – не выдержал шеф. – Или я его выкину.
– Он не идиот. Он просто в азарте. У меня была свадьба, он был тамадой, устал, ему и нам пора баиньки.
– Вот и поехали баиньки. Куда теперь? На Ставропольскую?
Дома мы заняли парами оба спальных места. Мы с Мариной на раскладном диване «Малютка», а Макс с Ларой на старой софе за платяным шкафом. Квартира была однокомнатной. Двум парам разойтись было некуда. Нам предстояла первая брачная ночь (которая, если помните, не была первой), а им – выполнить традиционный послесвадебный ритуал свидетелей.
– Как твоё самочувствие? – спросил я Марину шёпотом в темноте.
– Утром будет ясно, – укладываясь, пролепетала моя молодая жена.
За шкафом что-то происходило. Возня, мур-муры, ритмичные качи вместе со шкафом. Что делать! Недостаток жилплощади. Молодой огонь. Тайны, невинные пороки, традиции.
– Спи, – сказал я Марине, натягивая ей на голову одеяло, чтобы она ничего не слышала.
– Уже сплю, – ответила она еле слышно и добавила: – Сходи утром в овощной за томатным соком или в продуктовый за минералкой, пожалуйста! А то мы все не поднимемся…
Я уже был личным мужем и к коллективу (то есть ко всем) не относился.
В апреле 1982 года у нас с Мариной родилась дочка. Мы дали ей имя Софья. Соня. Я был очень рад, юная семнадцатилетняя мама жутко взволнована. Мои родители как бы вновь стали моими и заодно родителями моей жены.
Тестя и тёщу Федяевых я не видел. Они развелись незадолго до нашей свадьбы. Он обменял трёхкомнатную квартиру на однушку в том же Павловском Посаде, а она уехала к родственникам в Минск.
Восьмилетний брат Марины Ярослав жил с Юрием Ивановичем. Сознаюсь, меня они почти не интересовали. Даже у Марины я про них не спрашивал. Горячая молодая кровь действовала на меня как крепкий наркотик.
Конечно, я был не прав. Хотя бы в отношении Марины. Как мужчина, я вырвал её из родного дома и переселил в дом свой. Напоминая постоянно, что он наш.
Думаю, что в душе у неё произошёл переворот, близкий к ядерной катастрофе. Она унесла всех – и родных, и подруг. Тогда я об этом не думал. Это называется эгоизмом. Но в двадцать два года такой очевидности у меня в мозгах не было.
А Марина молчала, как жена индейца Виннету.
Утром я ездил в Мосгоргеотрест, после работы – в театр-студию. Репетировал пять дней в неделю, включая все выходные и праздники.
Марина возилась с малышкой. То есть стала юной добровольной пленницей.
Я никаких изменений в поведении жены не замечал. Потому что сам был занят до чёртиков и о душе или каких-то там сердечных трепыханиях не думал. Рано утром на молочную кухню, потом подработка разносчиком утренних газет, днём и вечером работа топографом и актёром, в промежутках магазины, поздно ночью стирка пелёнок и подгузников плюс пишущая машинка и сочинительство рассказов, повестей и пьес. И песен под гитару. Вроде хобби.
Короче, мы с Мариной были молоды и успевали подумать обо всём, кроме наших человеческих отношений.
Молодость ослепляет ощущениями и прячет слабые прикосновения разума. Так неопытный игрок покупается на первый успех и пропускает как бы случайные лажи, проигрыши и неувязки в течение дальнейшей игры.
До банкротств далеко! Да и есть ли вообще у меня предпосылки банкротства?
Однажды ночью, между ласками и шёпотами в постели (Сонька спала крепко, почти как гусеница, и наших озорничаний никогда не слышала), я вдруг почувствовал холодок противодействия от жены.
– Что с тобой, Маш?
Она ничего не ответила и повернулась ко мне спиной.
Я знал, как её разнежить. Тихо-тихо касаясь губами ложбинки между лопатками, надо было обвивать её пальцы, другой рукой пощипывать то бедро, то сосок на груди.
И что-нибудь говорить – интимное, мало приличное, запретное.
Неожиданно Марина села, спустив босые ноги на пол. Спина её стала похожа на деревянную досочку.
– Тебе нехорошо, Маш?
– А тебе?
– Я не понял. Можно по-русски?
– Мне тоскливо сидеть целыми днями дома одной. Тебя нет, тебя где-то носит до ночи, потом ты болтаешь с друзьями по телефону, куришь, смеёшься, пишешь, сочиняешь, читаешь. Меня как будто нет. И ещё эти твои подружки! Им что, мало тебя в театре? Может быть, они скоро прямо к нам в постель залезут?!
Такого я от Марины не ожидал.
А она добавила:
– Я не выдержала и позвонила на телефон доверия. Рассказала, что схожу с ума. А психолог посоветовал мне: терпите! Ваш муж артист, у него безумная профессия. Он всегда будет где-то не с вами, а вы будете его ждать. Успокойтесь и наберитесь сил. Вы выбрали нелёгкий путь. Но он ваш по вашему собственному выбору. Смиритесь с этим.
В общем, та ночь была нелёгкой. К утру мы так устали от разговоров, что еле услышали крики Сони из кроватки. Маринка на ощупь кинулась её кормить, а я вслепую поканал в проклятый Геотрест на службу.
Чёрт его знает, но, может быть, именно тогда начала моститься дорога в будущую пропасть?
Не знаю.
Весной к нам в гости приехала родственница Марины из Минска. Мы поселили тётю Лену на софе за шкафом. Помню светловолосую голубоглазую женщину лет двадцати пяти, неспешную, белорукую, крепкую пышным телом и мало говорящую впустую.
Жила она в Москве три дня. И научила Марину верно хозяйствовать, следить за чистотой в квартире, варить, печь и жарить уйму вкусных вещей для нас и Соньки и, главное, раз и навсегда навести в квартире порядок – в ванной комнате, с бельём, в кухне и так далее. Это было суперски! Марина ощутила, что она на свете не одна, что ей помогут, её не бросят, её любят, её не забудут.
И, видимо, впервые получила хороший женский урок, который уже не забывала.
Пока минская Лена была у нас, я блеснул перед ней и женой театральным мастерством. Для барышень это стало неожиданностью.
Был генпрогон 1-го акта спектакля «Тот, который». Я играл писателя Леонида Андреева, Юрка Ермаков – Максима Горького, а Лариса Пилипьева – его гражданскую жену, актрису МХТ Марию Андрееву. Драмы исторических персонажей накладывались на сюжет андреевской пьесы «Тот, кто получает пощёчины». Я был клоун Тот, Юрка – вредный барон Реньяр, Лариса – юная наездница Консуэлла. На сцене театра жил цирк шапито, в котором дружили-враждовали два самых популярных в те времена российских писателя и их жена-любовница. Были зонги, написанные нашим режиссёром Семёном Аркадьевичем Ривкиным и композитором Михаилом Броннером.
Я пел, аккомпанируя себе на гитаре:
- В моём дому пожар и смрад.
- Сжигает пламень жадно душу.
- И рвётся дым, как стон, наружу.
- А рукописи не горят.
Лена и Марина после прогона смотрели на меня как на живого бога. Я помню их опрокинутые лица ночью за столом у нас в кухне. Я впервые почувствовал, что такое забросить людей на небо, растоптав их в лепёшку.
Когда гостья уезжала в Минск, она шепнула своей племяннице:
– Держись за Серёгу! Ты вытащила счастливый билет.
Летом я поступил во ВГИК на сценарный факультет, правда, на заочный. Но это неважно. Сбылась мечта идиота! Марина поехала со мной в институт на зачисление. Она мной гордилась.
Ещё бы! Москва, театр, ВГИК, дочка, талантливый муж, в общем – мармелад в шоколаде.
Сама она с моей подсказки поступила на учёбу в ТХТУ, Театральное художественно-техническое училище на постановочный факультет. Там готовили заведующих постановочной частью для театров.
Через четыре года Марина должна была стать дипломированным завпостом и получить место в каком-нибудь московском театре.
– Во что я ввязалась? – как-то ахнула Марина, почти не веря своему будущему счастью. – Это какой-то ужас!
– Это – сказка. А ты – волшебница, – я ни в чём не сомневался. – И тебе отныне жить среди чудес. Let it be!
Жили мы втроём душа в душу. Мама с папой учились и работали, малышка ходила в детский садик. Сонька была очень добра и совсем не злопамятна. Несмотря на молодость и наивность, нам с Мариной удалось главное – человеческая живинка.
Дочка эту живинку и ухватила.
Правда, у нас с Мариной возникли дурацкие мелочи не от большого ума. Например, недомолвки. Разговоры типа:
– Почему ты сегодня так поздно? Опять твои актриски?
– Я очень устал. Давай завтра.
Или:
– Тебе снова звонил этот парень. Назвался Игорёк. Кто это?
– Один дурак. У нас в училище их пруд пруди. Сам понимаешь.
И мы оба всё-всё понимали, и оба научились чего-то недоговаривать. Пока как бы молча об этом сговорившись.
В 1985 году по просьбе Марины мы втроём слетали к её папе в Барнаул. К тому времени Юрий Иванович переехал туда вместе с Ярославом. Жили они в однокомнатной квартире вроде нашей московской.
Барнаул был беден. Мы бродили по его улицам, словно провалившись во времени лет на пятьдесят. Кое-какая жратва в магазинах была, но не хватало главного – шика. Мы оказались в дремучей провинции. Всё было серым и как будто давно не стиранным.
Юрий Иванович предложил:
– Берём удочки, палатку, припасы и едем на Обь на несколько дней. Там такая красота! Тишина, природа, вода и свежий воздух.
Мы не возражали.
Отплыв на речном теплоходике вверх по течению Оби километров на десять, мы высадились на пустынном берегу, разбили палатку, развели небольшой костёр, напились горячего чаю с бутербродами и забросили удочки. Дождевые черви лезли из алтайской земли прямо на крючки. Мы им помогали. Без червя что за рыбалка?
Соня держала удочку, точно это был электропровод, заряженный на 1000 вольт. Когда клевала рыба, она начинала визжать, и я хватал её под мышки, не давая прыгнуть в реку одетой.
Юрий Иванович сидел у трёх своих удочек в состоянии счастливой медитации. Одинокий мужик вдруг опять почувствовал себя главным инженером им самим придуманной экспедиции.
Марина бесцельно шаталась вдоль воды в узеньком купальнике и соломенной шляпке. Жарко не было, августовское солнце светило, но как-то жидко, очевидно, по-местному. Но красивой девушке быть почти голой и осмелевшей на берегу полагалось. Я краем глаза подсматривал за женой, и мысли мои были тоже смелые и приличием почти не прикрытые.
Жаль, палатка одна на четверых. А то бы ночью я одичал на этом диком месте не на шутку!..
Вдруг послышался треск моторки. К нашему месту причалили два чувака в сапогах и в брезенте. Они заметили Маринку с фарватера и пошли, как рыба на приманку.
Русские мужики не грешат приличием и разнообразием. Тут же обступили мою жену, не обращая внимания ни на маленькую девочку, ни на меня с Юрием Ивановичем. Послышались мужские голоса, требующие со смешками от девушки какого-нибудь невинного распутства. Она застыла розовым столбиком.
– Эй, ребята! – мой тесть подошёл к ним взволнованный. – Что нужно? – и приказал Марине. – Иди в палатку, оденься!
Она убежала, коротко взглянув в мою сторону. Мол, а ты где?
А я находился в оцепенении. Видел дочку в метре от себя, слушал разговор тестя с непрошеными гостями, разглядывал нос их моторки на берегу и стоял столбом, ни в чём не принимая участия.
Так прошло минут десять. Чуваки пожали руку Юрию Ивановичу, сели в лодку и запустили мотор. Через минуту их здесь не было. Тесть что-то мне сказал, Соня рассмеялась, Марина пришла в футболке и джинсах, я что-то отвечал, кажется, шутил или поддразнивал жену. Не помню.
Садилось солнце. Быстро темнело. От реки шёл сырой холод.
– Давайте ужинать, – предложил тесть.
Я пошёл собирать дополнительные дрова к костру. Марина достала из рюкзака наши припасы и бутыль воды. Юрий Иванович сложил удочки. Соня ему помогала. Потом мы ели и за чаем над чем-то смеялись.
Мне казалось, что надо мной. Ночь мы провели в палатке. Перед сном тесть разбросал вокруг неё листья.
– А это зачем?
– Если кто-нибудь чужой подойдёт, то мы сразу услышим. Листва зашуршит. Проверенный охотничий способ.
Ночью я не спал. То слышал шорохи, то треск моторки, то ещё черт-те чего…
«А ты трус, Серёга, – думал я, уставившись в темноту. – То есть даже не трус, нет. Ты просто никчёмный тип. Ничего не умеющий, ничего не желающий, ни за что не отвечающий. Даже за безопасность своих женщин. Дерьмо! Слабак! Типичная городская квашня!»
Утром я упросил тестя вернуться в город. Он почти не возражал. Видя, что я скис, Юрий Иванович вернул нас в Барнаул, собрал в обратную дорогу, расцеловался с дочкой и внучкой, надарил каких-то конфеток-фруктов и через день проводил в аэропорт.
В Москву мы летели четыре часа, догоняя время. Вылетели в полдень и ровно в полдень приземлились в Быково.
– Извини, – сказал я Марине, когда мы были уже дома, в нашей однушке. – Чё-то я тебя с Сонькой надул. Надо было сидеть тогда на Оби и не рыпаться.
Жена улыбнулась одними глазами. Это значило, что я прощён.
Следующим летом, так же втроём, мы побывали у наших родственников в Минске. К сожалению, я мало что помню из той поездки. Всё-таки почти сорок лет прошло. Жили мы у Лены с мужем в трёхкомнатной квартире в центре Минска. Лена почти не изменилась, просто стала веселее и болтливее. Муж её целыми днями травил меня «Песнярами», которые были их национальной гордостью. Соня по вечерам смотрела по телику передачу «Калыханка» – «Спокойной ночи, малыши» по-белорусски. Она веселилась, слушая белорусских лисичку, медвежонка и енотика, говорящих как бы на понятном, но смешно переделанном языке.
Когда-то мы так же веселились в Полоцке, глядя по вечерам программу «Время» на языке белорусов. «Дорогия сябры! Глазейте программу “Час”!» В армии это было хохмой что надо.
Потом были три дня жизни в гостинице на берегу Минского моря. Хороший номер, солнце на пляже, интимная баня. Но мне было уже скучно без Москвы, друзей, театра. Говорят, что людей скучающих поддерживают два костыля: любопытство и ненависть. Здесь же их не было. Я наблюдал за дочкой и женой, скучал и как будто чего-то ждал.
Мы вернулись в Минск к «Песнярам» и «Калыханке». Что дальше, спрашивал я сам себя.
– Я хочу съездить в гости к маме, – и я понял, зачем мы вообще сюда приехали. Марина смотрела на меня спокойно, но всё-таки как на мужчину, который должен поддержать женщину. – Она совсем больна, но с ней можно общаться. В прошлом месяце её выпустили из больницы. Вот… Ты поедешь?
– Само собой. Когда?
– Давай завтра. Соньку оставим здесь, Лена за ней присмотрит. А мы быстренько съездим к маме – и всё…
И мы побывали у Марининой мамы. Я увидел совсем ещё не старую, вполне обычную женщину, только чересчур разговорчивую и всё время извиняющуюся. Лицо у неё было невыразительное, почти без примет и крохотное. В однушке, где она жила, было как-то чересчур чисто и пусто. Как-то не по-настоящему.
Я понял, что это такая психушка на дому. Где живёт уже не человек, а его оболочка, его след. А человека нет, как и его разума.
Марина часа два беседовала с мамой. Я со-участвовал. Я впервые видел эту женщину, в Павловском Посаде её мне, очевидно, не показывали. И, каюсь, никаких чувств к ней не испытывал. Я только понимал, что Марине тяжело и что она страдает. Говорила она с мамой торопливо и сбивчиво. Всё время смеялась и переспрашивала. И то и дело смотрела на меня. Её обычно красивый чёткий подбородок словно поплыл и постарел. Под глазами вдруг появились синеватые тени. Голос стал холостым, без привычных мне ласкательных гласных и соблазнительных паузочек.
Марина как-то увяла. Я сидел рядом с ней и думал о засохшем цветке. Короче, та небольшая встреча запомнилась мне безжизненностью, стерильностью, больничностью и придуманностью.
И ещё я увидел в лице жены эскиз того, какой она будет лет через сорок. Я не думал об этом, я просто это теперь знал. Я хотел её такой, какой она была сейчас, а той, в будущем, – нет, не хотел.
В московском поезде меня вдруг начало клинить, и я сказал:
– Маша! По-моему, нам следует забрать твою маму к себе в Москву.
– Зачем?
– Ну а зачем ей жить в этом самом Минске неизвестно с кем?
– Там она живёт спокойно в своей квартире и под присмотром не кого-то, а родной сестры. А у нас что? Безумная театральная жизнь, дочка и однушка? Успокойся. Ей там лучше. И вообще, тебя это не касается…
Так бесславно закончились мои попытки освоить личную территорию жены. Я словно оберегал себя в те годы от лишних ответственностей. Или кто-то оберегал меня, зная, что мне с ними не справиться. Слишком я был сам с собой и мало человечен с другими людьми, даже с родственниками.
Юрия Ивановича я с тех пор никогда не видел. Шурина Ярослава тоже – кстати, как в Посаде и в том же Барнауле. Имя своей первой тёщи позорно не знаю до сих пор. Даже не верится, что я был таким бездушным растяпой в молодости.
Но что есть, то есть. Восьмидесятые годы проверили меня на первичную человеческую крепкость и поставили в журнал «началки» четвёрочку с крохотным, но справедливым минусом.
Много лет не всегда значат много событий. В нашей семье всё шло скорее обыденно, чем ярко в смысле описательном и сюжетном. Для хорошего романа этого недостаточно. Вот и пишу роман банальный и камерный. Есть жизни для панорамы, а есть для блокнота. У писателя Андрея Битова хорошее название «Роман-пунктир». Мне подходит. Пунктир больше подразумевает, чем сообщает. Так что попробую существовать именно в таком жанре.
Первый значок. Окончив ТХТУ, Марина получила распределение в Театр драмы и комедии на Таганке. И сразу попала в среду безумную и малопонятную. С одной стороны – театральные звёзды, с другой – мелкий штатный сор. Она относилась ко второму. Но её прихватил цепкой лапищей первый.
Кто не работал в театре или в кино, меня, скорее всего, не поймёт. Я сравниваю ту ситуацию, точнее, её главный принцип, с умением пить, но не пьянеть. У меня такой ловкости не было. Поэтому, наверное, я всю жизнь проторчал в театре самодеятельном и не совал нос в профессиональный. Причин было две. Первая – я уже понимал, что актёр я средненький. Не московского театрального уровня. То есть жизнь моя там будет каторгой. Вторая – не мог устоять перед соблазнами. Званиями, бабками, женщинами.
Сладкоежка!
Вот и пил ровно столько, сколько давали мелкоте, самодеятельности, и выше головы не прыгал.
У жены такая чуйка не работала. Потому любимовская Таганка с ходу её как бы распяла. Прямой дурки, слава богу, не было. Но появились суперпричёска а-ля девушка с претензией, джинсовая мини-юбка, почти не прикрывающая молодые ножки, шоколадные глаза типа «я на всё готова», подружка-гримёр из буйной постели когда-то живого, а ныне легенды Высоцкого, ну и всего того, что посторонние люди называют театральным развратом. Хотя это была всего лишь богемная атмосфера.
Я старался её не замечать. Но на столе у нас появилась белая брошюрка с домашними телефонами всех штатных сотрудников Таганки с нашим номером среди других тоже.
Марине стали звонить глубокой ночью. Жена уходила с аппаратом в кухню и там подолгу болтала.
