военный билет. часть пятая
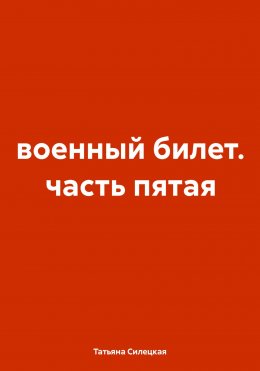
Глава первая. «Противник активных наступательных действий не ведет»
Штурм Ленинграда сентября 1941 года войсками группы армий «Север» был проигран. Войска Ленинградского фронта отстояли город. В графе журналов боевых действий наших войск отмечалась пассивность врага: «противник активных наступательных действий не ведет»
Гитлеровские войска, группы армий «Центр», выделенные для захвата Ленинграда, возвращались на московское направление. Состояние «подвижных» моточастей и боеспособность пехотных дивизий, вернувшихся с «Северного» фронта, восторга у гитлеровского верховного командования не вызывали, также как и задержка почти на два месяца «одолженного» для штурма Ленинграда усиления. Без этих частей не могло развернуться в полную силу наступление на Москву.
Кроме «невозвратных» потерь личного состава в войсках фон Лееба среди оставшихся в строю наблюдался спад боевого настроя и веры в победу. Моральный дух гитлеровцев был угнетен еще и тем, что пролитая во время сентябрьского штурма Ленинграда кровь солдат вермахта успеха не принесла. Ясно видимая перспектива «зимовки» под Ленинградом настроение врагу также не поднимала.
Несмотря на то, что потери наших войск в сентябрьской битве за Ленинград были огромны, часть дивизий Ленинградского фронта распоряжением Ставки была отравлена биться за столицу. Ставка Верховного Командования в тот момент стягивала все возможные резервы на защиту Москвы.
Все заводы и предприятия Ленинграда встали на «военную ногу».
С неимоверной скоростью гражданские предприятия города, за исключением предприятий пищевой промышленности и хлебозаводов, переориентировались и выпускали только оборонную продукцию. Большая часть боеприпасов и техники, выпускаемая Ленинградом, отправлялась на московское направление.
Завод, в котором работала моя бабушка, тоже «перепрофилировался» на выпуск военной продукции. Анастасии Александровне Мельниковой – моей бабушке, с ее высоким разрядом сварщика по большому счету было все равно, что «варить». До войны она «варила» огромные котлы, с июля 1941 года – оборонную продукцию, в том числе «латала» танки. Пока еще девочек двух и четырех лет спасала рабочая карточка их матери.
С 1 октября 1941 года в Ленинграде в очередной раз были снижены нормы выдачи продуктов. Рабочие имели право получить 400 граммов хлеба в день, остальные категории в два раза меньше. Изначально в распределении норм продуктов по категориям населения кроме определения «рабочие и инженерно-технические служащие» существовало еще определение «рабочие и инженерно-технические работники оборонных предприятий». Для «оборонников» норма выдачи продуктов назначалась значительно выше, чем для просто «рабочих». В октябре 1941 года в этой графе уже значился прочерк, а позднее ее просто изъяли из публикации. Теперь все рабочие Ленинграда получали продукты по единой норме вплоть до самой отмены карточной системы.
В составе хлеба продолжался увеличиваться объем примесей, которые не усваивались организмом. Постепенно тяжелый, как камень хлеб, только наполовину состоящий из ржаной муки, становился единственным продуктом, который можно было получить по продуктовым карточкам. К городу вплотную подступил голод.
Первыми его жертвами стали семьи, в которых отсутствовали рабочие карточки. Матери делились с детьми своими двухсотграммовыми кусочками хлеба, нормы выдачи для детей и взрослых были равными.
В октябре 1941 года смерть от голода таковой не называлась и официально не констатировалась. В свидетельстве о смерти указывались другие причины, например: «безбелковое отравление», «малокровие», «сердечная недостаточность». Страданий ленинградцам добавляли артиллерийские обстрелы и бомбардировки.
«Рыцарь» («Риттер» – звание, пожалованное Гитлером) фон Лееб, не справившись с Ленинградским фронтом, всю энергию и ярость направил на гражданское население города. Его удивляло отсутствие бунта, паники, беспорядочного бегства ленинградцев из осажденного города. Фельдмаршал фон Лееб продолжал прикладывать все силы для принуждения Ленинграда к капитуляции.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«27 сентября 1941 года. Сегодня готовится новый приказ по группе армий «Север».
Конечно, было намерение занять так называемый ближний рубеж окружения, чтобы подвести к нему всю артиллерию, и путем массированного артиллерийского обстрела, сосредоточенных бомбовых ударов с воздуха и активной обработки с помощью листовочной пропаганды сломить волю Ленинграда к сопротивлению».
В сентябре это «намерение занять ближний рубеж окружения» не осуществилось, не подпустили наши воины врага на «ближний круг» города. С такими потерями, как при лобовом штурме Ленинграда, группа армий «Север» столкнулась впервые. Фон Лееб лихорадочно пытался залатать дыры в поредевших после неудавшегося штурма Ленинграда войсках. Опытный немецкий генерал-фельдмаршал отдавал себе отчет, что еще одно наступление на Ленинград его войска не потянут. Но фон Лееб оставить свой гордый замысел стать завоевателем Северной Пальмиры был не в силах. Оставалось только одно – уничтожить население города, или хотя бы свести жителей с ума и преподнести это как победу…
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«Но в связи с тем, что пока не удалось выйти к ближнему рубежу окружения, и неизвестно, где и когда это может произойти, то необходимо вначале попытаться, по крайней мере, усилить работу по изнурению противника.
Для этого 18я армия должна вести беспорядочный по времени и месту обстрел с дальней дистанции.
Просьба к 1-му воздушному флоту держать население Ленинграда в страхе путем беспорядочных бомбардировок и снижения его воли к сопротивлению за счет усиленной листовочной пропаганды».
«Доблестные» летчики сразу же откликнулись на просьбу (!) командующего группой армий «Север» держать в страхе жителей города. В тот же день 27 сентября 1941 года вражеская авиация совершила три налета на Ленинград. 128 раненых и убитых. Повреждены жилые дома, водопровод, канализация, линии энергоснабжения.
Изначально водопровод повреждался гитлеровскими бомбами и снарядами неприцельно, в процессе бомбежки «по площадям», но вскоре враг осознал цену разрушения сетей жизнеобеспечения города. Повреждение водопровода не позволяло ленинградским пожарным оперативно бороться с огнем, замедлялась работа пищевых предприятий, страдали медицинские учреждения, госпитали. Оказывалось психологическое давление на гражданское население.
В октябре 1941 года бомбардировки велись уже направленно на разрушение водоснабжения и канализации. Прежде всего, гитлеровцы стремились уничтожить водонапорные станции.
Из документов Городского штаба ПВО:
«В ночь с 3го на 4 октября (1941 года) более десяти часов продолжалась воздушная атака на Главную водопроводную станцию. Было сброшено 35 фугасных и не менее 200 зажигательных бомб. В цехах и сооружениях станции были вырваны двери и оконные рамы, стены иссечены многочисленными осколками.
Вся территория была залита водой. Из-за повреждений станция была оставлена. Для восполнения убыли в подаче воды в городскую сеть были включены резервные мощности, расположенные в других районах».
Кроме физического уничтожения города целью бомбардировок жилых кварталов было разрушение психики ленинградцев.
Глазами очевидца. Из книги Александра Розена «Разговор с другом»:
«Каждый человек, испытавший бомбежку в большом городе, знает, что это такое. Рушится крыша над головой, но сквозь грохот войны ты все-таки слышишь писк в колыбельке. Жив? Схватить на руки, прижать к себе и прочь отсюда скорей! Где-то рядом горит, уже повалил дым… ты выскакиваешь на лестницу – и в это время рушится стена…ты стоишь на площадке лестницы. Вокруг ни одной целой стены, только лестница пятиэтажного дома, только ты с ребенком на руках, а с неба слышится вой, и ты видишь, как немцы бомбят Ленинград».
Эту женщину с ребенком на руках сняли пожарные с «блокадного эшафота». В тот день они остались живы…
Из книги А.В. Бурова «Блокада день за днем»:
«4 октября 1941 года. Одна из бомб, сброшенных ночью, разрушила дом № 188 по Лиговской улице. Обломками кирпича засыпало восемь человек. Среди них был восьмилетний мальчик, у которого на поверхности оставалась только голова. Приблизиться к нему можно было, лишь соблюдая большую осторожность. Применение лопаты или лома при откапывании могло вызвать обвал. Бойцы местной противовоздушной обороны израненными в кровь руками разобрали завал и спасли мальчика, у которого оказались переломанными обе ноги».
Из документов Городского штаба ПВО:
«10 октября 1941 года в 23 часа 10 минут фугасной авиабомбой разрушено здание детского сада по Международному проспекту, 90. Ранено 29 человек».
Ничего другого как наступать и выдавливать врага от стен Ленинграда нашим войскам не оставалось.
В конце сентября 1941 года 55 армия Ленинградского фронта, в 329 стрелковом полку 70 стрелковой дивизии которой в это время воевал мой дед, продолжала наступать.
Из журнала боевых действий 55 армии:
«Противник в течение и утра вел редкий артиллерийский и минометный огонь по расположению наших частей. На отдельных направлениях фронта действие мелких групп автоматчиков. Особенно большое огневое сопротивление противник оказывает частям 70 стрелковой дивизии наступающим на Александровка.
70 стрелковая дивизия с 2.00 29 сентября 1941 года, начав наступление с задачей овладеть Александровка, и выйти на рубеж: стык дорог, южнее надписи «Большое Кузьмино», к 9.00 вышли:
329 стрелковый полк – противотанковый ров у северо-восточной окраины Александровка (200-300 м), левый фланг (286 и 86 стрелковые полки) – отметка 0,7; тропа, южнее надписи «Большое Кузьмино».
Противник оказывает сильное огневое сопротивление.
Взято 4 человека пленных, принадлежащих к полку дивизии СС.
Бой продолжается.
Потери и трофеи за 29 сентября 1941 года:
70 стрелковая дивизия – убито и ранено 80 человек;
Захвачено – 1 станковый пулемет; 1 ручной пулемет и 2 автомата».
В тот день семичасового боя бойцы 70 стрелковой дивизии взяли в плен четырех пленных. Принадлежность пленников к частям СС сомнений не вызывала, другие сведения эсэсовцы предоставлять отказались.
Находились, (вернее брались в плен) и более разговорчивые эсэсовцы. Так или иначе, к началу октября 1941 года разведотдел 55 армии представил командованию детальную характеристику сил, состава и расположения противника.
Наши войска не собирались прекращать наступление, видя в этом единственный способ отстоять Ленинград.
Из журнала боевых действий 55 армии:
«Положение частей Армии к 16.00 29 сентября 1941 года:
1) противник на фронте Армии активных наступательных действий не ведет, продолжает вести оборонительные работы и в тоже время упорно сдерживает наступление наших войск и особенно своим огнем из района Александровская
2) части Армии в прежнем положении, продолжают вести подготовительные работы к наступлению согласно приказа Штаба 55 Армии за № 23».
В конце сентября 1941 года стало очевидно, что враг на подступах к Ленинграду основательно перешел к обороне и прекратил активные наступательные действия.
Более того, командование группы армий «Север» переход к обороне воспринимало как константу и радовалось перерывам в наших атаках, надеясь, что занятые позиции удастся удержать. Единственное на что решались гитлеровцы на подступах к Ленинграду – мелкие вылазки с разведывательными целями.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«28 сентября 1941 года. Сложилось впечатление, что кризис преодолен. Если не возникнет крайне неблагоприятная обстановка, то позиции можно будет удержать.
29 сентября 1941 года. Снизилась активность передвижения войск противника. Есть надежда, что у нас хватит сил для решения задач на местах.
Противник не добился сегодня успеха на восточном участке фронта 39го моторизованного корпуса.
Но то, что он никоим образом не изменил своих намерений, доказывают его атаки против 28го и 50го армейских корпусов. Он переправился также и через Неву в полосе ответственности 96й пехотной дивизии, атаковав ее подразделения.
О снижении атакующей мощи ленинградских войск пока не может быть и речи».
Фон Лееб имел ввиду в частности Невскую группу войск Ленинградского фронта, расширяющую Невский пятачок.
Из журнала Ленинградского фронта:
«29 сентября 1941 года. Переправившаяся часть 115 стрелковой дивизии на левый берег Невы ведет бой на рубеже – лес восточнее Петрушино и Арбузово, 1ый Городок.
1я стрелковая дивизия НКВД – попытка переправить еще один батальон успеха не имела, первый батальон ведет бой в Шлиссельбурге».
Продолжала медленно теснить противника и 55
Из журнала боевых действий 55 армии:
«Противник на всем фронте Армии по-прежнему продолжает оказывать упорное сопротивление своим огнем и безуспешными попытками перехода в наступление из района Ново-Вести;
70 стрелковая дивизия – выполняя поставленную задачу, к 10.00 30 сентября 1941 года передовыми частями вышла на рубеж: 200 метров севернее Редкое Кузьмино, высота 53,0; развилка железной дороги и перекресток шоссейных дорог, что в южной части Большое Кузьмино. Наступление продолжается, несмотря на упорное сопротивление противника».
К 30 сентября 1941 года командование Ленинградского фронта обладало данными, «не подлежащими сомнению», что часть моторизованных соединений и часть авиации противника перебрасывается на московское направление, оборона врага вокруг Ленинграда усиливается за счет увеличения огневых долговременных точек, огня пехоты, артиллерии и минометов; также производится усиленное минирование переднего края обороны.
Исходя из сложившейся обстановки частям 55 армии было приказано приостановить наступление и перейти к обороне.
Из боевого донесения штаба 55 армии:
«На 4.00 1 октября 1941 года:
1) Противник перед фронтом Армии, перебросив основные силы на другое направление, перешел к обороне, имея большое количество огневых средств. Днем 30 сентября 1941 года на фронте 168 стрелковой дивизии вел боевую разведку;
2) Частям Армии приказано в 18.30 30 сентября 1941 года остановиться на достигнутых рубежах и укрепиться.
Положение частей Армии:
а) 70 стрелковая дивизия – 329 стрелковым полком на рубеже: правый фланг – 100 метров северо-восточной окраины Редкое Кузьмино, левый фланг – 500 метров северо-восточнее от юго-восточной окраины Редкое Кузьмино».
Фельдмаршал фон Лееб совсем недавно грозивший сравнять Ленинград с землей был явно обрадован переходу части наших войск к обороне.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«30 сентября 1941 года. На некоторых участках фронта русские начинают окапываться. Снизилась также и активность их авиации.
Следует констатировать, что обстановка за сегодняшний день значительно нормализовалась. Остается гадать, надолго ли?»
Увы, гадание не помогло. Уже 1 октября 1941 года войска Ленинградского фронта продолжили наступательные действия. Возобновила наступление и 55 армия.
Из боевого донесения штаба 55 армии:
«Согласно устных указаний Главкома Ленфронта 55 Армия с утра 1октября 1941года имеет задачу перейти в наступление по всему фронту, с нанесением главного удара на своем левом фланге
По данным боевого донесения Штаба 55 армии на 14.30 1октября 1941года противник начал с утра 1октября 1941года и продолжает оказывать сильное огневое сопротивление на всем фронте Армии и особенно его огонь чувствуется для боевых порядков 70 и 86 стрелковых дивизий.
55 Армия, выполняя поставленную задачу, с утра 1октября 1941года перешла в наступление;
70 стрелковая дивизия с 5.00, ведя наступление на Александровка и на северную окраину Пушкин, к 14.00 1октября 1941 года достигла: 329 стрелковым полком – правый фланг шоссе у северной окраины Редкое Кузьмино, левый – железная дорога, фронтом на юго-запад.
Попытка атаковать противника с северо-запада Редкое Кузьмино 329 стрелковым полком была встречена фланговым огнем с северо-восточной окраины Ново-Сузи и из района Александровка. Огневые средства стрелковой дивизии ведут бой с противником, поражая его огневые очаги».
Глава вторая. Фон Леебу нужна свежая идея.
Стадия покоя для противника была недолгой. Фон Лееб пишет о том, как дорого для него сейчас время в ожидании пополнения. Действительно, задача доукомплектования «живой силы» группы армий «Север» была непростой. Во-первых, по сравнению с ленинградским направлением, московское для Гитлера было более приоритетным (во всяком случае, пока), и основные резервы направлялись на штурм нашей столицы. К тому же в очередной раз «делиться» с фон Леебом группа армий «Центр» желания не изъявляла. Командующий группы армий «Север» «брать в долг» любил, но отдавать не спешил.
Во-вторых, к очередному мобилизационному призыву Германия в целом была не готова, и признать необходимость внеочередного призыва нацистская верхушка не могла.
В период 1939-1940 года было мобилизовано 5 миллионов мужчин призывного возраста. Мобилизация в Германии была проведена с расчетом на молниеносную войну и скорую победу («мощный удар – быстрая победа»). Объявить повторный призыв в 1941 году значило для Германии признать факты провала блицкрига и перехода к затяжной войне.
Гитлеровские войска растянулись по всему фронту европейской части Советского Союза, пытаясь концентрировать удары в трех направлениях одновременно, постоянно меняя приоритетность главного удара. Если техники и боеприпасов у врага было предостаточно, то нехватка личного состава для ведения боевых действий на огромной территории противника уже ощущалась явственно и в первую очередь на переднем крае боевых действий.
Поэтому пока главнокомандующему группы армий «Север» было предложено обходиться своими силами и стойко держать оборону.
Взгляд с другой стороны. Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии:
«28 сентября 1941 года. Вопрос о пополнениях для группы армий «Север».
Пополнение войск группы армий будет осуществляться за счет резервной бригады, которая формируется из немцев, проживающих на территории польского генерал-губернаторства, а также за счет отдельных батальонов с Запада и из Дании».
Людские резервы после блестящего завоевания Германией Европы беспрепятственно потекли в гитлеровскую армию. Правительства покоренных стран поощряли вступление своих граждан в войска фюрера. Так Дания, которую упоминает Гальдер, гарантировала своим военнослужащим сохранение всех привилегий, стажа и пенсий при переходе на службу в армию Германии. После покорения Дании почти весь офицерский и унтер-офицерский состав армии Дании перешел в войска вермахта.
Взгляд с другой стороны. Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии:
«29 сентября 1941 года. Вопрос о пополнении группы армий «Север». За счет выздоравливающих, маршевых батальонов и двух батальонов из Дании можно набрать в качестве пополнения не более восьми с половиной тысяч человек.
В настоящее время в трех наиболее слабых дивизиях недостает 11 673 человека.
Позднее на пополнение войск этой группы армий может быть направлен один батальон (750 человек) из запасной бригады, формируемой из немцев, проживающих на территории генерал-губернаторства (Польши), а также батальоны, выделенные из состава дивизий, находящихся на западе (четыре батальона – из дивизий береговой обороны и два батальона – из дивизий, расположенных на демаркационной линии)».
Как не тасовать колоду – карт в ней больше не станет. Даже то, что «соскребли и намели по закромам и сусекам» гитлеровцы, не тревожа резерв армий «Центр», для пополнения потерь на «северном фронте», назвать боевым составом, способным сходу включиться в активные действия, можно было только с очень большой натяжкой.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«2 октября 1941 года. По-прежнему напряженное положение с резервами, так как к настоящему времени присланы были только лишь четыре батальона на всю группу армий «Север» и по одной роте из числа выздоравливающих солдат, по 250 человек на каждую дивизию. В общей сложности это около 9000 человек, присланных в течение полумесяца при некомплекте в 66 000 человек. Сегодня вновь направлена заявка, чтобы в наше распоряжение была направлена резервная бригада, дислоцирующаяся в Риге».
Таковы были «результаты» сентябрьского штурма Ленинграда. Изрядно «потрепали» противника и воины 55 армии.
Из итоговой разведсводки № 6 по 55 армии Ленинградского фронта:
«Данные о группировке и силах противника за период с 28 сентября по 8 октября 1941года:
5) по показаниям пленных и других источников подтверждаются данные об огромных потерях противника: 122 пехотная дивизия с начала войны потеряла 2 тысячи человек ранеными и 1000 человек убитыми; пребывающее пополнение не обучено».
При потерях живой силы, которые по меркам немецкой военной науки приближались к критическим, оборона гитлеровцев на ленинградском направлении держалась на насыщенности огневой мощи и благодаря прекрасной «инфраструктуре» оборонительных сооружений.
На этом участке противостояния попытка гитлеровцев перейти в наступательные действия становилась все более редким явлением. В ночь на 1 октября 1941 года зафиксирована контратака противника на фронте 55 армии Ленинградского фронта.
Из журнала боевых действий 55 армии Ленинградского фронта:
«В 23.00 1октября 1941года из района Новая и Путролово противник силой по батальону в каждом направлении, при поддержке артиллерии и минометов, пытался перейти в контрнаступление, но его попытки огнем нашей артиллерии и минометов были отбиты с большими для него потерями».
Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии:
«2 октября 1941 года. Эвакуация раненых: 25 797 раненых из группы армий «Север» эвакуировано на судах».
Командующий группой армий «Север» понимал, что боеспособного и достаточного пополнения для выполнения той задачи, которая отводилась ему в данный момент – удержания позиций на ленинградском направлении, он не получит. Резервы в тот момент, когда целью номер один для Гитлера было взятие Москвы, можно было получить только под грандиозный по результатам, но вполне осуществимый замысел.
Талант фон Лееба выпрашивать и «выбивать» резервы был удивительным. Этот талант не только удивлял, но и вызывал явное раздражение верховного главнокомандования вермахта.
Но никакой «талант» не заменит идеи. Только под перспективный «проект», способный принести если не решающий, то хотя бы ощутимый успех, можно было получить пополнение. С теми резервами, которые предлагал (в перспективе) Гальдер, группе армий «Север» о наступательной операции нечего было, и мечтать – удержать бы занятые позиции.
Нужна была свежая идея и новый стратегический план, сулящий победу. С просьбой о пополнении к фюреру можно было подступиться только с заманчивым предложением, гарантирующим успех. Но что мог предложить фон Лееб? Еще раз затеять прямую атаку на Ленинград и понести еще большие потери?
Сам собой напрашивался вариант форсирования Невы в ее узком месте, создание плацдарма на правом берегу реки, разгром наших войск и уничтожение Ленинграда.
Но, Лееба опередили наши войска, создав на левом берегу Невы Невский Пятачок, который не только не был до сих пор ликвидирован, но продолжал расширяться и пополняться войсками, «связывая руки» врагу для претворения подобного замысла. Кроме того, Ленинградский фронт постоянно стремился создать «близнецов» Невского Пятачка – плацдармов на территории, контролируемой войсками группы армий «Север». Удачными или нет, были эти попытки – вопрос отдельный, но то, что они дестабилизировали фронт противника и оттягивали на себя его силы, сомнений не вызывало.
Из «Дневниковых заметок и оценки обстановки в ходе двух мировых войн» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север»:
«3 октября 1941года. Противник не оставляет попыток разорвать кольцо вокруг Ленинграда. Об этом свидетельствуют создание плацдарма у Ивановского на Неве, а также сильные атаки на Урицк и высадка десантов западнее Урицка».
Глава третья. У фон Лееба созрел новый план убийства Ленинграда.
Идея, поданная Леебом, большинством историков приписывается Гитлеру. Не отстаивал свое авторство и сам фон Лееб. По вполне понятной причине – на Нюрнбергском процессе он создавал (и ему усердно помогали) образ «честного солдата», только выполняющего приказы, цели которых он не одобрял.
Что же касается Гитлера, великим стратегом он не был, но политиком был далеко не бездарным, со сложившейся привычкой «невнимательно» слушать собеседника и впоследствии присваивать его идеи. И если не стратегическую, то политическую выгоду в плане фон Лееба фюрер почувствовал.
Возникшая идея была рискованной, бесчеловечной, но вполне осуществимой. Обсудив за дружеским чаем, концепцию предстоящего наступления, фюрер в скором времени просьбу генерал-фельдмаршала о пополнении удовлетворил.
В войска фон Лееба потекло подкрепление, и к середине октября 1941 года группа армий «Север» состояла уже из полноценных дивизий, бригад и подвижных частей. Напомню, что для «удержания и уничтожения остатков русской армии» после планируемого в сентябре штурма Ленинграда генеральный штаб сухопутных войск Германии считал достаточным оставить в распоряжении фон Лееба 6 -7 дивизий, истощенных в сентябрьских боях 1941 года. Обстановка на ленинградском направлении изменилась за несколько часов.
План очередного стратегического наступления группы армий «Север» заключался в следующем. Ударом через Тихвин выйти к реке Свирь, перерезать сухопутные пути, по которым к Ладожскому озеру доставлялось снабжение для Ленинграда, соединиться с финскими войсками и замкнуть второе кольцо блокады.
Не все руководство вермахта рассмотрело плюсы нового плана и зааплодировало очередному «гениальному» проекту Гитлера.
Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии:
«Фюрер заявил следующее:
Предложение окончательно сломить сопротивление противника на ладожском участке фронта силами подвижных соединений на Тихвин.
После этого через реку Волхов якобы можно выйти в тыл противнику (фантазия!)»
На самом деле, в случае воплощения задуманного, образовалось бы второе внешнее кольцо полного окружение Ленинграда. Два образовавшихся кольца блокады превратились бы в настоящую удавку для гражданского населения. Город был бы лишен не только продовольствия. Через Ладогу доставляли топливо, сырье для заводов; обратные рейсы вывозили эвакуированных ленинградцев, военные грузы. В «зоне смерти» оказались бы кроме самого города и войска Ленинградского фронта, а также прилегающие к Ленинграду районы, население которых также было бы обречено на голодную смерть. Впрочем, население не только Ленинграда, но и России в целом Германию не интересовало, и было ей не нужно.
Из директивы штаба Верховного главнокомандования вермахта от 7 октября 1941 года:
«О разрушении Ленинграда, Москвы и других городов СССР».
Ставка верховного главнокомандующего. Секретно
Фюрер вновь принял решение не принимать капитуляции Ленинграда или позднее Москвы даже в том случае, если таковая была бы предложена противником.
Моральное оправдание этого решения ясно для всего мира. Точно так же, как в Киеве, закладкой бомб и мин с часовыми механизмами был создан ряд тяжелых угроз для наших войск, нужно считаться с подобным же мероприятием в еще более широком масштабе в Москве и в Ленинграде. Само советское радио сообщило о том, что Ленинград заминирован и будет обороняться до последнего солдата. Следует ожидать также сильного распространения эпидемий.
Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Все лица, пытающиеся покинуть город в направлении наших линий, должны быть отогнаны огнем. По тем же соображениям следует приветствовать оставление небольших незащищенных брешей, через которые население города может просачиваться во внутренние районы страны. Это относится также и ко всем остальным городам: перед их захватом они должны быть уничтожены огнем артиллерии и воздушными налетами, с тем, чтобы побудить их население к бегству.
Не допускается, чтобы немецкие солдаты рисковали своей жизнью для спасения русских городов от огня или чтобы они кормили население этих городов за счет средств немецкой родины.
Хаос в России будет тем больше, наше управление и эксплуатация оккупированных областей будет тем легче, чем больше населения советских русских городов уйдет во внутренние районы России.
Об этой воле фюрера необходимо сообщить всем нашим командирам.
По поручению начальника штаба
Верховного главнокомандования вермахта Йодль».
Уже 4 октября 1941 года генерал-полковник Гальдер говорит о новом плане наступления на Ленинград, как о само собой разумеющемся и принятом факте и фантазией его не называет.
Из «Военного дневника» генерал-полковника Франца Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных войск Германии:
«Во второй половине дня – визит к фюреру. Чай. Во время посещения фюрера обсуждалось положение на фронте. Результаты: очистить от противника район Ладоги, продолжив наступление на Тихвин».
Новый план гитлеровского наступления был принят еще и потому, что его осуществление могло произойти с меньшими потерями, по сравнению с сентябрьским штурмом Ленинграда. Кроме того, наступление по такому варианту предоставляло врагу более выгодный простор оперативных действий.
Войска Ленинградского фронта с разных направлений «изнутри» блокадного кольца беспрерывно точили оборону противника непрерывными атаками, воинские части стояли плотно друг к другу, стыки между армиями фронта держались под контролем. Другими словами, части Ленинградского фронта на подступах к городу постоянно были «настороже» и в готовности отразить удар. Чего нельзя было сказать о «тихвинском» фронте. Там наши войска растянулись по длинному фронту в 130 километров, из-за «разреженности» войск стыки между частями оставались «без надзора», связь между войсками носила условный характер.
Но самый страшный удар должен был нанести фактор неожиданности. Никто не прогнозировал возможность наступления противника на Тихвин. Пожар в те дни тушили там, где уже загорелось.
В то время когда войска группы армий «Север», получив усиление, начали действия по созданию второго кольца блокады, Ленинградский фронт решал задачу прорыва уже существующего кольца. Частям 55 армии Ленинградского фронта была поставлена задача прорвать оборону противника, плотно вцепившегося в нашу землю.
Глава четвертая. Узлы сопротивления
Перед фронтом 70 стрелковой дивизии, в 329 стрелковом полку которой воевал мой дед, продолжали стоять части дивизии СС.
Из итоговой разведсводки № 6 по 55 армии:
«Данные о группировке и силах противника за период с 28 сентября по 8 октября 1941года:
1) противник за истекшие 10 дней на фронте Армии широких наступательных действий не вел, маневрируя полковыми и дивизионными резервами (силою до рота – батальон) и за счет огневых дивизионов, расположенных по переднему краю, парировал наступательные действия наших войск, огнем автоматов, пулеметов, минометов и артиллерии, переходя иногда небольшими группами в контратаки и противодействуя нашим разведчикам;
Все его действия сводились к закреплению и удерживанию за собой захваченных пространств. Оборонительные сооружения противника проходят по рубежу: восточная окраина Александровка, северная окраина Пушкинского парка, южная окраина Большое Кузьмино, северо-восточная окраина Пушкин, северная окраина деревня Новая, Русские Липицы, Путролово, лес западнее Покровское, Усть-Тосно.
2) установлено наличие:
а) полицейской дивизии «СС», третий полк которой обороняется на участке: Редкое Кузьмино, Александровка; первый полк: – иск. Александровка, южная окраина Большое Кузьмино, второй полк – северо-восточный окраина Пушкин до железной дороги;
б) 121 пехотной дивизии, обороняет: 407 пехотный полк – участок Новая, Ново-Вести; 408 пехотный полк – Русские Липицы, иск. отметка 20,7; и по-видимому 405 пехотный полк в районе Каптело, Путролово, Ям-Ижора;
г) 122 пехотной дивизии: 3 батальон 411 пехотного полка – юго-восточнее Колпинская колония, 1 и 2 батальоны 411 пехотного полка – западнее Ивановская колония, 410 пехотный полк – левее 1 и 2 батальонов 411 пехотного полка на западном берегу река Тосна, северо-западнее и юго-восточнее Кирпичный (кв. 2474);
1 и 3 батальоны 410 пехотного полка, предположительно на участке Рождественно, Воскресенское, Никольское.
6) противник занимает оборону (роты в одну линию. Установленной глубины нет. Более глубоко располагаются пулеметы, минометы. Артиллерия на глубине 400-1000 метров
7) боевое охранение, главным образом, из автоматчиков, поддержанных из глубины минометами и артиллерией. Удаление до 1,5 км в блиндажах и усиленно инженерными заграждениями;
8) существует специальная служба ракетчиков. Действие ночью в разведке мелкими группами автоматчиков (15-20 человек)
Узлы сопротивления противника:
а) Редкое Кузьмино, Рехколово, Александровка;
б) южная окраина Большое Кузьмино, Пушкинский парк;
в) Пушкин; Новая, Финские и Русские Липицы;
г) Капптелево, Путролово, Ям-Ижора;
д) Красный Бор; лес западнее Покровское, Покровское, Ивановское, Усть-Тосно».
Чтобы понять какова была оборона противника, прорвать которую должны были воины 55 армии, необходимо понять что стоит за определением «узел сопротивления» и почему в 1941 году термин «узел сопротивления» применялся только в описании обороны частей вермахта?
Узел сопротивления – группа опорных пунктов, расположенных на переднем крае, внутри позиции, иногда в тылу, объединенная в систему долговременной обороны.
В устройстве узла сопротивления используются в оборонительных целях преимущества местности и особенности территории, например «господствующие» высоты, водные преграды, лес, рвы, каменные здания, промышленные сооружения и т.д.
Узлы сопротивления обязательно имели укрепленные противотанковые и противопехотные препятствия по фронту и с флангов.
Опорный пункт, как часть узла сопротивления – система долговременных огневых точек, связанных ходами сообщения.
Почему узлы сопротивления в нашей обороны не существовали к началу войны, и почему наши воины были вынуждены воевать в «чистом поле» уже было рассказано в третьей части книги. Такова была цена принятой и неоспоримой довоенной наступательной концепции Красной Армии.
Печально, но сама идея узла сопротивления, как современной системы обороны, изначально принадлежала отечественному военному ученому.
Профессор Хмельников еще в 1923 году, обобщив опыт Первой мировой войны, предложил в корне изменить отжившую систему сухопутной обороны и предложил новый ключевой термин – «долговременный узел сопротивления». Под узлом сопротивления, по Хмельникову, следовало понимать «пункты, важные в тактическом отношении и потому наиболее сильно оборудованные технически», которые успешно противостоят атаке пехоты, бомбардировке и артиллерийскому налету.
Хмельников предлагал иметь в узле сопротивления несколько линий обороны.
Каждая линия обороны должна была состоять из отдельных земляных и бетонных брустверов с убежищами под ними, связанными с тылом ходами сообщения. На флангах предлагалось устроить опорные группы огневых точек с «броневыми установками».
Возвести «широкие, продольно обстреливаемые и трудно уничтожаемые артиллерийским огнем искусственные препятствия»;
Обязательно оснастить узел «многочисленной скорострельной расположенной преимущественно под броневыми закрытиями противоштурмовой артиллерией,
большим количеством пулеметов, огнеметов и других средств ближнего боя.
Площадь узла сопротивления по Хмельникову должна была быть не менее трех квадратных километров. Захватить такой узел «открытой силой», то есть прямой атакой было бы невозможно. Профессор Хмельников пишет о том, что преодолеть узел сопротивления возможно только путем «постепенной атаки, и то после больших потерь людьми и артиллерийских и инженерных средств». О массированных авиаударах в 1923 году речь, конечно, не шла.
Следует ли говорить о том, что труд профессора Хмельникова и его идея о создании узлов сопротивления у «корифеев» нашей военной науки», только что вернувшихся с гражданской войны и расседлавших коней, оваций восторга не вызвали?
Зато немцы действовали строго по рекомендациям труда Хмельникова. Кстати, знаменитая монография фельдмаршала фон Лееба «Оборона» (1936 -1938 годы) в своей большой части – пересказ труда Хмельникова.
Но то, что было изложено на бумаге, с немецкой педантичностью, строго по науке, заложенной нашим непризнанным ученым, было выстроено врагом, как система узлов сопротивления перед линией обороны Ленинградского фронта.
К сожалению, отечественные гениальные идеи должны обязательно пройти через заграничные фильтры. Это стоит нам подчас не просто отставания в каких-то сферах деятельности, но и безвозвратных жертв, которых можно было, если не избежать, то сократить минимум на порядок.
Поэтому в описываемый период, посылая бойцов Красной Армии в наступление, командование вынуждено было давать оборонительные «рекомендации» в основном такого характера: «выбить врага и занять его укрытия», а если это не представляется возможным – «зарыться в землю». А что еще можно было предложить? Не наступать, не прорывать блокаду?
Тем не менее, опыт, даже такой горький и страшный, обобщался и исследовался нашей военной наукой. Так с первых месяцев войны при штабе каждой армии и фронта существовал «отдел по изучению опыта войны». Оборона противника наблюдалась, изучалась, обобщалась. Появились печатные труды, имеющие практическое назначение. Серия называлась «В помощь командиру Красной Армии».
На мой взгляд, отличия с вышеприведенным отрывком из труда Хмельникова, учитывая временную разницу написания обоих трудов в двадцать лет, не существенны. К сожалению, противник усвоил уроки профессора Хмельникова намного раньше. Передовая теория обороны вовремя «не легла» на нашу почву.
Из книги полковника А. Борисова «Захват неприятельского опорного пункта» Москва – 1943 год:
«Оборона немцев, как правило, основана на системе узлов сопротивления. Каждый из них включает в себя несколько опорных пунктов, связанных между собой системой фланкирующего и перекрестного огня. Если же опорные пункты расположены далеко один от другого, то промежутки заполняются отдельными огневыми точками, различными препятствиями (преимущественно минными полями), автоматчиками, прикрываются минометным и артиллерийским огнем.
Опорные пункты создаются главным образом в населенных пунктах, а также в лесах и на командующих высотах.
Каждый опорный пункт состоит из отдельных огневых точек, обычно дзотов, связанных между собой ходами сообщений. Атаки отражаются главным образом косоприцельным, фланкирующим и кинжальным огнем пулеметов и автоматического оружия. Наряду с этим широко применяется и минометный огонь. Позиции выбираются за естественными рубежами, в частности, вдоль рек с крутыми берегами, причем с таким расчетом, чтобы впередилежащая местность хорошо просматривалась и простреливалась. Перед дзотами, вооруженными преимущественно легкими и станковыми пулеметами, устраиваются проволочные заграждения и минные поля.
Обычно гитлеровцы в оборонительном бою придерживаются следующей тактики. Когда наша артиллерия, ведет огонь на разрушение огневых точек, немцы отсиживаются в укрытиях и в блиндажах (землянках), расположенных за обратными скатами. В окопах же в это время остаются только наблюдатели, которые засекают огневые позиции советских батарей, обстреливающих передний край немецкой обороны. Когда же наша артиллерия переносит огонь в глубину, фашисты выбегают из укрытий, занимают уцелевшие огневые точки и ведут пулеметный и автоматный огонь по нашей атакующей пехоте. Одновременно открывают шквальный огонь минометы и артиллерия, в том числе и малокалиберная».
Если подытожить, то основной принцип построения узла сопротивления – не оставить ни одного сантиметра площади, не покрываемого огневой мощью опорных пунктов, как на подходах к узлу, так и внутри такового. Уничтожить долговременные огневые точки могли либо прямые попадания авиабомб или точные удары тяжелой артиллерии.
Вот такие «узлы сопротивления» гитлеровцев и предстояло в октябре 1941 года разрубить 55 армии Ленинградского фронта.
Глава пятая. Разрубить узлы!
Из журнала боевых действий 55 армии:
«Согласно устных указаний Главнокомандующего Ленинградским фронтом
55 Армия с утра 1октября 1941года имеет задачу перейти в наступление по всему фронту, с нанесением главного удара на своем левом фланге».
Из боевого донесения Штаба 55 армии:
«По данным боевого донесения Штарма 55 на 14.30 1октября 1941года
55 Армия, выполняя поставленную задачу, с утра 1октября 1941года перешла в наступление;
70 стрелковая дивизия с 5.00, ведя наступление на Александровка и на северную окраину Пушкин, к 14.00 1октября 1941 года достигла:
329 стрелковым полком – правый фланг шоссе у северной окраины Редкое Кузьмино, левый – железная дорога, фронтом на юго-запад.
Попытка атаковать противника с северо-запада Редкое Кузьмино 329 стрелковым полком была встречена фланговым огнем с северо-восточной окраины Ново-Сузи и из района Александровка.
68 стрелковый полк под воздействием сильного огня противника вынужден был частично оттянуть свой левый фланг за железнодорожную насыпь и перейти временно к обороне. 252 стрелковый полк удерживает прежнее положение.
Противник начал с утра 1октября 1941года и продолжает оказывать сильное огневое сопротивление на всем фронте Армии и особенно его огонь чувствуется для боевых порядков 70й и 86й стрелковых дивизий.
Огневые средства 70 стрелковой дивизии ведут бой с противником, поражая его огневые очаги».
2 октября 1941 года части 70 стрелковой дивизии, в том числе 329 стрелковый полк, в котором воевал мой дед, возобновили наступление.
Из журнала боевых действий 55 армии:
«1) 70 стрелковая дивизия – противник в течение всего дня продолжал оказывать упорное огневое сопротивление нашим частям, особенно со стороны Редкое Кузьмино и со стороны парков Пушкин. Части стрелковой дивизии производили неоднократные атаки на Редкое Кузьмино и южную часть Большое Кузьмино, но успеха не имели. Положение частей прежнее.
