Призрачное действие на расстоянии
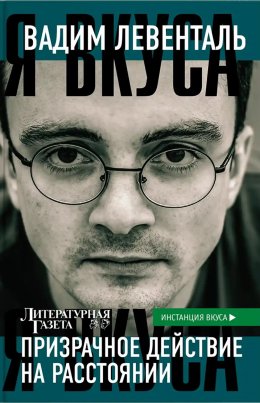
© АНО «Редакция «Литературной газеты», 2024
© ООО «Литературная матрица», 2024
© Александр Веселов, обложка, 2024
Предисловие
Лучше сделать что-нибудь одно замечательное, чем многое кое-как, но если ты не можешь сделать что-нибудь одно замечательно, то лучше сделать многое, хотя бы и кое-как.
Плиний Младший
Всякий, кого обуревает демон авторствования, мечтает написать какой-нибудь opus magnum. Большой роман, который все на свете объяснит. Или, если автор немножечко филолог, большую монографию, которая все объяснит про что-нибудь одно. Автор этих строк, разумеется, не чужд такой мечты. Однако пока opus magnum пишется – и тем более пока он почему-либо не пишется – автор разменивается на мелочи. Процитированный в эпиграфе Плиний Младший учит нас не стесняться этого. Колонки о литературе, книжные рецензии, предисловия к книгам, отзывы на книги – все это многое пишется как-то само собой по ходу дела у всякого, кто связал свою профессиональную жизнь с литературой.
Перебирая написанные за последние десять лет тексты, я обнаружил, во-первых, что многие из них написаны не то чтобы кое-как – некоторые вроде бы даже вполне бодро и весело написаны, – а во-вторых – что эти тексты по-разному и с разных сторон подступаются к одной и той же теме. Речь о связи литературы с жизнью. Как будто бы это вещи довольно далекие друг от друга. Настоящая жизнь и вымышленные миры, действительность и слова, реальность и фантазии – где имение и где наводнение. Есть даже такая точка зрения, что в литературу мы сбегаем от реальной жизни, прячемся в ней, как в домике. И все же каким-то загадочным образом они накрепко связаны и влияют друг на друга – жизнь и литература.
Есть, говорят физики, такая штука, как квантовая запутанность. Одна частица связана с другой, находящейся в сотне световых лет от нее, и воздействие, оказанное на одну частицу, мгновенно, как будто и нет никаких световых лет, сказывается и на другой тоже. Это еще называется парадокс ЭПР, Эйнштейна – Подольского – Розена. Сам Эйнштейн, еще толком не веривший в новооткрытый эффект (экспериментальное подтверждение теоретическим выкладкам подоспело только в 1993 году), называл его «призрачным действием на расстоянии».
В конкурсе на лучшую короткую метафорическую формулу, по которой сопрягаются такие далековатые вещи, как действительность и литература, эйнштейново призрачное действие на расстоянии кажется хорошим кандидатом на победу. Тем более что физикам она больше не нужна. Берем.
Так вот в этой книге собраны тексты, так или иначе это далекое действие на расстоянии… ну не то чтобы исследующие – автор все-таки не исследователь, – скорее они этот эффект повсюду обнаруживают, вглядываются в него и рассматривают его с разных сторон.
Она открывается предисловиями для четырех томов проекта «Литературная матрица» (и переиздания первых двух томов в 2021 году); первое из них было написано при участии моих коллег по проекту Павла Васильевича Крусанова и Светланы Викторовны Друговейко-Должанской и публикуется здесь с их любезного разрешения. Далее следуют тексты, написанные в разное время и по разным поводам. Очерк о Карамзине, написанный все для той же «Матрицы», и очерк о Викторе Некрасове, написанный для переиздания «В окопах Сталинграда», – с одной стороны. Рецензии на книжные новинки, написанные в разные годы для разных изданий, и как бы случайно залетевшие в окно статьи о кино и телесериалах, – с другой. Эссе о своих собственных взаимоотношениях с книгами и литературой, написанное для сборника «Как мы пишем», и эссе о творчестве Виктора Пелевина, написанное для «Литературной газеты» по случаю его шестидесятилетия, – с третьей. Ну и так далее.
К слову, значительная часть текстов из этого сборника были написаны специально для «Литературной газеты»; по нынешним временам возможность писать пространные тексты сугубо по вопросам изящной словесности – дорогого стоит; и я благодарю «Литературную газету» и лично ее главного редактора Максима Замшева за эту возможность. Тексты эти были написаны во многом как одно продолжающееся из статьи в статью размышление: тем легче им было, пусть немного перетасованным, попасть под эту обложку.
Что касается композиционного устройства сборника в целом, то я отказался от идеи разбивать сборник на разделы по принципу «классики налево, современники направо» или «вот раки по пять рублей, а вот маленькие, но по три». Равно как и не стал я составлять его по историческому принципу, сообразно году написания каждой статьи. Вместо этого я попытался придать движению текстов под этой обложкой некоторый внутренний сюжет. Сюжет этот носит, особенно в первой половине книги, несколько автобиографический характер, но кажется, в эпоху автофикшн это простительно. Если о себе и своей насыщеной внутренней жизни можно рассказывать любому автору, то почему нельзя критику?
И все же пару предварительных замечаний я хочу сделать. Во-первых, в книгу отобраны в основном тексты о книгах, писателях и литературе. Тексты о политике, хороши они или плохи, в книгу не вошли – и однако это, разумеется, не значит, что политики в этой книге вовсе нет. В конце концов, связь жизни и литературы – это в том числе и связь литературы с политикой; даже когда литература выбирает запереться в башне из слоновой кости – этот жест должен быть понят в политическом смысле.
Во-вторых, самый ранний из текстов в этой книге написан в 2010 году, но все же большая часть написана уже после 2015-го, а большая часть от этой части – и вовсе в 2021–2023 годах. Таким образом, книга не претендует на то, чтобы быть книгой о «литературе десятых». Отчасти она отражает личные взгляды автора на литературу, так сказать, вообще; но в той мере, в которой она говорит именно о текущей литературе – это литературный ландшафт времени, которое, видимо, следует назвать послекрымским, возможно, предвоенным, а может быть, даже «эпохой СВО».
Но и тут автору хотелось бы оставить за собой право на некоторую меру безответственности. Задачи дать исчерпывающее описание этого ландшафта автор перед собой не ставил, авторов и книги отбирал абсолютно волюнтаристски, да и ни один современник не может знать, в каких именно артефактах духа эпоха застынет для будущих поколений – одним словом, тут дан в высшей степени личный и сугубо пристрастный взгляд на литературу второй половины второго десятилетия XXI века, и любые претензии типа «почему тут есть то, но нет этого» будут попадать в молоко. Что же до перелома, который произошел в феврале 2022 года, то он не мог еще быть отрефлексирован изящной, и в силу этого довольно инертной, словесностью, а стало быть, и в этой книге почти совсем не освещен.
Впрочем, читатель обратит внимание на то, что завершает книгу длинное, проходящее сквозь дюжину статей рассуждение о т. н. «прозе тридцатилетних» – литературном поколении, вышедшем на историческую сцену как раз в 2022–2023 гг. И хотя их книги – в большинстве случаев дебютные – темы военных действий на юго-востоке Украины почти никак не касаются, их все же, хочешь не хочешь, придется признать частью литературы «эпохи СВО». В этом смысле они что-то – может статься, что-то важное, – о ней, об эпохе, говорят.
Наконец, последнее замечание. Человек, постоянно занятый действием, производит впечатление подозрительно нездорового, даже опасного. Действию, пусть даже и призрачному, подобает периодическое ленивое бездействие. Поэтому за разделом «Действие» в этом сборнике следует короткий раздел «Бездействие», в котором собраны некоторые из колонок, написанные зимой 2021-го – летом 2022 года для сайта «Ваших новостей». Это меланхоличные тексты о прогулках по Петербургу, в них взгляд шатающегося без дела по городу задумчивого обывателя блуждает с одного предмета на другой, цепляется то за одну тему, то за другую и ни на чем надолго не задерживается. Возможно, призрачное бездействие на расстоянии – это еще один, но тайный механизм работы литературы.
Действие
Литературная матрица
ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2 т. – СПб.: Лимбус Пресс, 2011)
В англо-американском книжном сообществе bookish на платформе Livejournal появился в 2010 году пост: некто – очевидно, достаточно взрослый, – писал, что решил познакомиться с этими «The Russians», о которых все говорят, и прочитать наконец «Преступление и наказание», «Войну и мир» и «Лолиту». По результатам прочтения Достоевскому было выдано пять звезд, а Толстому с Набоковым – по четыре с половиной. Автор поста просил подсказать ему, что еще почитать у тех же писателей. Речь, впрочем, не об экспорте русской духовности, а о том, что ответил автору поста один из участников сообщества: радуйся, мол, что родился в Штатах, – родись ты в России, тебя этими книжками замучили бы еще в школе и потом ты всю жизнь их ненавидел бы.
Надо полагать, именно эти «замученные книжками еще в школе» и позаботились о том, чтобы обязательный выпускной экзамен по литературе был в 2009 году отменен. Тем не менее The Russians остались в школьной программе. Так надо их читать или не надо? И если надо – то зачем? В наше прагматическое время, когда в некоторых странах паспорта выдают едва появившимся на свет младенцам, любой продвинутый школьник, приходя на первый в жизни урок литературы, прежде всего обязан скривить лицо и заявить Мариванне, что литература никак не пригодится ему в реальной жизни, а значит, учить ее не надо: расскажите-ка лучше, как составить резюме. На вторую часть этого вопроса грамотная Мариванна должна ответить, что писать резюме – это удел лузеров: крутые парни не составляют резюме, а читают и отбраковывают чужие. С реальной жизнью сложнее. Честная Мариванна должна сознаться, что ни литература, ни, скажем, астрономия или математический анализ в реальной жизни никому еще не пригодились. Ограничимся, впрочем, литературой. Еще раз: знание истории русской литературы действительно никакого практического применения не имеет.
Нет никакой зависимости между культурным уровнем человека и его социальным положением. Один из канадских премьер-министров как-то признался, что любит только хоккей, а книг вообще никогда не читает. А когда-то всесильный кремлевский «серый кардинал» Владислав Сурков, напротив, был известен как тонкий ценитель литературы. То же самое, в общем, можно сказать и о лузерах: в интеллектуальном багаже одного хранятся разве что смутные воспоминания о сказке «Репка», а другой числит главным достоянием «сало и спички – и Тургенева восемь томов».
Более того, вопреки распространенному заблуждению, чтение художественной литературы (сюжеты которой, так уж сложилось исторически, строятся чаще всего на любовных многоугольниках) никак не помогает обустроить свою личную жизнь. Напротив, книжные представления о любви отпугивают объектов этой любви (тут полагается вспомнить пушкинскую Татьяну, воспитанную на романах и обманах «и Ричардсона, и Руссо»), а потом еще и оказываются источником разочарований («Я-то думала: он мне стихи читать будет…»).
Наконец, необходимо разрушить самый стойкий предрассудок: будто бы чтение хорошей литературы – это такое уж безусловное удовольствие. Стоит признаться, что даже маленькая порция пломбира явно способна доставить куда более очевидное удовольствие, нежели многочасовое погружение в какие-нибудь там «Мертвые души». Ведь читать гораздо труднее, чем простодушно облизывать пломбирный шарик. И все-таки: есть мнение, что читать надо. Зачем и почему?
Первая благородная истина буддизма гласит: жизнь есть страдание. Житейский опыт, как кажется, не дает оснований спорить с этим утверждением. Моменты счастья всегда кратковременны: по этой логике, счастье есть не более чем отложенное страдание. Художественная литература не может исправить этого – ни одна книга не сделает человека счастливым. Но так уж получилось (спросите у историка – почему), что именно художественная литература стала для разумного населения земного шара аккумулятором смысла – того, что люди за последние пару-тройку тысячелетий поняли о жизни и о себе. Пройдут сотни лет, прежде чем кино или любое иное гипотетическое искусство будущего сможет сравняться по смыслоемкости с батареей мировой литературы.
Читать «Войну и мир» нужно не для того, чтобы, участвуя в телевикторине, бойко ответить на вопрос, какого цвета была собачка Платона Каратаева (кстати: она – вы не поверите! – была лиловая), и не для того, чтобы блеснуть уместной цитатой в умной беседе. А для того, чтобы настроить свой ум на такую волну, на которой вопросы вроде «кто я?» и «зачем я здесь?» лишаются анекдотической окраски. Те, кто планирует благополучно просуществовать, вовсе не задаваясь подобными вопросами, приглашаются на урок по составлению резюме.
Ответов на эти вопросы, кстати говоря, ни в одной хорошей книге нет. Ответы при благоприятных условиях появляются в голове читателя сами собой. Могут ли они, ответы, появиться в голове сами собой и без всяких книжек? Могут. Но пока мы читаем, вероятность их появления существенно возрастает. Таким образом, тот, кто проштудировал «Войну и мир» или «Историю одного города», получает серьезный шанс не просто прожить жизнь, исполненную страдания, но что-то об устройстве этой жизни понять. А ведь осмысленное страдание куда как лучше страдания бессмысленного – это знает всякий, кого мама ставила в угол за драку с братом, который, между прочим, первый начал.
Существенное отличие чтения русской литературы от прогулки по музею материальной культуры заключается в том, что книги – не экспонаты, о которых любопытно узнать пару забавных фактов. Книги собраны из мыслей и фантазий, сомнений и откровений, любви и ненависти, наблюдений и разочарований живых людей. Люди эти, коль скоро человечество помнит о них десятки, сотни лет, были людьми исключительными. И порукой тому, что все ими написанное было обдумано и написано на пределе серьезности, – их трудные судьбы и зачастую трагические смерти. Потому-то их произведения сочатся горячей, как кровь, мыслью – мыслью, которая разрывает сознание, не умещаясь в мозгу, и выплескивается вовне, в тексты. Брать эти тексты в руки нужно не как осколки какого-нибудь кувшина, а как старое, но грозное оружие (человек, который придумал это сравнение, через несколько дней пустил себе пулю в висок – игра «Угадай цитату» началась).
В этом смысле само словосочетание «изучение литературы» звучит смешно. Можно, конечно, изучать устройство автомата Калашникова, но создан он не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы из него стрелять. Похожим образом обстоит дело и с томиком Толстого. На то, чтобы исследовать язык «Войны и мира» или образ Анны Карениной, можно положить целую жизнь – занятие не лучше и не хуже других, – но написаны эти романы были не для того, чтобы несколько ящиков в библиотечном каталоге заполнились карточками с пометкой «Толстой, о нем», а для того, чтобы хоть один из сотни читателей потерял покой.
У профессионала-филолога, который возьмется читать «Литературную матрицу», будет масса поводов скривить лицо: об этом, мол, уже написал тот-то, а это не согласуется с теорией такого-то. Профессионал-филолог будет абсолютно прав. Русская литература от Грибоедова до Солженицына препарирована и разложена на трактовки во многих сотнях томов, в названиях которых есть слова «дискурс» и «нарратив». Краткий и упрощенный конспект того, что ученые имеют нам сказать про художественную литературу, должен, по идее, содержаться в школьном учебнике. Учебник этот – книга, безусловно, полезная и познавательная. Существует он затем, чтобы его читатель как минимум запомнил, что Пушкин родился несколько раньше Чехова, и как максимум – на что стоит обратить внимание при чтении Тургенева. Затем, чтобы в голове его читателя выстроилась картина истории русской литературы как истории – измов: классицизм – романтизм – реализм – символизм… И в этом смысле учебник неизбежно должен быть до некоторой степени равнодушен к самим текстам – шаманская, напрочь выносящая мозг проза Платонова ему столь же мила, как и зубодробительно скучный роман Чернышевского.
Смысл же появления «Литературной матрицы», хотя статьи в ней и расположены в традиционном хронологическом порядке, состоит совершенно в другом.
Ее авторы – не ученые, а писатели и поэты. С литературоведческими трудами они, в большинстве своем, не знакомы.
В этом смысле они такие же «простые читатели», как и мы с вами, – но, будучи сами писателями, они в силу устройства своего ума способны заметить в книгах своих почивших в бозе коллег нечто большее, нечто более глубинное, нежели обнаружит самый искушенный филолог. Возвращаясь к оружейной метафоре, можно сказать, что они не музейные работники, а бойцы на передовой, и потому тщательное изучение «шпаги Лермонтова» или «пулемета Бабеля» имеет для них самый что ни на есть практический смысл: всем этим арсеналом нужно уметь пользоваться, чтобы научиться бить без промаха.
То, что они нам предлагают, – это не абсолютные истины, не аксиомы, которые надо выучить, чтобы пользоваться ими, как пользуются таблицей умножения, высчитывая выгодность покупки. Нет, каждая статья «Матрицы» – опыт настоящего чтения, чтения всерьез. Опыт, который может пригодиться, а может и не пригодиться. При чтении любой из статей сборника, не исключено, возникнет протест: я не согласен. (В нескольких случаях не согласны – друг с другом или с авторами – оказались сами составители сборника, поэтому некоторым классикам в нем посвящено не по одной, а по две статьи.) Так ведь и все классические произведения, послужившие авторам материалом для размышления, были написаны не в последнюю очередь для того, чтобы кто-то осознал, что он не согласен. «Раз художник использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в ход свое – так будет и правильно, и честно», – утверждал Набоков в своих лекциях, которые он читал американским студентам. А писатель Джозеф Конрад и вовсе заявлял, что «автор пишет только половину книги: другую половину пишет читатель». И, ясное дело, каждый читатель по-своему пишет свою половину книги.
Поэтому едва ли найдется кто-то, кому понравятся все статьи, помещенные под обложкой «Литературной матрицы»: тот, кто готов вяло согласиться со всеми столь разными авторами своих «половин» классических текстов, вряд ли вообще возьмет в руки нашу книгу.
Составители старались, чтобы сборная авторов книги отражала не их личные пристрастия, а современное состояние русской литературы во всем ее разнообразии, как эстетическом, так и идейном, – чтобы читатель мог не только проследить, чем жила русская литература с начала XIX века по середину XX-го, но и увидеть, чем она жива в начале XXI-го. Поэтому среди авторов сборника есть поэты и прозаики, маститые и совсем молодые литераторы, живущие как в России, так и за ее рубежами.
Главное, чего хотелось бы составителям «Матрицы», – чтобы тот, кто прочтет из нее хоть несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть в тексты произведений русской литературы, входящих в «школьную программу». Чтобы он читал эти тексты так, как читают их авторы собранной ими книги, – не сдерживая слез, сжимая кулаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума. Потому что школьная программа по литературе – это на самом-то деле программа для активации человеческого в человеке, и надо только понять, где тут кнопка «ввод» и как ее нажать.
Задраить люки
(Литературная матрица: Советская Атлантида. – СПб.: Лимбус Пресс, 2014)
Незадолго до того, как новая «Литературная матрица» отправилась в печать, на экраны страны вышел очередной фильм о Великой отечественной войне. К выходу фильма на одном из телеканалов устроили, как это бывает, опрос на улицах Москвы. Опрашивали школьников, вопрос был очень простой: что вы знаете о Сталинграде? Диапазон ответов оказался чрезвычайно широк: самые несведущие признались, что не знают ничего, самая знающая девочка рассказала, что это город, в котором во время войны погибло много людей, в живых осталось всего двадцать человек, а потом его переименовали в Санкт-Петербург.
Окей, телевидение на то и телевидение, чтобы ошарашивать зрителей ужасами, и я вполне допускаю, что если и были сказаны кем-то из опрашиваемых на камеру правильные слова о самой кровавой мясорубке мировой истории, то в вышедший на экраны сюжет они попросту не попали. Но вот история не из телевизора: моя коллега, к которой на выходные приехала юная родственница из другого города, гуляла с ней по широкой улице Ленина в Санкт-Петербурге, и девочка-подросток, взглянув на табличку с названием, искренне удивилась: что это за Лена такая, в честь которой улица названа?
Все это рассказывается здесь не в порядке дежурного возмущения по типу «куда смотрит правительство», а для того, чтобы заострить внимание на подзаголовок второй «Литературной матрицы»: «Советская Атлантида».
Советский Союз опустился так глубоко на дно, что как будто перестал существовать. В мутных тяжелых водах истории не разглядеть даже таких громадных построек, как Ленинград и Сталинград, что уж говорить о зданиях (здесь можно услышать эхо задания, того, что за-дается, и вернувшись к нам – создание, созидание, предание – это эхо делает из здания то, что с-дается сюда, в наличную реальность) – о зданиях, говорю я, поменьше. Мы ходим по улицам, проложенным в советские времена, или живем в домах, которые в советские времена построены, или даже гуляем в лесу, и деревья, под кронами которых мы находим грибы и ягоды, – это те самые деревья, которые проклюнулись из земли в советские времена, – и однако же Советский Союз пребывает в безмолвии, и в толще воды по его городам шмыгают пугливые рыбы. Заданием – и тяжелейшим – оказывается сама возможность разглядеть неверные тени того времени, которое – забегая вперед, скажем – составителям новой «Матрицы» хотелось бы именовать советским периодом русской истории.
Что случилось с Атлантидой? – Она утонула. То же произошло и со страной, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик, – крупнейшей континентальной империей, державшей в орбите своего влияния одну половину мира и в страхе – другую, – и вместе с ней в ядовитую соленую воду погрузилось все, что в ней было создано. Военные подвиги, памятники, человеческие судьбы, промышленные мощности, символы, открытия, книги, наконец.
Люди, которые выросли, а то и родились в эпоху интернета, могли что-то слышать о Пушкине и Толстом, Достоевском и Чехове, а самые продвинутые, может быть, даже знают о Набокове, Газданове и Бунине, но Фадеев, Симонов или Трифонов уже глубоко на дне.
Позиции того, кто взялся бы защищать советскую литературу от забвения, чрезвычайно слабы. Такому человеку в первую очередь напомнят о том, что литература в Советском Союзе была частью огромной машины по производству идеологии – идеологии скомпрометированной и уничтоженной, – после чего упомянут сложную и многоступенчатую цензуру, как внешнюю, в лице редакторов и писательских организаций, так и внутреннюю, на которую писатель обрекает себя сам, не решаясь написать того, что думает, наконец, скажут, что лучшие писатели советской эпохи писали в стол, и вишенкой на торте приведут цитату из Набокова: «советская литература – мещанская литература». Набокова трогать опасно – кто Набокова обидит, трех дней не проживет.
Ясно, что книга о писателях советской эпохи – писателях подцензурных, официальных, – предприятие отчаянное. Кому нужны поднятые со дна моря расколотые, обросшие ракушками артефакты цивилизации, о которой никто ничего не знает? Их отправляют пылиться в тихий музей, под присмотр подслеповатых стариков-хранителей, – этакая форма перезахоронения.
Изредка по музею проносится толпа веселых школьников, и едва поспевающая за ней тетя-экскурсовод втолковывает юношеству: дореволюционная русская литература была передовой, но после Революции, став советской, наша литература начала стремительно отставать от развития мировой словесности, а отстав, принялась откатываться в развитии назад, к примитивному реализму; после экскурсии, дети, все получат в подарок магнитики на холодильник с надписью «соцреализм sucks».
Новая «Литературная матрица» была задумана не как альтернативная экскурсия по тому же самому музею, вступать в спор с экскурсоводом и некрасиво, и неумно; то, что в ней хотелось предпринять, – это погружение в подводную тьму, в беспросветную глубину, в холодную толщу соленой воды, с тем чтобы выхватить из мрака очертания покоящихся на дне руин. Внутренняя необходимость такой экспедиции рождается из ощущения недоверия к общепринятому самоочевидному знанию, недоверия к экскурсоводу, да и к самому пыльному музею – ощущения, которое должно, кажется, быть присуще любому человеку, если он готов рискнуть мыслить самостоятельно.
Жанр предисловия до некоторой степени безответственный, и правом на эту безответственность и хотелось бы воспользоваться составителям: предисловие не обязано отвечать на вопросы, и это дает нам возможность задать и оставить без ответа странный вопрос – что если все было вовсе не так? Что если развитие русской литературы вовсе не было прервано переоборудованием Российской Империи в СССР, но традиция, на почве которой произросли Белый и Сологуб, Ремизов и Платонов, Блок и Мандельштам, продолжила свой стремительный взлет, за которым все остальные попросту не поспели, только взлет этот, как всякий путь человеческого духа, принял траекторию спирали? И в то время как западная словесность еще проходила модернистский вираж, плутая по Дублину, барражируя в потоках сознания и смакуя вкус бисквитного пирожного, наша уже положила крыло на возвратный путь, на новом витке прорываясь в традицию реализма, а литература запада повторила этот маневр, лишь вслед за нами и позже вступив на дорогу перемен, обнаруживая на ней наливающиеся гроздья гнева, но не теряя надежды обрести день восьмой (найдите спрятавшихся на картинке лауреатов Пулитцеровской премии)?
Разумеется, так поставленный, этот лукавый вопрос взывает как будто бы к однозначному ответу (любим ли мы Господа? любит ли Господь нас? сдадим ли мы деньги в церковную кассу?), но мы ведь предупредили, что ответа не будет. Более того – вопрос этот задан вовсе не для того, чтобы дать на него ответ, а для того, чтобы в принципе поставить ситуацию под вопрос, и вместе с тем оказаться под вопросом самим – ибо человек есть животное под вопросом. Никто не хочет таскать каштаны из огня, но тому, кто хочет стать человеком, придется это делать.
Расшатать устойчивые представления о советской литературе и значит завести мотор батискафа, на котором авторам и читателям второй «Литературной матрицы» предстоит спуститься туда, где меж исполинских развалин помавают хвостами глубоководные рыбы, на фигуре героического инвалида Николая Островского поселилась колония актиний, коралловым рифом зарастает памятник скорбному жителю деревни Федору Абрамову, а по стадионных размеров монументу поэтам-шестидесятникам сонно ползают гигантские раки.
«Советская Атлантида» задумана как продолжение «Литературной матрицы» – вышедшего в 2010 году двухтомника, в котором о русских писателях, чье творчество изучают в рамках школьной программы по литературе, размышляли писатели и поэты дня сегодняшнего – те, в чьем коллективном портрете должен проступать смутный (ибо еще не застывший) образ живой русской литературы начала XXI века. Всякий состоявшийся проект (а «Литературная матрица», без ложной скромности, состоялась как один из самых громких коллективных проектов начала века в России) взывает о продолжении, но что значит продолжение для ключевой идеи «писатели о писателях»? Писатели о художниках? Русские писатели о зарубежных писателях? Современные писатели о писателях древности? Все эти идеи интригуют, и нельзя исключать, что когда-нибудь такие книги можно будет поставить себе на полку, но ведь чем рисковее предприятие, тем оно соблазнительнее. Всякий может отправиться в заграничную поездку, к руинам римского форума или в картинную галерею, но чтобы всерьез говорить о советской литературе, требуется определенное мужество: официальная, подцензурная литература СССР? вы это серьезно? – да.
Да, серьезно, и у экспедиции в «Советскую Атлантиду», как у всякой уважающей себя экспедиции, есть задача. Состоит она в том, чтобы попробовать выяснить, нет ли – коль скоро выросшее в те времена дерево дает нам тень, а построенный тогда дом дает нам крышу над головой – нет ли и в советской литературе, помимо всем известных ее грехов, чего-то живого, плодоносного, чего-то, что может пригодиться нам здесь и сейчас.
Методы нашей работы остались прежними: наши авторы не профессионалы-литературоведы, но живые писатели, и те, о ком они пишут, для них не предмет исследования, не препарированные объекты, но товарищи по оружию. Они пишут предельно субъективно, страстно и горячо – так, как говорят и спорят только о том, что касается тебя напрямую, лично, о том, что для тебя вопрос не теоретический, но – жизни и смерти. Авторов мы звали, сообразуясь не столько с собственными вкусом и пристрастиями, сколько с представлением о спектре современной литературы – многообразием ее тем и стилей, идеологических окрасок и поколенческих страт. Кто-то из авторов знаком читателю по первому выпуску «Литературной матрицы», кто-то присоединился к нам только теперь – нам хотелось бы расширить наше видение и современной литературы тоже. Приглашая автора в сборник, мы не назначали писателю «билет», но предлагали самому выбрать, о ком он хочет писать, ведь любовь и страсть не могут быть навязаны.
Наконец, перед тем как задраить люки и начать погружение, нужно напомнить вот что: «Советскую Атлантиду» ни в коем случае нельзя читать как сборник окончательных и нерушимых истин, потому что она таким сборником не является. С авторами этой книги можно и нужно не соглашаться, яростно спорить, их суждения хорошо бы разбить в пух и прах – мы, имейте в виду, не на экскурсии, а в опасном путешествии, и почтение к музейной пыли, а равно и авторитетам здесь не уместно.
Вон из класса
(Литературная матрица: Внеклассное чтение. – СПб.: Лимбус Пресс, 2014)
Идея «Литературной матрицы» родилась в 2010 году. «Внеклассное чтение» – третий выпуск и четвертый том проекта. За пять лет «Матрица» собрала девяносто две статьи шестидесяти семи авторов, на ее 2350 страницах рассказывается о девяносто пяти писателях прошлого, – это вам не жук на скатерть начихал. Подготовить и издать четыре таких сборника – дело не из легких, «я устал, я ухожу», этот выпуск – последний.
Уходя, составители должны признаться в том, что они до сих пор так и не знают, как нужно писать статьи для «Литературной матрицы». Не знает этого и автор идеи проекта.
Идея была – рассказывать о писателях прошлого так, будто они и в самом деле нечто большее, чем эпизоды – пусть самой славной – истории литературы; победы наших предков принадлежат только им, мы лишь храним о них благоговейную память. Отличие «Войны и мира» от Бородинского сражения в том, что в «Войне и мире» любой желающий может поучаствовать и сейчас, причем участие это – единственный способ не просто ознакомиться с содержанием романа, но проверить себя на те качества, которые в мирной жизни востребованы редко, но которые только и отличают нас от нашей покупательной способности. Составители «Матрицы» хотели говорить о классиках русской литературы как о личном опыте, как о своей беде и своей радости. Как такой разговор возможен – не знает никто, у каждого из авторов всех четырех томов проекта – свой ответ на этот вопрос.
Идея, кроме того, была – говорить о писателях прошлого с теми, кто, предположительно, их еще не читал, с теми, чье читательское восприятие еще не успело смириться со штампами вроде «Тургенев прекрасно описывал русскую природу» и «Гоголь вывел маленького человека», кого воротит от идеи, что чему-то такому особенному для чтения книг нужно научиться, потому что они, если верить Уайльду с Ибсеном, и так уже все знают назло нам – речь о школьниках или, может быть, вчерашних школьниках.
Идея то есть была безумная.
Потому что уж чего-чего, а того, как говорить с людьми, родившимися при Ельцине, о людях, родившихся при царе Горохе, тогда, когда и сам Ельцин уже, в общем, Горох, не знает вовсе никто – да и возможен ли такой разговор вообще. Само собой, не знают этого и составители «Матрицы» – так что, понятно, никакого совета от них авторы книг(и), к худу ли, к добру ли, получить не могли, и каждому пришлось бороться с течением Реки времен в одиночку (впрочем, писателям не привыкать, писательство вообще самое одинокое занятие на Земле).
Как раз стремление спасти, вытащить из упомянутой реки на ее быстрине авторов и героев, слова и вещи, себя и того парня (это последняя шарада) и движет нами. Мы верим в то, что это занятие – самое важное на свете. По одной простой причине: если уж это не важно, то не важно вообще ничто. Неудивительно, что нам особенно обидно за писателей, которые даже не попали в школьную программу, которых проходят во «внеклассном чтении», писателей, которых за нехваткой «часов» сослали в программу средней школы (как последнее «прости» перед полным исключением – как будто Ломоносов, Державин или Карамзин могут зачем-то пригодиться людям, которые еще пока не дочитали «Гарри Поттера»).
Таким писателям и посвящен последний том «Литературной матрицы». Их, разумеется, больше, чем те двадцать шесть, о которых говорится под обложкой нового выпуска. Несравнимо больше. И если что-то составителей и утешает в осознании собственного бессилия, то это мысль о том, что заявленная задача невыполнима в принципе – нужна была бы эскадра ковчегов, чтобы считать ее выполненной в сколько-нибудь удовлетворительном объеме, что уж говорить о нашей утлой лодчонке.
И еще одно: чтение в классе – процедура искусственная, если не вовсе немыслимая. Писатель пишет один на один со всем миром – так же читает читатель. Можно ли всем классом думать, всем классом влюбиться, всем классом умереть, вот это вот все? Если кто-то думал, что можно весь урок проковырять в носу, заучить то, что скажет Марьиванна, бойко ответить и получить оценку, пусть посмотрит вокруг себя: нет ни Марьиванны, ни дневника, ни класса, ни одноклассников – и отныне любое чтение может быть только внеклассным. Звонок давно прозвенел.
Литературная матрица: десять лет спустя
(Литературная матрица. XX век. – СПб.: Лимбус Пресс, 2021)
Первое издание «Матрицы» вышло десять лет назад и давно стало библиографической редкостью. То издание было двухтомником и сопровождалось одним общим предисловием – вы можете найти его выше; повторять здесь все сказанное там нет смысла. Зато уместно высказать несколько соображений в ностальгическом ключе.
Идея «Матрицы» пришла мне в голову десять лет назад (на самом деле даже больше, но округлим). Это только у Дюма, сколько бы лет ни прошло, мушкетеры встречаются все тем же составом: все живы и все так же дружны. В реальности так никогда не бывает.
Начнем с того, что нет в живых четырех авторов «Матрицы» – Дмитрия Горчева, Елены Шварц, Андрея Битова и Аркадия Драгомощенко. Ушел из жизни Виктор Топоров, придумавший для проекта название.
Никак не отделаться от ощущения, что нет уже и той страны, в которой создавалась эта книга. Затяжной экономический спад, волны протестов, ужесточение политического режима, возрастающая турбулентность общемирового кризиса позднего капитализма, наконец, события 2014 года – как бы ко всему этому ни относиться, страну вокруг нас не узнать.
Впрочем, взглянув в зеркало, каждый ли узнает себя самого?
Изменились и те, кто придумывал, писал, составлял и редактировал эту книгу. Нет сомнений, что, если бы «Литературная матрица» создавалась сегодня, она была бы во многом другой. Другим был бы, вероятно, состав приглашенных авторов – за прошедшие годы появилось много новых литературных звезд, а звезда некоторых, будем откровенны, закатилась. Другим был бы и список классиков – часть из них новые школьные стандарты перенесли в списки внеклассного чтения, часть – в программу средней школы, а ведь ориентировались мы, напомню, именно на школьную программу по литературе за 10–11 классы. Наконец, что самое важное, сами авторы наверняка сегодня написали бы о выбранных ими классиках иначе. Ведь неизменны только сами тексты – Пушкина, Толстого, Шолохова, любые, – а их прочтение, восприятие и интерпретация меняются с течением жизни. И тут дело не только в том, что меняется читающий, – меняется мир вокруг него, и меняющаяся реальность заставляет по-новому смотреть на вещи. То есть чтение – исторично.
Именно поэтому принято решение печатать «Литературную матрицу» в том же самом виде, в котором она впервые появилась десять лет назад. Потому что она в своем роде тоже, как и тексты классиков, – памятник эпохе. Эпохе, в которой не было еще ни Крыма, ни Трампа, ни Сирии, ни коронавируса, да много чего еще. И стало быть, читать ее теперь можно не только как рассказ о классической русской словесности и не только как широкую панораму словесности актуальной, но и как свидетельство о том, чем жила и какими проблемами мучилась русская литература конца первого десятилетия XXI века.
Вместе с тем мало какой памятник, увы, удается сохранить для потомков в первозданном виде. Летописные списки горят в пожарах, мраморные статуи раскалываются, дворцы и храмы разрушаются. Вот и наша «Матрица» – та же, да не совсем. Нет статьи Марии Степановой о Цветаевой: автор не дала разрешения на перепечатку (почему – лучше спросить у нее). Не удалось связаться с Александром Кабаковым; вместо него свой – крайне неожиданный, в аспекте употребления галлюциногенных грибов – взгляд на творчество Бунина предлагает под этой обложкой София Синицкая.
За исключением этих двух моментов «Литературная матрица» предстает перед вами в первозданном виде. Уверен, тот заряд беспокойства, свободного полета мысли и мучительных сомнений, который в ней есть, не только не растерялся со временем, но стал еще более взрывоопасным.
Карамзин,
или Путь туда и обратно
Начать нужно вот с чего: подвинуть Пушкина.
Это вообще цеховая забава – хороша тем, что не надоедает: сколько его ни двигай – он не двигается, хоть лопни. Стоит, как вросшая в берег моря скала: погреться, занырнуть, но не сдвинуть – будет стоять всегда, и если вдруг сдвинется, это будет сигналом к концу русского мира. Но отчего же не потолкать? Довлатовские тетки в «Заповеднике», пелевинские мардонги и Бродский, небрежно роняющий «Баратынский выше Пушкина», – шлепнем ладошкой и мы: Пушкин не изобретал русского литературного языка, его изобрел Карамзин.
Коровам все равно, откуда возник луг, на котором они пасутся, – мы, мирно пасущиеся на заливных лугах русской речи современные писатели (уже смешно), тоже, в общем, don’t care. И все же что-то в этом есть: не вот этот вот, гений с тросточкой, а в его тени другой – старик вида такого, будто он боевой генерал, да вот и звезда на груди – без обид, но в тени, как в тени четырехэтажного Лицея стоял его низенький домик, в который лицейская школота бегала пить чай – и фамилия-то какая, Карамзин. Николай Михайлович.
Из каких юношей вырастают имаго таких стариков? Ибо даже Карамзин был юношей – и более того: для русской литературы куда важнее сановного автора «Истории государства Российского», которой – в обложках таких, будто это манга а-ля рюс, – торгуют у метро все книги по 50 рублей, Карамзина-старика – Карамзин-юноша. Красавец, сердцеед. Первый русский европеец – настолько, что в Европе не верили: откуда-откуда?
Поехать в Европу попутешествовать любопытства ради – сама эта идея совершенно европейская. Это там юноше – после учебы и прежде чем осесть, остепениться, заняться делом, что бы это ни значило, – полагалось проехаться по свету, узнать, как где живут люди, напроситься в гости к знаменитостям, завести знакомства, мир посмотреть, себя показать. Русские юноши со времен Петра отправлялись на Запад только чтобы набраться – кто-то набирался знаний, кто-то кое-чего покрепче, – что, конечно, хорошо, и все же: Карамзин едет в прекраснейшее из путешествий, путешествие к самому себе, в терминах века – «путешествие сердца».
Карамзин отправляется искать Карамзина – но каждый, кто затеет такое предприятие всерьез, вернется с сокровищами для всех живых существ.
Вот тема: Карамзин как Петр Первый русской литературы. Если один прорубил окно в Европу (раздался грозный стук топора…), второй – через восемьдесят шесть лет после основания Петербурга и ровно за десять лет до рождения Пушкина (это задачка по математике) – подключил русских пользователей к широкополосной сети европейской культуры. Европейские технологии должны были быть поставлены на службу русскому оружию – русская словесность нуждалась в новейших литературных техниках.
Карамзин знал, куда и зачем едет. Это сейчас в двадцать три года полагается, помаявшись с подносами или промо, перейти с «психологии» на «историю искусств», – в свои двадцать три Карамзин успел послужить в Преображенском лейб-гвардии полку в Петербурге, поучиться в пансионе при Московском университете, пережить смерть матери и похоронить отца, вступить в масонскую ложу, в совершенстве выучить немецкий и французский, сносно – английский и итальянский, плюс, само собой, латынь и греческий, поработать в редакции журнала, издать несколько переводов, – к главному русскому литературному путешествию он задолго готовился и тщательно его планировал – он ехал создавать русскую словесность.
Вот: великая русская литература была создана не по капризной прихоти гения, походя, в танце выбрасывающего из рукавов то озеро-роман, то лебедя-поэму, – но изнурительным трудом и предельной самодисциплиной, по умыслу. Без малого тысячу лет русская литература создавалась на старославянском – традиция почтенная, добрая, Ломоносов с Державиным даже еще разогнали этот движок на максимум скоростей, которые он мог выдержать, – Карамзин догадался, что пора менять не стиль, не лексику, не жанр – язык. Так когда-то стал писать на итальянском Данте и на французском Рабле, – фокус здесь в том, что Карамзин рядом с этими гигантами полурослик, хоббит, – но именно он принес на родину сокровище, кольцо всевластья, которое русские писатели носили после него больше ста лет (и, может быть, носят до сих пор, только магия из мира ушла).
Сказка, однако, ложь: не бывает ни гномов, ни волшебников, никто не вытащит тебя за шкирку из теплой норы; в реальности в такое путешествие можно отправиться, только выбросив себя в сферу тотального, космического одиночества, только приложив усилие, которое в конечном счете окажется больше силы тяготения обстоятельств, окружения, исторической обстановки – всего того, что мы называем жизнью.
Можно только догадываться, чего стоило Карамзину, человеку в Москве, в общем, чужому (Симбирск его родной город – где это? наверняка где-то рядом с Новосибирском), небогатому, скромному и молчаливому, сойтись с кругом крупнейших интеллектуалов своего времени и чего, главное, стоило с этим кругом порвать – Новиков, Тургенев, Кутузов (не тот Тургенев и другой Кутузов, take care), Петров, Татищев, Херасков, – порвать, чтобы двигаться дальше, в холод, тьму и неизвестность, хотя устроился уже уютнее некуда: редактор журнала, не жук лапкой потрогал, осталось еще жениться поудобнее, да щей горшок да сам большой… Вместо этого Карамзин садится в дорожную карету и едет из Москвы прочь, на север.
Дело, в общем, не в масонстве, хотя, да, речь идет именно о братстве каменщиков, но это же в действительности что-то вроде ролевых игр, которые у всякой эпохи свои, – ну да, Карамзин снимает с себя плащ из занавески и отправляет на антресоли деревянный меч, – но главное – его тайная и твердая убежденность: пора менять парадигму, переходить, если угодно, от Великого делания к словам.
Нет, Новиков & Co не занимались, конечно, синтезом Философского камня. Но Великое делание они могли понимать и иначе – как совершенствование себя и мира. А коль скоро мир прозябает во зле только потому, что люди не знают, как им жить правильно и разумно, – им нужно просто-напросто объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Слова здесь могли иметь ценность только как слова наставления и поучения – и участники Дружеского ученого общества были в этом убеждении не одиноки, достаточно почитать хотя бы нравоучительные комедии Екатерины II (да, каждое утро, прежде чем приступить к делам, она надиктовывала секретарю несколько страниц новой пиесы – любопытно было бы взглянуть на преследования Общества с ее стороны как на момент литературной конкуренции).
Итак, русские армии бьют турков на Дунае и штурмуют Анапу, Ушаков наносит решающие последние удары превосходящим силам противника у берегов Болгарии – а за грохотом пушек и скрипом снастей неслышно заканчивается эпоха русского Просвещения: из путешествия по Европе возвращается ее могильщик – щеголеватый и развязный Карамзин. Молодой человек, к которому никто не в силах был отнестись всерьез.
Его не узнать: уезжал скромный, тихий и незаметный юноша, вернулся разодетый парижский модник, которого на обеде у Державина хозяйка вынуждена толкать под столом ногой, – слишком уж смело говорит, как бы до Императрицы не дошло, – но Карамзин как будто не замечает и продолжает эпатировать публику. Впрочем, эпатировать публику в XVIII веке было несколько проще, чем сейчас: достаточно было объявить, что ты собираешься издавать журнал и в нем печатать свои сочинения, – и добро бы хоть тайным советником был! мальчишка!
«Письма русского путешественника», которые он будет печатать в своем «Московском журнале», такие же, в общем, письма, как «Записки охотника» – записки: в действительности за два года путешествия Карамзин писем практически не писал. Книгу он напишет в Москве частями, по мере публикации, но это мало кто поначалу заметит, бросится в глаза другое – что автор «Писем» какой-то безалаберный балбес. Вместо того чтобы вдумчиво и последовательно описывать быт и уклад, рассуждать о нравственности и божественном устроении, призывать к добру и восхвалять разум – он бродит то тут, то там, ни на чем надолго не задерживаясь взглядом, восторгаясь видами и проливая слезы, порхает мыслью, болтает о том о сем и коллекционирует впечатления. Несерьезный человек.
За всем этим незамеченным останется главное: в «Московском журнале» на протяжении десяти выпусков 1792 года оказалась напечатана первая книга на современном русском языке.
(Для того чтобы убедиться в этом, достаточно открыть напечатанный в том же году новый роман Хераскова и найти там что-нибудь вроде «отверз небесну дверь денницы перст златой» – все ли слова знакомы? Роман Карамзина, если тверское письмо считать за предисловие, начинается так: «Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду я в Ригу».)
Нельзя просто так взять и написать шедевр – пока нельзя. Это потом, когда учредят культ юного гения (Чаттертон как честный человек покончил с собой в семнадцать лет, но до того успел из воздуха создать романтическую поэзию), когда стихи Пушкина будут звучать так, будто их и не писали, а этак пели, как чукча поет, когда Рембо будет принимать наркотики, пить и сидеть в тюрьме – где, спрашивается, брал время работать? – и так далее вплоть до Лимонова (расскажите ему честно, что вы делали вчера), – окажется, наоборот, что шедевр должен, как молния, спуститься с небес на землю и непроизвольно пролиться из разверстых уст поэта. Концепция привлекательная для влюбчивых дев и стареющих юношей, но – тут мы слышим скрип циклопических турбин, которые останови, и парк аттракционов останется без света – лукавая.
Это лукавство есть лукавство человека, который путешествовал по Европе в самом обыкновенном фраке, нигде не выделялся из толпы, и только перед самой высадкой в Кронштадте спешно переодевается заезжим франтом. Лукавство человека, который любит больше слушать, чем говорить, но по возвращении в Петербург болтает без умолку, вживаясь в роль вертопраха, от имени которого будет писать давно задуманную книгу. Наконец, лукавство того, кто прожил в Париже четыре месяца, присутствовал при главном событии не только столетия, но и всей новейшей истории человечества, Великой французской революции, самом ее начале (гром пушек Бастилии застал его во Франкфурте), практически не вылезал с заседаний Национального собрания, едва ли не конспектировал речи Мирабо, Робеспьера, Марата и других – но в «Письмах русского путешественника» написал, что был в Париже практически проездом, разок от скуки послушал политиков и вновь отправился на поиски экстатических видов и элегических могил.
Дело не в том, что Карамзина не интересовала политика – еще как! – и не в том, что боялся Екатерины (оно, конечно, Радищеву за его «Путешествие» только что милостиво заменили смертную казнь ссылкой – старушка была суровым критиком, но ведь мог бы, если что, остаться в компании вольнодумных русских хоть в Лондоне, хоть в том же Париже, он видел исполкомы, которых здесь нет), – нет, дело в том, что Карамзин был аскет, и аскеза его была покруче просвещения темных людей: ему нужно было создать шедевр.
Представление о том, что шедевр нельзя создать по умыслу, а только по вдохновению, есть не что иное как романтическая подмена понятий. В действительности, шедевр в точном смысле – это работа мастера, в отличие от работы подмастерья. Предъявив гильдии шедевр, подмастерье получал право на открытие собственной мастерской. Создание шедевра может быть только результатом долгого послушания, ученичества, изучения ремесла – смирения, наконец: не хвататься с порога за резец ваять своего Лаокоона, а посмотреть, как это делает мастер, и попытаться за ним повторить.
Карамзин, который, вернувшись домой, возьмет перо, чтобы записать первые в истории слова русской прозы, сделает это только потому, что он к этому долго готовился и вот теперь наконец готов.
Он несколько лет готовился к этому в Москве – обдумывал будущее путешествие, планировал, к кому из великих современников напросится на разговор – Кант, Виланд, Лафатер, Гердер и еще с десяток других, сплошь первые величины, – изучал все доступные их труды – так, как сейчас к интервью готовится умный и совестливый журналист (таких на самом деле больше нет, но как если бы). Изучал древнюю и новую историю, историю искусств, литературу – Европа, в которую он поехал, не была для него пятном на загадочной гномьей карте, землей эльфов и драконов, напротив, он знал там каждый камень: в «Письмах» он вздыхает и умиляется – могилам, замкам, соборам, – но если бы это было нужно, вместо каждого вздоха он мог бы прочитать лекцию (учитесь, детишки, делать качественные селфи).
Само по себе путешествие было не чем иным как подготовкой к книге – архив Карамзина сгорит в московском пожаре 1812 года, но нет сомнений в том, что из Европы он вернулся с целым багажом выписок и вырезок, записей и набросков, конспектов и заметок, книг, листков и газет – так энтомолог отправляется в экспедицию, чтобы, вернувшись с рюкзаком материала – без разбору набранных бабочек, жуков и скорпионов, – всю снежную русскую зиму под треск камина работать с ним: сортировать, определять, расправлять.
Именно этим, почти научным способом – сознательным кропотливым деланием, смирением и ученичеством, – и был вызван в пределы ойкумены русский гений, которому почему-то нравится притворяться ветерком, случайно залетевшим в кудрявую голову поэта. Представление о фундаментальности немецкого (aka нерусского) способа производства культурного контента и, по сравнению с ним, о поездке русской истории культуры на иван-дурацкой печке есть не что иное как кокетство, если вообще не саботаж – на самом деле никакого другого способа производить культуру, кроме фундаментального, не существует.
В произведениях своей фантазии, прозе и стихах, Карамзин предстает чувствительным, сентиментальным, рассеянным, мечтательным и даже жеманным – это мимими было принято, как сейчас принято делать вид, будто ты пацан с района: литературная условность, не более (впрочем, в случае с Карамзиным, он эту моду первым же и завел, точнее, завез), – но внутри своей мастерской Карамзин был похож скорее на неутомимого гнома, днюющего и ночующего у наковальни. В 1792 году вышло десять номеров «Московского журнала» – и абсолютное большинство материалов, под какими бы псевдонимами они ни были напечатаны, написаны были им самим.
Для того чтобы создать национальную литературу – пусть не из ничего, но все же задача была сродни индустриализации аграрного хозяйства, – мало написать одну-единственную, пусть самую хорошую, книгу. Нужно было создать профессии, жанры, разработать технологии, экономические схемы, более того – нужно было создать читателя. «Сотворение Карамзина» называется книга Лотмана – про то, как Карамзин сам себя создал, – и это чертовски верно; но попутно Карамзин, подобно грозному танцующему Шиве, создал саму инфраструктуру русской литературы.
Карамзин над гранками, Карамзин с корректурой, Карамзин, расплачивающийся с типографией, Карамзин, собирающий деньги за подписку, Карамзин – логист (каждый номер нужно еще доставить до подписчика) – это далеко не все технические детали-подробности, но и на каждую из этих позиций сейчас берут отдельного специалиста.
Обнаружив выплывшую из тысячелетнего диглоссийного тумана громаду живого русского языка, Карамзин не привалился к склону курить трубочку, но, деловито засучив рукава, вгрызся в скалу и многие годы прорубал шурфы, штольни и штреки, проводил освещение, отыскивал самородные жилы – он стал первым Королем-под-Горой. Пусть найденные им образцы были невелики и мутноваты – как «Бедная Лиза», прообраз любого русского романа, – но опытный геологоразведчик угадал бы (не веря еще своим глазам) в глубине этой извилистой жилы кристалл из кристаллов и славу королевства, толстовскую «Анну Каренину».
Историческая повесть, приключенческая новелла, театральная и литературная критика, политическая публицистика, школа русского перевода – Карамзин везде лишь снял верхний слой с укрывающей несметные богатства породы – но идущие за ним, рослее и талантливее его, уже знали, где копать.
Разведовательные работы, произведенные Карамзиным, настолько велики, что даже сейчас еще можно указать на направления, над которыми после него почти не работали, – я имею в виду «Остров Борнгольм», первую русскую готику; разве что Погорельский и Брюсов помахали здесь немного кирками, а значит, тут, где страх (триллер) и ужас (хоррор), еще есть раздолье русскому По, русскому Майринку, русскому Стивену Кингу наконец.
Всего этого было мало: Карамзин создал даже русского читателя – массового читателя художественной литературы, – он воспитал его, делая вид, будто он, этот образованный читатель, уже существует – именно так хороший родитель воспитывает ребенка. (Конечно, как ответственный демиург Карамзин не мог оставить читателя в одиночестве и создал ему в пару Еву-читательницу, опубликовав от женского имени несколько изящных отрывков, из которых становилось ясно, что женщина тоже может судить о литературе.)
Ясно, что когда Карамзин к тому же опубликовал сообщение о находке списка «Слова о полку Игореве», многие решили, что он же его и написал, – в конце концов, если этот человек создал все, так почему бы ему не создать и древнерусскую словесность тоже?
Карамзин основал русскую литературу так, как основывают тысячелетнее царство – вдумчиво, ухватисто, домовито, – но, запустив все двигатели громадной машины, он не захотел остаться при своем творении почивающим на лаврах владыкой и, оставив все права наследования арзамасцам (хорошо, было кому, и со спокойной совестью, оставить, один Жуковский чего стоил), отправился открывать, по слову Пушкина, как Колумб – Америку, русскую историю.
Карамзин совершил путешествие, в результате которого родилась современная русская литература, это был путь туда, в Европу, и обратно, к себе – обе части формулы тут важны одинаково: русская литература, безусловно, была основана по европейскому образцу, с использованием европейских технологий, и именно европейскую литературу она должна была догнать и перегнать, но вместе с тем она была поставлена на фундамент русского языка, ее героями стали живые русские люди, и самая ее мысль задышала по-русски. Именно такова была задумка Карамзина – человека не гениального, но честного и упорного до самоотверженности, – и именно так он и сделал.
С наступлением XIX века и воцарением Александра I Карамзину осталось жить двадцать пять лет – столько же, сколько Александру. Александр будет царствовать, Карамзин – писать историю. Карамзин станет придворным историографом (первым и последним в истории страны), будет жить рядом с императором, они будут чуть не каждый день встречаться, болтать, ссориться и мириться, Александр будет слушать советы Карамзина и ни одному не последует. В 1825 году Александр не то умрет от горячки, не то превратится в странствующего старца, через две недели после его смерти будет Сенатская площадь, которую современники назовут вооруженной критикой на «Историю государства Российского», а еще через полгода умрет от полученного в декабре воспаления легких Карамзин – но перед самой смертью он выхлопочет себе назначение послом империи в Венецию, и в тот момент, когда он, сидя в своем кабинете за работой, расстанется с жизнью, в Кронштадте уже будет ждать корабль, чтобы отвезти его на Запад.
Карамзин знал, что такое смерть: кроме родителей, он похоронил первую жену (за ее гробом шел двадцать пять километров пешком), двух дочерей и сына. И если смерть – форма одиночества, то переход от жизни к смерти для Карамзина должен был быть чем-то вроде продолжения путешествия на новом виде транспорта, разве что оттуда русский путешественник уже не напишет писем.
Он умер от простуды, которую подхватил будто бы на Сенатской площади, но как знать, не та ли это самая простуда, которую подхватывают, оказавшись в полном одиночестве на продуваемой всеми ветрами вершине Фудзи, – потому что нет сомнений в том, что он до нее добрался. Основанная им литература развивалась так быстро, что сам Карамзин еще при жизни устарел и стал пугалом для литературной молодежи. История, которую он писал, молодежи не нравилась тоже, не плюнуть в нее было дурным тоном – Пушкин, Грибоедов, Чаадаев, – молодежь желала слушать только про кровавый царский режим и необходимость немедленно его свергнуть. У Карамзина не осталось друзей, с которыми он мог бы поболтать, не было единомышленников, на мнение которых он мог бы опереться, а единственным его собеседником оказался император, про которого еще Наполеон сказал «лукавый византиец». Вместе с тем, самые гнусные силы политической реакции сделали из Карамзина свой тотем – и это ему, должно быть, было особенно смешно, ему, на которого еще в конце прошлого века регулярно писали доносы («гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется»). Одиночество в холоде и темноте – это одиночество мысли. Мысли, которая не бывает верной или не верной, – она только возникает, когда человек думает. Пушкину и Чаадаеву нужно будет сильно повзрослеть, чтобы наконец открыть для себя карамзинскую мысль. Грибоедову повзрослеть так и не придется.
Того, кто добрался до вершины Фудзи, не прибьешь мухобойкой-определением: «западник», «славянофил», «патриот», «либерал». Из Карамзина можно надергать цитат для программной статьи журнала «Фобрс», а можно – для передовицы газеты «Завтра»; что, собственно, думал Карамзин – who cares?
Политический вопрос эпохи – отношение к Великой французской революции. Она была благой вестью тогдашней либеральной партии и апокалипсисом тогдашних охранителей, но Карамзин не был ни тем, ни другим. Раньше кого-либо другого в России он понял, что Французская революция была в действительности борьбой двух революций, буржуазной и народной, что буржуазная революция вышла из этой кровавой бани победителем и в конце концов установила диктатуру. И не то чтобы странно было желать для России движения по пути исторического прогресса такой ценой, ценой кровавой бани, дело в другом, в том, что даже для такого развития событий в России не было никаких предпосылок, начиная с той главной, что вместо крепкой, организованной и обладающей самосознанием буржуазии всего и было-то в наличии что несколько десятков аристократических умников – а значит, вместо революции Россия получила бы очередной дворцовый переворот, при том что выгоды переворота не очевидны, а риск гражданской войны чрезвычайно высок. Карамзин был агностиком, республиканцем и считал самодержавие злом – но в то же время он был реалистом и всегда честно до конца додумывал мысль, и поэтому не мог не признать, скрепя сердце, что на русской политической повестке дня стоит выбор между злом текущего самодержавия и злом нового самодержавия после гражданской войны, и в этом выборе гуманист, если только гуманизм – это уважительное отношение к каждой отдельной человеческой жизни, не может не выбрать зло меньшее, а выбрав, не может не отстаивать свой выбор.
«Нашим Тацитом» Карамзин станет только после выхода IX тома – того, в котором про террор Ивана IV, – и это не столько смешно, сколько пугающе – пугающе похоже на День сурка русской истории: ведь и сейчас, чтобы с тобой поздоровались, нужно прежде всего осудить сталинизм.
И если Карамзин и впрямь открыл русскую историю так, как открыл Америку Колумб (земля! земля!), то это значит не только то, что от радости и торжественности подобного открытия захватывает дух, но и то, что человек, впервые ступивший на огромный, чужой и страшный континент, в одно мгновение ока седеет от ужаса и пустоты в груди.
С поздних портретов на нас глядит человек с заостренными чертами лица, нервным (что еще вам от меня нужно?) взглядом и двумя глубокими бороздами между бровей. Этот человек хочет, чтобы его оставили в покое и не донимали глупостями. Он был сочным мальчиком с яркими полными губами и румянцем на щеках, когда решил, что создаст для своей страны литературу, – и он стер руки в кровь, но сделал это, чтобы потом, утратив и сочность, и румянец, оставить созданное им румяным и сочным мальчикам, которые первым делом насмеялись над ним (о! они имели право, ведь они были талантливее). Он дал своей стране ее первую Историю, на этой работе высох, облысел, изнервничался – и в ответ услышал только, что вместо этого ему следовало бы написать оду против кровавого режима, тогда его, пожалуй, зауважали бы (как потом досадовал Пушкин на себя девятнадцатилетнего!). Он, когда его об этом попросили, подал императору записку с изложением своих политических взглядов, и этот текст лег под цензурный запрет на полторы сотни лет – толком его опубликуют только когда будет разваливаться Советский Союз, – но, даже не опубликованная, Записка даст повод либералам проклинать в Карамзине фанатика-реакционера, а патриотам – антинародного провокатора. От всего этого устанешь.
И можно легко представить себе, как вместо того чтобы отложить перо, склониться на поверхность рабочего стола и испустить дух, Карамзин, подобно сказочному полурослику, собирает легкую дорожную сумку, выходит один из своего шумного дома на углу Невского и Фонтанки и идет прозрачной белой ночью, что-то не то напевая, не то бубня под нос, до берега моря, где его ждет лодка, добирается до Кронштадта и садится там вместе с покидающими Средиземье эльфами на корабль, который увозит его на Запад мира, в Европу его души, в Италию его сердца. Маленькая, сухая, подтянутая фигура этого старика удаляется, рябит, он даже не машет нам на прощание, разве что слегка неодобрительно поглядывает из-под бровей – так уходит от нас в новое – хотя, в сущности, Путешествие всегда одно (и то же) – путешествие потомок татарского Черного Князя, великий русский мастер Николай Михайлович Карамзин.
Я люблю кровавый бой
Париж. 1914 год. Четырехлетний мальчик тащит маму за руку к витрине магазина игрушек: «Купи мне кораблик! – кричит он. – С моряком! С одним, нет, двумя, тремя, четырьмя… Кораблик, полный моряков!». По-французски, разумеется, кричит (и мама, кстати, безропотно все покупает). Мальчик лепит из песка фигуры, ходит смотреть на уток (“les gaga!”, – восторженно кричит он; и даже оказавшись в зоологическом саду – мимо слонов и жирафов – идет искать “les gaga”), каждый день мама дает ему мелкие монетки, и он идет на угол rue Roli покупать леденцы, причем с течением времени прилавок магазинчика становится для него все ниже и ниже. Как-то ночью ему показывают летящий над городом, освещенный прожекторами дирижабль – но едва ли мальчик понимает, что перед ним (над ним) – грозное предвестье войны; мальчик, который больше всего на свете любит уток и бананы. Днем он гуляет в парке Монсури, и в этот же парк приходят передохнуть от строевых занятий солдаты (скорее всего, ополченцы); в красных кепи и шароварах, они курят и играют с малышами.
«[В Париже я] впервые полюбил солдат», – напишет уже на седьмом десятке классик советской, да и мировой литературы Виктор Некрасов.
Утки и бананы. Бананы – то, что нет бананов, – самое большое расстройство для мальчика, когда он вернется в Киев. Возвращаться или не возвращаться – в Киев из Парижа в 1915 году – вопрос почище гамлетовского. Бабушка за возвращение, мама – против. Бабушка переживает за детей (Коле пятнадцать, Вите четыре – что с ними будет, когда немцы займут город?), мама уверена, что немцы в Париж не войдут, и к тому же совесть не позволяет ей бросить госпиталь, там – раненые, раненые и раненые. Между тем дирижабли подлетают все ближе, и с них сбрасывают на Париж бомбы.
Старинный дворянский род: документы прослеживают Мотовиловых (это девичья фамилия матери) до первой трети XVI века, дальше – туман: основателем рода был не то Тимофей Мотовило, племянник Андрея Кобылы, от которого ведут свой род Романовы, не то – литовский князь Монтвил-Монтвид, чьи предки в свою очередь воевали вместе с Дмитрием Донским еще в Куликовской битве. К началу XX века от былых сибирских угодий осталось немногое: у семьи шестикомнатная квартира в Киеве на Владимирской улице, «и мебель, и все вещи», среди которых прапрадедушкин диплом Виленского университета от 1825 года, акварели другого прапрадеда (a propos: кто-то из прапрадедов и Некрасову, и Анне Ахматовой – общий) и ломберный столик, за которым, «злые языки говорят, мои предки просаживали свои имения».
В Париж (сначала в Лозанну, а потом в Париж) мать в 1911 году, с двенадцатилетним Колей и грудным еще Витей, уехала учиться; медицинские факультеты во Франции в те годы вообще полны русскими женщинами. Впрочем, дело, может статься, не только в стремлении к знаниям: Париж, наряду с Цюрихом, одна из точек сборки революционной интеллигенции. Скупо и неохотно Некрасов намекает на дружбу своих теток с Троцким, Луначарским – и понятно: раз с ними, то и с другими; но говорить об этом подробно будет неловко – ни члену Коммунистической партии в Советском Союзе, ни ярому антисоветчику в эмиграции.
Да и другое важнее – что выжили: с одного края охваченной войной Европы на другой – через Лондон, Северное море (полное опасностей: мины, подводные лодки), Швецию и Финляндию – семейство возвращается в Россию, в Киев.
1915 год, мировая война в разгаре. Маленький Витя учится говорить по-русски и читать. Первое чтение Некрасова – романы Жюля Верна (дома – полное собрание сочинений) и журнал «Природа и люди», в котором мальчика больше всего увлекают последние страницы, те, на которых печатают хронику военных действий. Его, франкофила, куда больше волнует Верденская мясорубка, чем Деникин, Петлюра и Щорс. В 1917 году в далеком Красноярске от разрыва сердца умирает его отец, банковский служащий, и чуть позже в Миргороде расстрелян местным ЧК брат Коля, которого из-за прекрасного французского, крахмальных воротничков и французских книг приняли за шпиона (юноша, если верить воспоминаниям, был исключительно талантлив: писал прозу, и по-русски, и по-французски, прекрасно рисовал, увлекался театром). Некрасов, которому нет еще и десяти, остается единственным мужчиной в семье.
Его воспитывают бабушка (которая балует), мать (сдержанная в проявлениях своей любви) и тетка (строгая и суровая). Когда взрослому Виктору Платоновичу тетка будет пенять, мол, здоровый лоб и не работает, мать будет защищать его: «Что ты к Вике пристаешь? Твой отец не работал, твой дед не работал, почему Вика должен работать?»
Маленький Вика (так его называют в семье, но так же его будут называть все близкие друзья – до старости) мечтает быть капитаном корабля, машинистом поезда, тореадором, но больше всего – солдатом, французским солдатом – защищать милую Францию «от этих паршивых бошей».
То, что называют иронией судьбы, чаще всего при ближайшем рассмотрении оказывается ее неумолимой логикой: в стране рабочих и крестьян наследник древнего дворянского рода умудрился сделать самую аристократическую карьеру – защищал Родину и писал книги.
Вторая мировая война – ключевой момент всей истории XX века; разумеется, она стала центральным событием для миллионов людей, и для целых поколений советских людей, и для Виктора Некрасова – спасибо, капитан Очевидность! – важно вот что: стал бы Виктор Некрасов писателем (то есть: Писателем), если бы не война? Как знать. Во всяком случае, ничего равновеликого «Окопам Сталинграда» он никогда не написал. Несколько рассказов, тематически примыкающих к повести. И несколько томов в полуавтобиографическом ключе, названия говорят сами за себя: «Взгляд и нечто», «Записки зеваки». Как раз во «Взгляде и нечто» он вспоминает, как Борис Александров – критик, который «сосватал» в «Знамя» кочующую из редакции в редакцию повесть, – сказал ему: «Вам бы для того, чтобы вторую правдивую книгу написать, надо было бы попасть в лагерь».
Вот – еще важнее: «В окопах Сталинграда» ни в коем случае не «человеческий документ», не спонтанное письмо человека, который вдруг, пережив исключительный опыт, записывает «все как было». «Окопам», написанным тридцати-с-лишним человеком, предшествовали годы писательских неудач. Рассказы, повести, пьесы, романы – фантастические, детективные, исторические, психологические, – все это читалось в кругу друзей, исправно отправлялось в редакции и исправно отклонялось, – прежде чем написать тоненькую книжку, которую вы держите в руках, книжку, которая навечно вписала его имя в историю мировой литературы, Некрасов испортил целый грузовик бумаги.
И цистерну керосина. «Окопы Сталинграда» писались в 1945 году в квартире у друзей – дом на Владимирской, рядом с Андреевской церковью (архитектор – Растрелли) был уже уничтожен. И снова тетка: всем знакомым она говорит – каково: у нас на месяц 500 рублей, из них 400 Вика извел на керосин, куда это годится?
Тоненькой книжка вышла по необходимости; была бы толще, если бы не Всеволод Вишневский – в то время редактор «Знамени», – который принял недописанную повесть к публикации, попросив только быстро дописать хоть какой финал. В 1946 году в двух номерах появляется первая публикация Некрасова, причем окончание повести соседствует с историческим докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Это был нервный для литературы год; трудно в это поверить сейчас, но тогда публикация «Сталинграда» (журнальное название повести) была серьезным риском. От публикации отказались несколько журналов, из списка на Сталинскую премию Некрасова вычеркнул всесильный Фадеев: да, при большом желании кто угодно кому угодно мог бы объяснить, что повесть – крамольная. Взгляд не дальше собственного носа, Сталин – не для отвода ли глаз? – упоминается лишь однажды, роль партии не освещена вовсе, – всего этого было бы вполне достаточно, если бы автора или опубликовавший его журнал решили мочить. Происходит, однако, прямо противоположное. Правда ли, что Сталин лично в последнюю ночь назначил Некрасова лауреатом премии своего имени и в авральном порядке пришлось переверстывать все газеты, или это не более чем легенда – бог весть; важно то, что утром 6 июня 1947 года Некрасов просыпается не просто профессиональным писателем, но – суперзвездой: повесть автоматически включают в план «все издательства Советского Союза, вплоть до областных и национальных». Суммарный тираж – несколько миллионов экземпляров. В последующие годы «Окопы» переведут на четыре десятка языков. Суперзвезде, как нетрудно посчитать, тридцать шесть лет.
Больше половины жизни: что он делал все это время?
Он был монархистом в начале двадцатых. Уходя в школу, всегда брал с собой карандаш, чтобы править надписи на афишах – пририсовывать «еры» и «яти»; дореволюционная орфография была для него символом веры в царя и Отечество. Был религиозен: каждый вечер истово молился. Тетка и брат возмущались, мать говорила – пройдет (и оказалась права). Не успевал по математике. Терпеть не мог Тургенева. Рисовал, фотографировал, писал трагедии и собирал марки. (Марки останутся навсегда; даже в Сталинграде в оставленных немцами бункерах Некрасов будет прежде всего выискивать драгоценные альбомы. Страсть к фотографии – тоже до старости.)
Искал себя. В 1929 году поступал в художественное училище, но провалился. Отправился в Москву за рекомендательным письмом к Луначарскому (Луначарский жил когда-то в Париже в том же доме, что и маленький Вика, – мать, уходя в госпиталь, оставляла ребенка будущему наркому, и тот выгуливал его вместе со своими собственными детьми). С письмом наркома в кармане («недюжинные архитектурные способности») поступил в Строительный институт. Работал на стройке вокзала в Киеве. Занимался в театральной студии. В литературной студии – тоже.
Кажется, учеба «на архитектора» была для него способом легитимации своих творческих поисков. Не то молодой писатель (этот вирус у него в крови; та самая суровая тетка, еще десятилетней, записала у себя в дневнике: «Одна мечта – стать писательницей!»), не то полупрофессиональный артист. В 1938 году он, оказавшись в Москве, показывался Станиславскому с отрывком из «Ревизора», и тот звал его осенью снова показываться – бог его знает, как сложилась бы судьба, не уйди мэтр из жизни еще до наступления осени.
Два года он путешествовал по стране в составе Железнодорожного передвижного театра: Владивосток, Вятка, Киров, Ростов-на-Дону. Роли – Хлестаков, Вронский и другие, помельче. В Ростове-на-Дону застала война.
Художник? Архитектор? Артист? Писатель? Похоже, всего понемногу. Рисовал неплохо, хотя и не блестяще. На защите диплома (проект вокзала) оппонировал «старейший и лучший киевский архитектор»; защита прошла великолепно, не аплодировали только потому, что запретили аплодировать, – не то давало знать о себе происхождение, не то припомнили, как на втором курсе Некрасов упоенно защищал крамольный конструктивизм, – и «четверку» поставили вопреки мнению оппонента, было бы «отлично». Артистом, судя по всему, тоже был не бездарным. И дело не только в сдержанной похвале Станиславского; есть куда более поздние воспоминания С. Лунгина о том, как в театре (театре им. Станиславского, вот ведь анекдот) Некрасов читал собственную пьесу: «старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места <…> выглядел <…> довольно обаятельно». Писал в основном мальчишескую ерунду («что-то “заграничное”, с мягко шуршащими шинами “роллс-ройсами”, детективы с поисками кладов»), и лишь в 1940 году впервые – что-то «про жизнь», рассказ о финской кампании, о которой только и мог знать, что из газет.
В тридцать лет, как раз когда началась война, Виктор Некрасов мог бы повторить вслед за Цезарем: «мне уже тридцать, а я до сих пор не совершил ничего достопамятного!». Архитектор, артист, писатель – и вместе с тем ни то, ни другое, ни третье.
При этом, если верить тетке (ей, впрочем, с осторожностью нужно верить: в письмах и воспоминаниях она производит впечатление человека, склонного преувеличивать сваливающиеся ему на голову несчастья), юноша вел сибаритский образ жизни, перекладывая заботы и о хозяйстве, и о средствах к существованию на мать с бабушкой. Вот только один штрих: «Сидит Вика, развалившись со своими приятелями на прекрасных бабушкиных креслах, разглагольствует о театре, а мама бегает из далекой кухни и приносит им отбивные котлеты. А они даже не пошевелятся, чтоб тарелки на кухню отнести».
И вовсе не противоречит этому образу то, что в 1941 году Некрасов, обманув комиссию (была бронь, но он скрыл это), записывается добровольцем в действующую армию. Отец был разночинцем, но отца он почти не знал, воспитывали его Мотовиловы, и не дело аристократа работать, дело аристократа – разглагольствовать о театре, пока нет войны, и подставить сердце под пули, как только она начнется.
И кстати. Почему не лагерь? Если уж не сам молодой Некрасов, то его мать и тетка имели все шансы получить билет в Сибирь: происхождение их было известно (врач, зашедший к приболевшей матери, прежде всего интересуется деревенькой под Киевом: «Мотовиловка была ваша?»), что третья сестра живет в Швейцарии, не скрывали, более того, вели активную переписку. В партию не вступали, от дальних командировок отказывались, даже когда альтернативой было увольнение. Конечно, в Киеве все было не настолько страшно по сравнению с Москвой и Ленинградом. И все-таки едва ли только это. Версия самого Некрасова, высказанная уже в эмиграции, – что самоотверженного врача Зинаиду Николаевну полюбили подселенные к ним в квартиру чекисты (уплотнили: из шести комнат на троих оставили две). Софья Николаевна, однако, писала о чекистах без умиления: ходят босые, воняют махоркой, подворовывают дрова… Могли ли отношения таких соседей по коммуналке – одни говорят по-французски, другие «шлындрают» по коридорам «с видом полотеров» – быть такими уж безоблачными? Или архитектор-театрал, сидя в комнате, просто не замечал, что происходит в коридоре и на кухне? Та же Софья Николаевна в «швейцарских» письмах намекала на «заслуги перед революцией» – хотя мало ли и тех, у кого такие заслуги были, уехали-таки по этапу? Словом, здесь есть над чем поработать биографу; пока в качестве рабочей версии можно принять то, что семье просто повезло.
Квартирный вопрос решится сам собой после войны. Лауреату Сталинской премии, заместителю председателя Союза украинских писателей, члену ВКП(б) выделят двухкомнатную квартиру на Крещатике. Предлагали четырехкомнатную – отказался: если верить тетке, потому, будто бы, что боялся бездомных друзей, которые у него поселятся. Поселились, однако, все равно – квартира на Крещатике стала настоящим открытым домом, в котором гости жили годами, одеваясь в одежду хозяина и обедая за его столом. Некрасов – и тут тетке нет оснований не верить, слишком уж много свидетельств – был до абсурдного равнодушен к быту, хозяйству и деньгам. Чего стоит владивостокский эпизод 1938 года: Некрасов зарабатывает там фантастические деньги, тетка просит его прислать побольше, но он все тратит на разведенную актрису, а в Киев отправляет коробку шампанского, причем бутылки бьются по дороге. Ясно, что свалившееся после «Окопов» богатство такое сказочное небрежение вещной стороной жизни могло только усугубить.
Мот, сибарит, гедонист, балетоман. Работать ему пришлось только в эмиграции – на радио «Свобода» и в журнале «Континент», да даже и это были скорее синекуры.
Одна из центральных тем всей эмигрантской автобиографической прозы Некрасова – оправдание за членство в партии. Вступил в 1944 году после Сталинграда на волне патриотизма: партия и народный дух как-то слились в сознании. Многие и многие страницы посвящены партийным трениям: как не «мочил» кого надо на собраниях, как отказывался пугаться, когда пугали, как три раза исключали и все-таки исключили. Едва ли Некрасов тут кривит душой: убежденным коммунистом, да, он очевидно никогда не был, но не был и конъюнктурщиком, не то вступил бы куда раньше. И тому, что «партийный» порыв был в действительности инобытием проникнутости народным духом, лучшее подтверждение – «В окопах Сталинграда», в идеологической своей грани сплошь «толстовский» текст. Невооруженным глазом видно, что некрасовские герои – потомки Каратаевых и Тушиных.
Толстого – полюбил как раз перед войной. И тогда же – Хемингуэя. До культа «старика Хэма» в среде советской интеллигенции еще двадцать лет, но Некрасов читал изданные мизерными тиражами рассказы, «Фиесту», «Прощай, оружие» и «Иметь и не иметь» еще в тридцатых. И тщательно перечитал в 1945–1946 годах. (Некрасов жил, читал и писал в квартире у друзей; «маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я садился в свое кресло, строго говорила: “А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя…”») – трудно не заметить этого по «Окопам».
Говоря о бешеном читательском успехе, нельзя, конечно, не иметь в виду того, что Ремарк и Хемингуэй в первое послевоенное десятилетие советскому читателю были почти не известны, но ошибется тот, кто назовет Некрасова эпигоном великого американца: дело как раз в том, что повесть «В окопах Сталинграда» представляет собой с точки зрения истории влияний невиданную смесь Хемингуэя и Толстого. Рубленая фраза, элементарный синтаксис и такой же словарь (повесть можно включить в любую хрестоматию для изучения русского как иностранного) и полное отсутствие хемингуэевского романтического, один на один с бурей, героя; герой, как у Толстого, – народ, народный дух.
И конечно, успех – дело не только самого по себе писательского мастерства, хотя, да, «Окопы» – прежде всего литература: сделанная, мастерская вещь, masterpiece. Повесть читали и читают – даже сейчас трудно найти хоть сколько-нибудь читающего человека, который бы ее не читал (и не перечитывал; подтверждением тому – это вот переиздание), – а фронтовики прочли ее как книгу о себе (Некрасов получал множество писем: и у нас, мол, в полку был такой Валега/Ширяев/Карнаухов) потому, что «Окопы Сталиниграда» впервые предъявили то, что выхолощенным языком школьного литературоведения будет потом называться «окопной правдой».
Вопрос об этой правде – особый. Она жестока и неприглядна в сравнении с официозными генеральскими воспоминаниями, романами вроде симоновских «Живых и мертвых» или «Блокадой» Чаковского. «Окопы Сталинграда» – это грязь, неустроенность, намеки на воровство, мелкий ежедневный военный быт, интонация своего в доску парня, никаких симоновских «утром такого-то числа уцелевший после трехдневных боев личный состав бригады сняли с фронта и перенаправили туда-то». Коротко говоря, эту повесть невозможно представить себе прочитанной голосом Левитана.
И все-таки. Перед нами искусство, и в этом смысле Шкловский не устарел: «окопная правда» – это прежде всего литературный прием. Достаточно прочитать «Воспоминания о войне» Николая Никулина – текст, который писался в шестидесятые «в стол» и оказался опубликован только в начале двухтысячных, – чтобы убедиться: война, описанная Некрасовым, была в сравнении с реальностью едва ли не веселой, хотя и сопряженной с некоторыми трудностями прогулкой. Герои Некрасова во время атаки падают лицом в холодную снежную слякоть – неприятно, что и говорить. Никулин вспоминает, как во время одной из атак упал на труп только что убитой женщины-снайпера: «С шипением выдавливается сквозь сжатые зубы воздух, а из ноздрей вздуваются кровавые пузыри…». Некрасов пару раз упоминает каски на головах у солдат. А вот Никулин: «В каску обычно гадим, затем выбрасываем ее за бруствер траншеи, а взрывная волна швыряет все обратно, нам на головы…». Один из сюжетов Некрасова – безответственный приказ капитана Абросимова: хотел как лучше, а получилось, что только угробил людей, его потом судят и – в штрафбат. Никулин свидетельствует, что командиры, бережно относящиеся к личному составу, вообще не задерживались в армии. Читателю этой книги важно помнить, что на самом деле война – несоизмеримо более грязное и подлое дело, нежели она тут изображена.
Значит ли это, что Некрасов сознательно приукрашивал войну, зная, что в противном случае повесть не напечатают? Что партии и правительству не нужна была настоящая правда о войне, и поэтому был заказ на лакировку? Все не так просто. Тексты, подобные никулинским, в стране-победительнице напечатаны быть не могли – это ясно. Однако момент приукрашивания войны – не политический, а психологический. Любой, кто успел порасспрашивать ветеранов о войне, знает, что самое жуткое и самое неприглядное ты от ветерана никогда не услышишь. Не потому, что вспоминающий врет, а потому, что так устроен механизм памяти: настоящий ад, ад, от которого дыбом встают волосы на голове, вытесняется, замещается другим – ужасным, конечно, но таким, с которым можно еще жить и не сходить с ума.
Поэтому – да, приукрашивание, но приукрашивание искреннее, Некрасов рисует войну именно такой, какой ее помнили (напрашивается: хотели помнить – но, опять же, речь не о сознательном решении, что помнить, а что нет, речь о том, что и впрямь помнили именно такой) все фронтовики. И именно отсюда – эффект узнавания: это про нас, это наша «окопная правда».
Некрасов начал войну в 1941 году, участвовал в Харьковском наступлении и в Сталинградской битве, закончил – в Польше в 1945-м, три раза был ранен, награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Он был настоящим фронтовиком – не газетным журналистом, которых в армии ненавидели. Что выжил – повезло.
Через много лет, уже в Париже, любил вспоминать, как одному литературно-партийному начальнику в его кабинете в Москве кричал, стуча кулаком по столу: «Я немцев в Сталинграде не боялся, так вас уж подавно!» Он был не робкого десятка – душа компании, человек, которого до старости называли Вика. Киевская городская легенда гласит, что (это уже в застойные годы, но все-таки) он выпивши мог выйти на Крещатик и во весь голос ругать советскую власть – не трогали: луареат.
С войны Некрасов вернулся изменившимся. Стал груб, обмужичился, начал ругаться (ругаться? – говорить!) матом. На войне он научился пить водку, и, насколько можно судить, это не штрих к биографии, это – лейтмотив второй половины жизни. В этом смысле Некрасов разделил судьбу всей советской интеллигенции (да и не только интеллигенции) второй половины века: поллитре, распитой напополам со случайным собутыльником во дворике под луковицу или бутербродик с кусочком помидора, посвящены, быть может, самые трогательные страницы парижских книг.
Он попробовал еще поступить в аспирантуру – не взяли. Поработал неполных два года в газете «Советское искусство» – бросил. Первые послевоенные годы – пик официальной карьеры Некрасова: он возглавляет комитеты, председательствует на заседаниях, без конца мотается то в Москву на съезды, то в Ялту отдыхать. И ничего не пишет – почти десять лет. На каком-то литературном вечере читатель спрашивает: можно ли считать писателем того, кто написал только одну книгу? За Некрасова отвечает коллега: «Зависит от того, что он написал. Грибоедов, например, написал “Горе от ума”. Он – писатель!»
Прав ли был Александров насчет лагеря и второй правдивой книги, нет ли – бог весть. Несомненно другое: Некрасов на всю жизнь сохранил в своем сердце мальчишку, мечтающего быть солдатом, тореадором, машинистом, капитаном корабля. И этому мальчишке было скучно. На заседаниях и в президиумах, в писательских поездках и в редакциях – до тех пор, по крайней мере, пока не доставали бутылку, – скучно, бесконечно скучно.
И какой мальчишка не мечтает о путешествиях? Некрасов рвется – в Китай (не пустили), во Францию (всего на пару дней), в Италию (не в составе даже делегации, так, при ней туристом), в США, и снова в Италию. Многомесячные эпопеи: пустят, не пустят. В последний день парижской поездки Некрасов, бродя бесцельно по городу, на пределе серьезности думает, не зайти ли в полицию: так и так, хочу остаться, не хочу обратно в СССР.
Он станет парижанином и умрет в том же городе, где впервые заговорил. Но прежде чем он решится эмигрировать, его два раза попытаются исключить из партии, на третий все-таки исключат, умрет мать, за ним установят слежку и в квартире проведут унизительный обыск. В 1963 году на Некрасова два раза обрушится с критикой Хрущев – за путевые очерки о Франции и Штатах «По обе стороны океана». Некрасов будет оправдываться: да, мол, не уделил достаточно внимания классовому вопросу. В 1969-м – партийный гнев вызовет его подпись под коллективным письмом в защиту Вячеслава Черновола. Некрасов откажется снять подпись, но писательское собрание проголосует все-таки за ерундовый «выговор без занесения». Наконец, в 1971-м – исключат уже без формального повода, «за то, – как сказано в протоколе, – что позволяет себе иметь собственное мнение». В 1974-м он подаст документы на выезд в Швейцарию – повидать дядю, – и сядет на самолет до Лозанны.
В секретном письме секретаря ЦК Компартии Украины в Москву будет написано, что «по имеющимся данным, Некрасов намерен использовать поездку за границу с целью невозвращения на Родину». И еще: «Учитывая, что Некрасов является морально разложившейся личностью и по своим возможностям вряд ли сможет за границей играть заметную роль в антисоветской эмиграции, <…> представляется целесообразным не препятствовать ему и его жене в поездке в Швейцарию».
Морально разложившийся, квартиру превратил в место сионистских сборищ, как писатель работает непродуктивно, ведет себя вызывающе, полностью встал на враждебные нашему строю позиции, страдает алкоголизмом. Ну, положим, «морально разложившийся» – это оценочное суждение. Но со всем остальным не поспоришь.
Про «испитое лицо» пишет тетка. А сам Некрасов рассказывает такой эпизод – имеющий, кстати, прямое отношение к «Окопам». Ординарец Валега и впрямь у Некрасова был – не в Сталинграде, правда, позже, – они вместе прошли от Западной Украины до Польши, пока в Люблине Некрасова не ранила шальная пуля. В 1966 году Валега своего командира нашел и приехал в Киев повидаться. Некрасов на радостях перепутал поезд, приехал на вокзал раньше и за час в буфете успел напиться до того, что жена Валеги, лишь завидев писателя, схватила мужа и увезла его в Белую Церковь.
Все та же тетка (до 1974 года, правда, не дожившая) согласилась бы с секретарем партии и по поводу сионистских сборищ: «Друзья-то у него все евреи, акцент – еврейский»; эта тема в ее письмах в Лозанну – одна из центральных. Великая заслуга Некрасова – защита памяти о Бабьем Яре, который власти собирались засыпать и сделать на его месте увеселительный парк. В 1959-м Некрасов напечатал в «Литературной газете» статью с призывом установить памятник жертвам трагедии. В 1966-м выступил на стихийном митинге и был обвинен в его организации. И все-таки во многом благодаря именно Некрасову память о Бабьем Яре удалось отстоять.
О «враждебных нашему строю позициях» Некрасов вволю расскажет уже в Париже – десятками страниц будет писать о преимуществах капитализма перед социализмом. Ничего не понимая при этом в экономике, ну так это так будет с абсолютным большинством советских диссидентов – и внутри СССР, и снаружи.
Виктор Платонович Некрасов (1911, Киев – 1987, Париж; умер от рака легких как старый курильщик) прожил, в сущности, не свою жизнь – жизнь, которой иной позавидовал бы, – но мальчик, зачитывавшийся Жюлем Верном, мальчик, который и на старости лет больше всего любил корриду и магазины игрушек, этот мальчик – правильная советская карьера была не для него. Ему нужны были война, опасности, путешествия, риск. В другие времена и в других обстоятельствах он был бы пиратом, конкистадором, ландскнехтом. На полную катушку, так, как мечталось мальчику, он жил только однажды – с 1941 по 1945 год. И, набрав полные легкие этого головокружительного воздуха, на одном дыхании написал лучшую повесть о Второй мировой войне. «В окопах Сталинграда».
Дилемма заключенного
Если вообще есть история как логичная последовательность событий, существующих по способу следования одно из другого, то применительно к себе я могу рассказать такую историю, начиная с седьмого класса. Все что было до того – тающие на языке снежинки: я помню их вкус, но снежок из них не слепишь.
Вот мы выходим с мамой из парадной на улице Скороходова (позже я узнаю, что в этом же доме недолгое время жил Блок); моя рука высоко задрана: ее держит мамина; только что прошел дождь, и мостовая кишит выползшими из газонов червями. То есть буквально – некуда ступить; и не надо мне говорить, что так не бывает, в моей памяти – именно так.
Помню полукруглую лестницу из нежнейшего мрамора в занявшей старинный особняк детской поликлинике, в которую мы ездили на трамвае с бабушкой, – и мгновенно узнал ее, как только в первый раз привел в эту же поликлинику своего сына; он все не мог понять, почему я чуть не плачу, глядя на нее: какая же она красивая, ты только посмотри, какая она красивая.
Но бог с ними с детскими секретиками; их вообще посторонним не показывают: случись человек недобрый, надави на стеклышко носком ботинка – и тогда прости-прощай волшебное нутряное свечение; нет, нет, не дам.
Вот вам вещи попроще: август девяносто первого. Бабушка выкручивает ручку приемника; мы на даче, в Сиверской, танки движутся по дороге совсем недалеко от нас; я сочувствую бабушке, а бабушка недовольна Ельциным (что ж тебе все неймется-то); впрочем, мое сочувствие скорее формальное. По-настоящему слезами я заливался в прошлом августе, когда разбился Цой, а победа демократии для меня – абстракция не конкретнее учебниковых пунктов А и Б, между которыми вечно движется безликий поезд (в огне, ага).
Зато конец проклятого совка изрядно вдохновляет моих родителей – по крайней мере точно маму; папа, кажется, на эту тему высказывается мало, тем более что ему пришлось уйти из НИИ, в котором он работал, и распрощаться с мечтами об аспирантуре. Папа – инженер; мама – журналист; мы были обыкновенной преуспевающей советской семьей, с дедушкой-полковником и дедушкой – ведущим инженером в «почтовом ящике», не было никаких проблем с едой, у меня была тьма ярких замечательных игрушек, книжек, и нам только что дали квартиру, пусть на окраине города, зато двухкомнатную. Но в свободном мире все делают бизнес, и мама мечтает о бизнесе – так что теперь у нас семейный бизнес, и вместо того чтобы учиться, играть и заводить друзей – я торгую. Сначала я торгую книгами с раскладного столика во дворах Капеллы (и вожу их с рынка в ДК Крупской), а потом и газетами в переходах метро.
К счастью, мои родители – воспитанные советские люди, а не злобные ящеры, которые готовы убивать и, по Гегелю, в любой момент быть убитыми, поэтому сделать бизнес в девяностые у них нет, разумеется, ни единого шанса. Как, впрочем, и устроиться на работу, на которой платили бы деньги. Поэтому у нас на столе чаще всего пустые расплывшиеся макароны (сварить их нормально невозможно: они наполовину из крахмала); покупка новых ботинок – это событие года, которое обсуждается всеми родственниками несколько месяцев до и после; на день рождения я мечтаю о шоколадном яйце: любая другая мечта была бы бессмысленно дерзкой; маме и папе тотально не до меня, и семья, как это часто бывает с семьями, оказавшимися в беспросветной нищете, распадается.
В школе я – очкарик; дети, как им и полагается, воспроизводят в миниатюре мир взрослых, а в этом мире очкарики – самые презираемые люди на свете. Мне, стало быть, лет примерно тринадцать, и, насколько я помню, нет ни дня, чтобы я не думал о самоубийстве, во всяком случае куда чаще, чем об этом думают в среднестатистическом пубертате. Для меня очевидно, что само мое появление в этом мире не более чем ошибка: я, такой какой я есть, должен был появиться не в этом – лишенном света, благородства, добра и справедливости – мире, а в каком-то другом. В Средиземье.
Книга про Кольцо всевластья и связанные с ним проблемы стала для меня чудесным порталом – такой рисовал на стене своей одиночной камеры герой другой саги, про волшебный янтарный мир, чтобы сбежать из тюрьмы, – я начинал читать ее снова, едва закончив, и так шестнадцать раз подряд. Ничего хорошего в этом, разумеется, не было. Но, с другой стороны, не исключено, что темно-коричневый четырехтомник в переводе Каменкович и Каррика в буквальном смысле спас мне жизнь.
Книги, прежде всего фантастические книги, стали для меня способом побега от действительности – именно с этой формулировкой детей ругали и по поводу детей сокрушались взрослые. Но хотел бы я посмотреть на детей, которые не хотели бы сбежать из той действительности, которую эти взрослые им устроили. Дело, конечно, было не в том, чтобы сбежать на время чтения: пока читаешь, тебя нет, а закрыл книжку, и ты снова здесь – нет, какой же это побег. Сбежать нужно было радикально, навсегда. Поэтому я стал как бы читать даже с закрытой книгой. Так что литература, если уж выпал случай говорить о ней, прямо показывая на нее пальцем, с самого начала была для меня не развлечением и не просвещением, а побегом.
Дилеммой заключенного назвается в теории игр простейшая игра, в которой двое заключенных могут отсидеть по полгода, но сидят в результате по шесть лет. Дилемма состоит в том, что ты можешь молчать, но тогда подельнику будет выгоднее сдать тебя, а можешь сдать подельника, но тогда лишишься и призрачного шанса на скорое освобождение.
У меня была своя дилемма: то ли учиться жить жизнью тюрьмы, выучивая ее законы и встраиваясь в ее структуры, то ли совершить иллюзорный побег внутрь самого себя. Я выбрал последнее, и не я один – ведь по условиям задачи переговоры между заключенными запрещены.
Для многих билетом на самолет стали наркотики (с серебристым крылом, ну да). Оказываясь на кладбищах, я часто обращаю внимание на эти могилы (1980–1994, 1979–1995, 1981–1996, 1980–1995…) и думаю о том, что в такой же мог бы лежать и я – только у меня не было друзей, и мне негде было взять.
Книги и литературное, кхм, творчество были путем маргинальным, прежде всего потому что крайне ненадежным. Нет, то есть мама отвела меня в ЛИТО, в которое когда-то ходила сама, и там несколько мальчиков и девочек раз в неделю недолго чувствовали себя почти в безопасности – но все остальное время мир отчаянно хватал тебя за грудки, тряс из стороны в сторону и орал на тебя ты че сука умный нашелся ща получишь ты уроки сделал вот наказание а не ребенок почему ты у доски не можешь стоять как человек. Нужно было что-то сделать, куда-то забиться, прибиться куда-то, где будет не так страшно. И вот в седьмом классе я принял первое в жизни решение, решение, с которого моя личная история началась, – я решил, что перейду в другую школу.
Так получилось, что этой школой оказалась физико-математическая (та самая на Васильевском острове, для тех кто понимает). Надо мной смеялись: с тройкой по математике, а туда же. Задача была из разряда невозможных: за полгода нужно было с нуля научиться решать конкурсные задачи; конкурс был примерно двадцать человек на место. И тем не менее весной я сдал экзамен и стал учеником одной из лучших школ страны; и если вам показалось, что это похоже на какую-то историю из книжки, то так оно и есть (ср. Мюнгхаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота).
Оказалось – уже за эти полгода я понял, – что математика помогает сбежать не хуже книжек. Небо математических абстракций не описано Данте, но в нерелигиозной картине мира оно, безусловно, идет под номером десять: весь остальной мир – лишь эманация Числа, что движет солнце и светила. Улетая в это небо, напрочь исчезаешь из реальности; мало того, от тебя еще и отстают взрослые: не трогай его, не видишь, занимается.
На остатках рухнувшей страны шла гражданская война, по телевизору каждый день показывали пьяного президента и сразу вслед за ним – разными энергиями заряжающего воду экстрасенса, в Москве из танков расстреляли Парламент, культурная элита нации призывала к дальнейшей деконструкции родины, в Чечне сравняли с землей Грозный, сокрушительный дефолт вверг народ в нищету, и так несколько раз подряд в течение нескольких лет, по серому, полуразвалившемуся, грязному и вонючему Петербургу уныло брели толпы уставших, плохо одетых и плохо питающихся людей с пустыми от тоски глазами, а еще катались осоловевшие от безнаказанности банды человекоподобных рептилий – для внутренней жизни моей души все это происходило как бы одновременно, и мне еще предстоит совершить усилие, чтобы пробиться к истории, – смотреть на все это нормальному человеку и не сойти с ума было невозможно; я и не смотрел. Я был совершенно в другом месте – там, где одно утверждение бесспорно доказывалось с помощью другого, заранее доказанного, и бесконечные, то есть по крайней мере в одну сторону бесконечные ряды этих бесспорно истинных утверждений разрастались, переплетались и уходили в такую головокружительную высь, что сердце заходилось от восторга при виде этой торжественной архитектуры истин.
Посреди улицы Желябова как-то весной ко мне наконец пришло решение уравнения, над которым я бился две недели, – да не просто решение, а решение предельно изящное, тонкое, всего в три строчки. Это решение было прекрасно, как пушкинская строка, как палладиева волюта – и это я, я его придумал, – с тем же самым чувством, я знаю, Блок однажды написал «сегодня я гений».
За недолгое время занятий математикой в доброжелательной и уважительной обстановке я окреп, как крепнет теперь у меня на подоконнике моя маленькая драцена, когда я возвращаюсь из путешествия и поливаю ее, и тут оказалось, что я вовсе не ненавижу всех людей, а с некоторыми из датских заключенных могу даже вступить в переговоры.
Переговоры по условиям задачи запрещены, однако мы обманывали правила – переговоры шли не о том, как выйти из тюрьмы или тем более разрушить ее, а о том, как вместе понадежнее сбежать из нее в картинку на стене. Не вдвоем и не втроем, а сотнями и тысячами мальчиков и девочек – всем вместе шагнуть в мир эльфов, рыцарей, магов и прекрасных дам. И прежде чем ухмыляться ролевым играм, спросите себя еще раз: а что вы сделали для того, чтобы вашим детям захотелось остаться в созданном вами мире?
Там, в лесу, где мы жили в палатках, ходили одетыми в яркие плащи и говорили друг с другом языком переводных романов о королях и королевах, – там не было Березовского, не было семибанкирщины, не было грязных, как пристанционный сортир, выборов девяносто шестого года, не было унизительного, годами без продыху, безденежья, а что касается невкусной и бедной еды, то в лесу из котелка она даже воспринимается как часть игры: у нас же тут Средние века, чего вы хотите.
Так что у меня не найдется слов осуждения для тех, кто принял решение остаться там навсегда и стал по жизни Галадриэлями и Митрандирами с повязками на головах, взглядами с поволокой, неустойчивой психикой и любовью к бесконечным заунывным балладам о любви Берена и Лютиэн. Что касается меня, то мне просто повезло – у меня была математика и у меня была литература.
Насытившись книжками про мечи и магию, я из любопытства стал листать наугад, что было дома. Дом был полон «Митиными журналами», «Часами», «Арионами» и «Алконостами». Так получилось, что Коровина и Кондратьева, с которыми дружила моя мать, я прочитал раньше Толстого и Чехова. Больше про мечи и магию я не читал никогда. Это тоже была эскапистская литература – только побег здесь совершался не такой простой, в мир бессмертных эльфов и волшебных посохов, откуда любой дурак мог вернуть тебя простым их не существует, тут все было хитрее, потаеннее, зато и еще надежнее – это был побег в структуры речи, к машинам письма и внутренним формам слов: накося выкуси, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
Смешно, но взрослые дяти и тети хотели, в сущности, того же, что и завернутые в занавески дети, – во что бы то ни стало спрятаться от пронизывающего ветра истории, забиться с ушами в маленький уютный мир. Мир мелочей, в котором нет ничего важнее фигур, которые выплясывает, кружась, дым твоей сигареты, и проблем, связанных со способами их репрезентации на письме, мир ближайшей телесности, в котором ощущение, подаренное тебе мимолетным прикосновением к шершавой поверхности стола, важнее минимального размера оплаты труда, мир лабиринтов памяти, в котором давно забытый, но вдруг напомненный запах каменного угля важнее судеб миллионов. Взрослые создали реальность и теперь изо всех сил прятались от нее – ей-богу, я испытываю к ним нежность. Так кот чиркает пару раз лапой по линолеуму и с независимым видом забирается в угол дивана. Говоря о нежности, я не иронизирую: ведь это нежность в том числе и к своему детству, в котором я оказался так заворожен этими перекатывающимися и постукивающими друг о друга словами, заколдован отсветами и тенями чужих чашечек кофе, потертых кресел и крашеных подоконников, воспоминаниями о прочитанных кем-то книгах, о сорванных в полумраке поцелуях, о запахе открытой с зимы дачи и прихотливых узорах на фризе неведомой мне базилики (я так долго могу) – так, говорю, зачарован, что в таком же роде вдруг километрами бросился писать сам. Мужики выражали сомненье, и таращили бабы глаза.
Вот вполне себе лакановское сближение: одновременно с высвобождением потока речи у меня вдруг прорезался голос. Оказалось, что у меня есть какой-никакой слух и что я могу петь – могу так, чтобы заплакали девочки, а могу и так, чтобы дрожали стекла в окнах соседних многоэтажек. От всероссийской славы, ревущих стадионов и ранней смерти от кокаина меня уберегло отсутствие музыкального образования: я кое-как научился аккомпанировать себе на гитаре, но сочинить даже самой простой мелодии не мог, как ни бился. Слова слушались меня или по крайней мере делали вид – нот, наоборот, приходилось слушаться мне. Зато по некоторому – лишь недавно отмененному – закону умеющий хоть как-то петь человек с гитарой автоматически перемещался на самую козырную шконку в хате – зверь тщеславия был напоен кровью девственниц и временно затих, и занятиям литературой я посвящал себя мало. И слава богу: представляю, какую прозу нашептывал бы обчитавшемуся Гальпериным пополам с Рудневым подростку этот зверь, будь он злой и голодный. Видите, даже сейчас: чуть ослабишь поводок – начинает красиво изъясняться.
Мальчики сбрасывали пепел в кофе и уверяли, что кофе от этого только вкуснее, девочки закалывали прохудившиеся штанишки булавками, мы пили дрянную водку, разведенную каким-нибудь «юпи» (порошок из пакетика нужно было высыпать в банку и развести водой) и закусывали жареными пельменями – это был вроде как деликатес, но на самом деле их попросту не было смысла варить, они мгновенно расплывались, такое было тесто, – но пели мы, разумеется, про охоту на единорогов, шары из хрусталя, лебединую сталь и прочую музыку серебряных спиц. Мы даже не были инженерами на сотне рублей, и тем не менее отчаянно чувствовали себя именно ими – гордыми членами старинного ордена, хранителями Тайны Серебряной башни: как от проказницы Зимы, запремся также от Чумы! До сих пор я включаю иногда какое-нибудь «Равноденствие» или, там, «Русский альбом», и сердце мое сжимается от жалости к юным, красивым, таким хорошим мальчикам и девочкам, которые, сбившись в кучку, тянули сееереееброоо гоооспода моегооо, тянули отчаянно и слезливо, потому что чувствовали, что скоро их жизнь необратимо изменится – кто пойдет работать официантом в ресторан, кто в отдел продаж пивоваренной компании, кто в стриптиз-клуб, а кто барменом – инженеры в этом мире были нахрен никому не нужны, даже на сотне рублей.
И опять мне необъяснимым образом повезло: я никогда не был театралом, среди знакомых и родственников не было артистов, я вообще никогда не думал о сцене даже в предположительном ключе – и тем не менее, после одиннадцатого класса я совершенно случайно оказался не в Институте психоанализа, как планировал, а на актерском курсе. Кто хоть раз оказывался в театре – я имею в виду, не вечером в зрительном зале, а кто попадал в него жить, – тот знает: то, за что другие люди платят – кинотеатрам, туристическим компаниям, музеям, наркодилерам, тем же артистам – эмоции, игра на оголенных органах чувств, непосредственное проживание момента, – артистам достается совершенно бесплатно круглые сутки. Я не доучился, ушел с середины третьего курса, – но я прекрасно понимаю людей, которые, даже со средним талантом, даже зная, что их потолком всегда будет какой-нибудь безымянный пьяный прохожий, повар или горничная, тем не менее остаются в театре, и попробуйте их убедить, что, возможно, они были бы хорошими менеджерами по продажам, логистами или бухгалтерами: они в театре – одно это компенсирует все уродство мира.
Я был в театре – и не заметил ни я устал, я мухожук, ни финального акта Чеченской войны, ни даже одиннадцатого сентября. И все же театр не был процарапанной на стене картинкой, он был вещью реальности, пусть и аномальной вещью, вроде черной дыры или червоточины. Через такие червоточины, если верить физикам, мы когда-нибудь сможем не только путешествовать в пространстве и времени, но и проникать в другие вселенные. Проблема в том, что целая вещь не может пройти сквозь червоточину – она будет разобрана даже не на молекулы, а на кварки. Театр разобрал меня на куски и собрал заново и выкинул – обратно в литературу.
В математику, музыку, театр, куда угодно еще – я путешествовал: долго ли, коротко ли, но туризм не эмиграция. К литературе я вернулся, как молодой барин в романах XIX века возвращался в родное поместье из дальних странствий – обосновываться прочно, на остаток жизни. Нужно было учиться искусству ведения хозяйства, основам животноводства и растениеводства, началам архитектуры и управлению персоналом и еще тысяче разных мелочей – я поступил на Филологический факультет (в физмате меня научили системному подходу, ага). Молодому барину в таких случаях полагалось еще жениться – я сделал и это. Последний шаг оказался роковым.
Легко быть страусом, когда ты один, – но когда рядом с тобой царевна-лягушка, которая изо всех сил бьет лапками, чтобы взбить из молока сливки, с головой в песке перестаешь чувствовать себя комфортно. А высунув голову наружу, невозможно не задуматься о реальности. Речь, разумеется, идет о необходимости поработать локтями, раз уж не случилось у тебя ни родителей-миллионеров, ни наследства американской тетушки, – но разве не через эту необходимость непосредственным образом и проявляет себя наличный зов истории?
Как оказалось, первое, что хочется сделать высунувшему голову из песка человеку, – это спрятать ее обратно. Вот почему, таская подносы в ресторанах, продавая кредиты в мебельных магазинах, верстая металлургический журнал, снимаясь в сериалах или занимаясь любой другой скучной и унизительно малооплачиваемой работой, любую свободную минуту я использовал, чтобы совершить тот же самый побег, что и маленький мальчик с Толкиным или Желязны в руках, – только на этот раз это были Бахтин и Пропп.
Рвались бомбы в Тушино, в московском метро и на «Пушкинской», взрывались поезда и самолеты, месяца не проходило, чтобы не подорвала себя в толпе какая-нибудь смертница, в заложники захватывали зрителей на Дубровке и детей в Беслане – девяностые отползали, щелкая зубами и оставляя за собой кровавые подтеки. Тексты, тексты о текстах, метатексты и собственные тексты снова стали для меня той мягкой складкой в структуре реальности, в которой можно было схорониться. У меня теперь не всегда было на это время, но я все еще хотел сбежать в нарисованную на стене картинку – правда, теперь я мог нарисовать картинку намного качественнее, чем раньше.
Опыт создания персонажей на сцене научил меня тому, что еще увлекательнее, чем просто заподлицо приставлять друг к другу слова, – придумывать других людей, их историю, ставить их в предлагаемые обстоятельства и щелкать рубильником волшебного если бы. Мало того – теперь я умел разбирать тексты по винтику на детальки и знал, как сделаны их механизмы. Оказалось, что нет ничего интереснее, чем пробовать собрать такой механизм самому. Плохо ли, хорошо ли у меня получалось – меня увлекала сама эта работа: приладить колесики одно к другому так, чтобы они цеплялись и крутились вместе.
Подвох тут крылся вот в чем: выяснилось, что для того чтобы качественно придумать героя и его историю, чтобы собрать аморфный язык в жесткую структуру текста, – нужно вылезти из мягкой, теплой складки внутреннего мира в холодную, опасную реальность и начать изо всех сил внимательно за ней следить, быть настороже, постоянно думая, что бы у нее такое украсть. Наблюдатель же неизбежно превращается в вопрошающего. Я продолжал трудиться на производстве хитроумных литературных машинок – каждая следующая изящнее и изощреннее предыдущей, – но параллельно с этим во мне стали, как вирусы, поселяться вопросы. Вопросы не о том, почему так или иначе работают тексты или даже как развивалась история литературы, а о том, почему так, а не иначе устроена реальность вокруг меня.
Ответов на вопросы не было ни у Шмида, ни у Лотмана, их не было даже у Гоголя с Андреем Белым. На некоторые вопросы ответы были у Хайдеггера и Мамардашвили, но лишь на те, которые имели отношения к способу присутствия моего «я» в этом мире – про себя, конечно, интересно, но куда интереснее про других: как, по каким законам существуют люди в обществе? Какова природа социальной реальности? Как взаимодействуют люди друг с другом сейчас и в истории? Мне пришлось снова погрузиться в теорию, чтобы выслушать все имеющиеся объяснения в диапазоне от Маркса до Фридмана, от Фрейда до Лакана, от Лукача до Фуко (полна, полна коробушка, есть и ситцы, и парча), и наконец согласиться с тем, что реальность исторична, что история – это прежде всего история производственных отношений, что «я» – это воображаемая функция субъекта, а самые интересные в жизни вещи – это не воображаемые миры и мистические откровения, а политика и секс. Я обнаружил, что мои взгляды на действительность радикально переменились, а вместе с тем перевернулось и отношение к литературе – в том числе и в том в ней, что до сих пор делал я сам.
Инкубационный период вопросов-вирусов длился несколько лет, за это время я успел написать несколько сотен рецензий на чужие книги, десятка два рассказов, повесть и роман. На все на это я теперь смотрю примерно так же, как на детские рисунки своего сына: они, разумеется, вызывают умиление, и все же – хороши они или плохи – это только детские опыты. Сегодня мне тридцать шесть, на разных книжных мероприятиях по всему миру меня представляют как современного русского писателя, иногда даже как знаменитого (ой ли?), но что уж совершенно точно – я часть (большая ли, маленькая ли – какая-то) русской литературы, и я чувствую себя так же, как когда-то, написав первый удачный (и напечатанный) рассказ, – в начале. Если я и впрямь научился управлять литературной машиной, не задумываясь переключать передачи, пропускать помеху справа, обгонять и вписываться в повороты, то теперь мне предстоит задача, может быть, труднейшая – развернуть эту машину и использовать все, какое ни есть, мастерство, чтобы двигаться в противоположную сторону. Не в сторону побега от действительности, а прямо в гущу гудящего на пределе нервов потока. Использовать все известные мне приемы и фокусы для того, чтобы слова не драпировали действительность, а чтобы они обнажали ее, объясняли ее и в пределе – ее меняли. Как это делать, я пока не знаю. Но надо попробовать – все остальное мне уже не интересно.
Заключенный сидит в камере два на два. Условия задачи таковы, что у него всего один ход, две опции, и одна хуже другой. Он может процарапать на стене озеро, облака, тонущие в синеве очертания холмов, изумрудную траву и малахитовые кроны деревьев и даже, если он такой умный, башню. А может – внимательно осмотреться по сторонам, попытаться понять, как устроена темница, и сделать все что в его силах, чтобы помочь другим расшатать ее палимпсестом покрытые рисунками стены.
Тридцать лет Пелевина
Дочитав «Чапаева и Пустоту», я не мог усидеть на месте – поехал кататься. Ночь, ноябрь, Питер, не лучшее время для велосипеда – но просто ходить было мало, душа просила скорости и ветра в лицо. Такая книга.
Давно не перечитывал и взялся снова, потому что никак не мог придумать, что бы такого написать к шестидесятилетию Пелевина. Не потому что о его книгах нечего сказать – слишком много; десятки монографий и сотни статей написаны, и напишут еще, – а потому что автор заранее исключил себя из разговора о своих книгах. Неловко говорить о биографии писателя, который с самого начала дал понять, что она не имеет никакого значения и никакого отношения к его книгам, а что такое юбилей, как не факт биографии? И все-таки юбилей, как не поговорить? И значит, единственный способ говорить о юбилее Пелевина – говорить о нем как о факте биографии, но своей. Нет, автор этих строк сам не любит фотографироваться на фоне достопримечательностей, но в данном случае оправдание есть такое: как ни встань и куда ни наведи камеру, все одно рядом будет Пелевин.
Я летел по темной набережной Кутузова – справа Нева, слева Летний сад, морось и брызги в лицо – и пытался вспомнить, когда я прочитал «Чапаева и Пустоту» впервые. Не смог. Как будто бы эта книга была со мной всегда. И все-таки, вероятно, мне было лет семнадцать. Во всяком случае, на втором актерском курсе, куда меня ненадолго занесло после школы, мы с товарищем уже играем сценку из романа: товарищ – Петька, я – фон Эрнен. «Раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть…»
Вот первая примета времени: в мои семнадцать, или сколько там, самой понятной для меня частью книги были ее дзенские мениппеи. Я ничего не знал про Революцию и Гражданскую войну, не задумывался, что произошло со страной в 1991-м, не пробовал наркотиков, не знал женщин, не читал Декарта; но что мир в уме, ум нигде, а я – отсвет лампы на бутылке, – это я понимал очень хорошо. Что ж тут непонятного. Я еще и Догэна читал. Проще всего отмахнуться, произнеся ритуальные слова о юношеском солипсизме – и, возможно, так оно и было, – только вот ведь какая штука. Когда Лакан говорит о Я как воображаемой функции субъекта, о субъекте как феномене языка и о принципиальной недостижимости Реального – это ведь примерно те же яйца, только в профиль, а от Лакана попробуй отмахнись, замучаешься за базар вывозить.
Девяностые, как квартира алкаша – пустыми бутылками, были полны духовностью самого разного разлива (надо ли говорить: паленой). Один воссоединялся с матушкой-землей по Порфирию Иванову, другому Свидетели Иеговы, поймав на улице, всучивали бесплатную Библию, третий практиковал практики вместе с ламой Оле Нидалом, четвертого очаровывало научным звучанием слово «сайентология» – и так до бесконечности, и допив одну бутылку, страждущий прикладывался к другой. Чудовищное небрежение актуальным гуманитарным образованием в позднем Союзе привело к тому, что люди, в целом представлявшие себе принцип работы ядерного реактора, знающие основы интегрального исчисления и способные, среди ночи разбуди, объяснить процесс фотосинтеза, – как жертвы ярмарочных наперсточников, развесили уши, когда им стали втирать про чакры и биотоки, божественную энергию и космические лучи.
