Голое поле
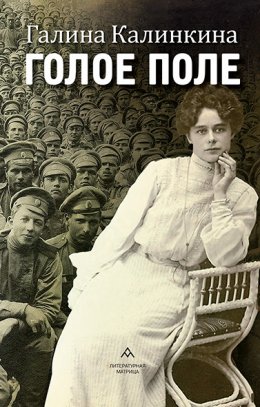
© ООО «Литературная матрица», 2024
© ООО «Литературная матрица», макет, 2024
© А. Веселов, обложка, 2024
Часть первая. «До». 1905, 1912–1914
Начальнику хора.
День дню изливает речь,
и ночь ночи возвещает знание.
Пс. 18:1, 2
Сквозняки
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Отставка – слово хлесткое, как пощечина.
Фиаско случилось третьего дня. Князь в полуобмороке, княгиня в гневе. Застали. Уличили. Очнувшийся князь хотя и похохатывал в “нахмурившиеся” усы, а веско пожурил на виду у всех. Княгиня грозилась удалением из дворца, топала ножкой. Ножка княгини – чрезвычайнее “хмурых” усов князя.
Я попал впросак по рассеянности, сдав очередную порцию переписанных летописей дома князей Ю. вместе с листиком собственных мемуаров. Мемуары пишу не о прошлом, а о будущем. Самолично, получается, отдал в чужие руки улику против себя. Князь покривился, тяжело задышал, как при грудной жабе. Дал назидание – не марать бумагу ерундой. Князь пофыркал, понадувал щеки и нарек мне кличку – Мистик. Отпрыски князя, младшие Ю., мимо гарцуя, а наследники именно что гарцуют по дворцу, третий день подряд громко шепчут под дверью секретарской: “Мистик” и, перехихикиваясь, галопируют далее.
Сносить насмешки не сложно и даже душеполезно. Сложнее оправдываться, попадаясь на глаза княгине. Княгиня и прежде иронизировала над моим видом и запрещала представать перед визитерами. Князь же, бывало, нарочно приоткрывал дверь секретарского кабинета, когда вел важный разговор тет-а-тет с приглашенным лицом. Я стенографировал беседу и по окончании в точности переводил курсивную скоропись. Князь был удовлетворен, как, впрочем, и всегда оставался доволен моею работой над родословной, историческими опусами рода и воссозданием семейного архива.
По недосмотру вышел такой коленкор – лист моих мемуаров затесался в штудию о княжеском гербе. Лев, баран и крокодил – как символы родовой геральдики – излагались штатными историками, я же лишь переписывал обветшавшие от времени свидетельства. Странности за собой заметил спустя время, возможно, лишь с третьего раза “их приходов”, не понимая природы будоражащих мыслей. Я погружался в рассуждения о возникновении античной короны на гербе Ю., а передо мной настойчиво вставали древние монахи. И вот, при третьем явлении “черных ряс”, молчащих поблизости, знание вошло в меня. Я изумленно разобрал: видения касаются и моего рода, не одного княжеского. Те монахи держали в пещерах “несговорчивый кабинет” и почту. Постепенно видения “несговорчивого кабинета” и пещер отходили, а их место прочно занимала голова незнакомца. Голова не отрубленная, но отделенная от тела. Голова все более волновала меня вопросом: чьему телу она принадлежит. Тому самому волнению и поиску ответов я и посвятил страницу княжеской гербовой бумаги, в чем уличен и за что, собственно, припечатан “Мистиком”.
Сквозняк подшутил, украв бумагу. Сквозняки тут нешуточные. Сама секретарская комната – квадратный мешок без окон, аршина[1] в четыре с половиной, два на два. В ней умещается бюро со столешницей – моя конторка, table-desk с полками для книг, свечей, лампы. За скамеечкой для ног громоздится пароходный комод-сундук. От стула, обитого кожей, остается с трех сторон всего каких-нибудь с пол-аршина до трех дверей, ведущих в Гобеленовую гостиную, Буфетную и на площадку к парадной лестнице. Вот из-под тех трех дверей несет холодом так, что я в первую же зиму заработал ревматизм.
В дом Ю. я попал по протекции моего давнего приятеля, тоже письмоводца с виртуозным каллиграфическим почерком, который был перехвачен другим знатным домом. Приятель сулил мне большую выгоду и верное жалованье на служении у Ю. Но, положа руку на сердце, старый плут с легкостью переуступил тутошнее место из-за слухов о крутом нраве хозяйки. Что ж, в моем возрасте и положении не до сомнений; я согласился немедля и с трепетом ждал ответа с Рождества до Крещенья. Получив место в апогей крещенских морозов, в ту первую зиму в секретарской комнате без печи я и заработал себе “утиную спину” – ревматическую лихорадку.
Теперь вынужден и летом передвигаться по столичным улицам и набережной Мойки в чесучовой крылатке. Даже в летний зной в кабинете, сплошь обшитом иберийским дубом, облачаюсь в свой “поморский” наряд: валенки и фуфайку на колонковом меху. Оттого, должно быть, княгиня и запрещает нос показывать перед гостями. Накануне вечером юбки княгини шуршали особо сердито. Она ожидает модную портниху из самой Москвы. Мне велено не высовываться из кабинету. И зачем подобные строгости? Где секретарская и где комнаты княгини. От парадной лестницы с ее бессмертными сквозняками до будуара хозяйки можно идти полдня, фланируя. Правда, гарцующие наследники преодолевают дворцовые расстояния быстрее.
Отставка, предстоящая отставка – вот что истинно волнует меня. Нож гильотины занесен над моей шеей. Домашних придется уведомить о грядущем безденежье.
И подпишусь для соблюдения – р. Б. Дормидонт и добавлю, пожалуй, – Мистик. 1905 год от Р. Х.»
1. Закавыка
Острый глаз обывателя давно приметил одну закавыку: во всяком новом храме в первых покойниках самому храмоздателю быть. Та же молва идет и про психлечебницу: кто доллгауз[2] вывел, тому вскоре и ума лишиться. Выводил, к примеру, зодчий венцы особой врубкой «в лапу», «в обло» или «в шип», покрывал крышей, завершал стройку. Венец – всему делу творец, как известно. Заселялась возведенная «психиатричка» помешанными, да глядь, тот же мастеровой возвращается: запил трезвенник, трясущееся помрачение на него нашло. И вот попадает сам мастер в «свою» больничку одним из первых ее насельников.
Семья Вепринцевых, доктор Арсений Акимович – специалист по нервным расстройствам – и дочь его Евгения Арсеньевна, въехала в новое здание Преображенской психиатрической больницы до завершения отделочных работ. Благо квартира доктора – в четыре просторных и светлых комнаты – оказалась готовой прежде прочих служебных помещений. Доктору-вдовцу и дочери – взрослой девице – как нельзя кстати пришлось переселение из доходного дома Телешёвых на Покровском бульваре во вновь открывшуюся лечебницу Преображенского Камер-Коллежского вала. Доктор через повышение по карьерной лестнице обрел возможность оставить на Покровке боль недавнишнего своего вдовства. Дочь поддержала отца в переменах – и ей семикомнатная квартирная тишина без маменькиного заливчатого смеха казалась казематом похуже психбольницы, куда нынче отец определен смотрителем и главным врачом в одном лице.
По окончании стройки «психиатричка» должна принять от города пациентов на двадцать пять коек, а смотритель – нанять персонал в девять штатных единиц: ординатора, старшего ординатора, трех сестер милосердия, санитарку, кухарку, сестру-хозяйку и коменданта. Новое дело всегда начинать приятно: сами стены со свежим рапсово-песочным колером поддерживали гамму солнечной, задержавшейся в городе поздней осени. Все бы ничего, да стройка вдруг остыла. Тут-то и прояснилась причина остановки, та самая треклятая закавыка – архитектор проекта Кекушев внезапно исчез. К концу недели отыскался, сказался больным. И слухи поползли от разнорабочего до попечителя; в досужем разговоре мелькнуло заморское словечко «делирий»[3]. Разобрать латынь – delirium tremens – тут мог один доктор Вепринцев. Собственно, он и обратил внимание застройщиков-попечителей старообрядцев Хлудовых-Малышевых и родни архитектора на опасность проявлений недуга – трясущееся помрачение и сонное рассеяние может быть губительно для самого делирика и для окружающих, если, конечно, слухи сколько-нибудь основательны. Кекушева предложено поместить в выстроенный им доллгауз.
Червонное солнце осени 1912 года упрямо выкатывалось на весь световой день, отсвечивая, как золото высокой пробы, тускнея до черноты в долгие ночи. Осень затягивалась. Календарная зима подступала, а признаков ее в Москве нет как нет. Улицы наряжены багрянцем и бутылочного стекла зеленью удержавшейся не ко времени листвы. Трамваи – механические телята – резвятся, переговариваясь колокольцами при встречах. Город перестал обсуждать скандал в гучковской Думе с очередной выходкой Распутина. И оглушительный проигрыш российской футбольной сборной в пользу немецкой сборной – знак ли, знамение? – город тоже перестал обсуждать. И долго помнившийся званый обед для британской миссии в доме у «сахарной головы» Харитоненко на Софийской набережной кончил волновать москвичей невиданным размахом, оркестрами в каждой приемной, балетным дивертисментом, гирляндами цветов из Ниццы. Город поумерил свое любопытство и притерпелся к необъяснимо экстравагантным, долетающим из столицы, хроникам правящей императорской семьи. Город упивался последним щедрым солнцем осени и углубился в свои насущные заботы, в свое неверное, непрочное обывательское счастье.
Арсений Акимович Вепринцев воевал сразу на двух фронтах: с застройщиками-попечителями Хлудовыми-Малышевыми и с руководством главка – другой Преображенской больницы, что на Матросской Тишине, откуда, собственно, ушел на повышение в малую Преображенскую. Но из соседнего беспоповского монастыря поблизости от староверского кладбища и с Матросской Тишины получал одни обещания, а дело не двигалось. И если в завершении ремонта, обустройстве больничной территории доктор Вепринцев надеялся на собственного племянника, выписав того к себе из «бурсы», то с подбором подходящего персонала перспективы стояли неважные. Доктор хлопотал, бранился, нервно тыкал в предметы и в сырую почву тростью, добиваясь решения нерешенного на бесконечных переговорах – ах, сколько же мы все разговариваем! Но дочери за вечерним чаем докладывал: как он счастлив теми хлопотами. Ну или почти счастлив, потому как безоговорочного счастья, овдовев, не мог более иметь ни от профессии эскулапа, ни от вида выросшей форменной красавицей – в мать – дочки, ни от червонного московского солнца. Поиздержавшиеся на оплате модного архитектора Хлудовы с Малышевыми зажимались в расходах, отказываясь уступить подряд новому мастеру, надеялись на возврат в дело Кекушева после выздоровления. Старинная лечебница на Матросской Тишине вербовала работников в новую лечебницу – свой филиал – да все как-то мимо: слали неопытных, а в особых заботах «желтого дома» надобно сыскать бывшего в случае, то есть обладающего нужной практикой.
Шансы на удачное разрешение проблем выросли с переездом на Преображенский Камер-Коллежский вал племянника доктора по крымской родне – Валентина. Недавний московский житель и ныне слушатель Школы десятников[4] – Валечка Петров – из шумной «бурсы», предоставлявшейся иногородним, был выписан дядей в четырехкомнатную квартиру при лазарете. Но и с того момента дела больничного хозяйства на улучшение не пошли; Валентин оказался приятным в общежительстве, но совершенно бесполезным по практической части в силу личной романтической рассеянности и неприспособленности к строительно-ремонтным вопросам.
Женечка Вепринцева упивалась обустройством нового дома, присутствием брата, доброй души ее детства и ежегодного отдыха с маменькой в крымском Партените, нарадоваться не могла золоту солнца поздней осени. Женя драпировала окна «свежими» гардинами, перешивала старые льняные чехлы на новую казенную мебель. Образцы и примеры она перенимала на курсах Модельного агентства мадам Ламановой, недавно переехавшей в собственный дом на Тверском бульваре. Женечка бегала по выставкам и художественным ярмаркам. И с некоторым трепетом ожидала конца отцовым хлопотам. Полная готовность больницы означала скорый приезд психических больных.
1905. Белошвейка
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Вынужден отозвать недавнее утверждение о катастрофе. Отставка отменена. И я, опасно манкируя прямыми обязанностями, к стыду своему, вновь утекаю в прошлое. Отчего нас всех так тянет в прошлое? Оттого, что мы его жители. Мы живем, полагая себя в настоящем. Вот тут позволю себе улыбнуться. То прошлое, о котором нам известно – есть наше отдаляющееся во времени настоящее. Истинное прошлое – лишь то, чего мы не знаем. Что было до нас. До прабабок и прадедов. Прошлое – та ткань бытия твоего рода, куда не дотягивается твоя память. Прошлое – есть смерть. А смерть – это насовсем. Смерть – наша родина, оттуда мы все пришли. Родина – не территория, не надел отмежеванный. Родина – небытие, иной мир, где каждый подсудимый и каждый той земле иностранец. Где каждый под судом и каждый без корней. Где каждый приперт уликами и каждый лишен последнего слова. Все нами сказанное на земле не поменять. Небытие и есть прошлое. Туда и идем – к себе возвращаемся. На родину. С первого дня жизни.
Впрочем, не пора ли приступать к переписи податной бумаги рода князей Ю. в “Бархатную книгу”? Нет-нет, официальные бумаги подождут, тем более они давно поданы, лет двести назад. Переписать можно и позже. Я же вновь о монахах, о разделенной с телом голове, о столичной швее, о ножке княгини. В моих мемуарах видения перемешаны с реальностью. В прошлый раз, когда надо мной “свинцовой бабой”, рушащей каменные стены, нависла отставка, я попал в ситуацию, более осложнившую мою судьбу в княжеском доме. Сквозняки все-таки подшутили надо мною, когда один из листов, ни при каких обстоятельствах не долженствующий попасть в чужие руки, нырнул-таки в дверную щель и был слизан коварным языком ветродуя. Я буквально гончей понесся за ним, выскочив из секретарской и позабыв о ревматических болях. Спаси Христос, к первому часу пополудни никого не было поблизости, хозяев не застать бодрствующими в такую-то рань. Лист я догнал на площадке мраморной лестницы, ловко ухватив за уголок. Но, разгибаясь, приметил на ковре подол шемизетового платья. Княгиня! Мгновенный прострел в поясницу, как меткий выстрел на дуэли. Но нет. Передо мной стояла миловидная в своей свежести, хотя и не в принятом образце красоты, дама. Скромно одетая, с точеной фигурой севрской статуэтки. Отчего же одна, без сопровождающих? Вероятно, прислуга также сочла ее излишне простоватой и не удостоила вниманием, проверив лишь дату приглашения и бросив на произвол судьбы. Упрятав свою улику в карман, я вполне себе свободно разогнулся и почувствовал, как опоясывающая боль отпускает, – обознался, не хозяйка. На мою улыбку дама откликнулась ответной улыбкой, меняющей ее внешность в лучшую сторону. Мы разговорились.
Оказалось, она и есть та самая модельерша из Москвы, где имеет свое агентство в доме Адельгейма на Большой Дмитровке. Такие подробности не поразили меня, поскольку Дормидонт к своим семидесяти годам никогда не покидал столицы и с московской географией незнаком. Хотя и догадался по довольному виду гостьи, что название дома и адреса многое значили для нее самой. Увлекло же другое, столь заурядная внешность наверняка скрывает незаурядную судьбу – иначе не быть бы приглашению в дом Ю. Что тут же и подтвердилось, когда моя собеседница попросила препроводить ее – поставщицу Двора Ея Императорского Величества Александры Федоровны – к будуару княгини. Наша беседа длилась не менее четверти часа, пока мы неспешно прошли в дальнюю часть дворца. Мне представлялось, что лучше оставить гостью в Белой круглой гостиной или у Фарфорового будуара, а самому ретироваться в секретарскую. Но разговор с визитершей о московских привычках чаепития, о январских событиях кровавого начала нынешнего года, о премьере постановки “Женитьба Фигаро”, о восстановлении имени святой Анны Кашинской – двоеперстницы, прежде обвиненной в отсутствии святости, столь очаровал меня располагающей манерой моей визави вести светскую беседу, что я утерял бдительность. У Персидской гостиной путь нам преградила хозяйка. По тому, как любезно княгинюшка в присутствии гостьи похвалила меня за сопровождение и как глянула на мою фуфайку, я тотчас понял: отставка грозит мне с большею силою. На мою седую голову с размаху несется “чугунная баба” судьбы и неясно, не разорвется ли мое бедное сердце к утру.
Для соблюдения подпись —
р. Б. Дормидонт-Мистик, 1905 год от Р. Х.
И допишу, пожалуй.
Той же ночью в беспокойных снах милая белошвейка, мадам Ламанова – поставщица Двора Ея Императорского Величества – привиделась мне в тюремном каземате под конвоем двух серошинельных кинокефалов[5] с нелепыми красными звездами на шлемах, а потом и вовсе во вздорной ситуации: собирающая оброненные узелки на входе в театр. Воющие сирены. Окна в белых крестах. Театр, где она прежде служила старшей костюмершей, оказался пуст, персонал его вывезен из осадного города. Костюмершу забыли. Последний узелок с пожитками она так и не подхватила, да и остальные с иголками, наперстками и катушками просыпались по ступеням из холодеющих пальцев».
2. Триумвират
В Школе десятников при Императорском Русском техническом обществе тройственный союз: Удов, Петров и Тулубьев – как-то сразу признали за самоопределившуюся, отдельную силу и на первом году обучения привычно не удивлялись их всегдашней спаянности. Троица все решала сообща, делила на троих, отвечала за все втроем. Порядки в самой Школе десятников установились доброжелательные, без всегдашних лицейских и гимназических несправедливостей, подначиваний, подтруниваний. Тут учился взрослый люд: от двадцати одного года до тридцати лет, отчасти успевший потрудиться на стройках или имевший опыт и знания из архитектурной сферы. Обучение шло два года с практикою в два лета подряд.
Первый год троица отучилась, прошла летнюю практику и переводные испытания. На втором году осталась учебная сессия с ноября по апрель, а там дальше летние работы и для выпускников – экзамен на диплом десятника или техника-архитектора. И – воля-вольная на дороге в профессию: хоть в градостроители, хоть в десятники горного или лесного дела. Десятник – ставился начальником на стройку, различал работников первой и второй руки, умел составлять договоры по сдельной сетке; вел табельный учет. Техник-архитектор выпускался специалистом с дипломом на право открытия конторы собственного архитектурно-строительного агентства.
Инспекторами по учебной части и профессурой Архитектурного общества читались в Школе специальные дисциплины: геодезия и топография, основы техники безопасности, подача первой помощи, черчение, рисунок, начертательная геометрия, механика, физика и Закон Божий. Отдельно, спецкурсом, изучались архитектура, горное дело и лесное хозяйство. У троицы и тут дела обстояли лучше некуда. Валентин Петров лучше друзей рисовал, Родион Тулубьев преуспевал в математике, черчении, механике, Филипп Удов обгонял двоих товарищей во всем: бывают такие люди, каким всякое дело легко дается. Филиппу важно быть первым, оправдывать ожидания семьи и учителей. Какая-то непознанная сила изнутри подгоняла его к первенству и совершенству. И даже внешне все трое походили друг на друга, ну в возрасте и росте уж точно – каждому по двадцать два, родились в один год, при Александре Миротворце. Все выше среднего роста, но телосложением отличались: самый щупленький и чуть косолапый Валентин, жилистый и плечистый Родион, идеально сложенный, «Адонис»-Филипп. Троица неизменно вызывала внешний интерес прохожих, зевак, всех тех незнакомых, кто привычно не соприкасался с тройственным союзом из Школы десятников дома Лисснера в Крестовоздвиженском переулке.
Первыми, прошлой весною, познакомились Валечка и Филипп, а в начале того лета – Валечка и Родион. И, понятное дело, Валентин Петров свел Удова и Тулубьева. Поначалу у Филиппа и Родиона отношения складывались туго, с медленно-испытующей силой, с оглядкой и оценкой, и когда они оставались вдвоем, то особо и не разговаривали, делились чертежами или записями лекций. Оба оттаивали лишь в присутствии Валентина. Со временем и между двумя Валечкиными друзьями установилась та же любовь, что он чувствовал к каждому из них. Петров ценил Удова за тягу к высокому полету, ко всему новому и экстравагантному, за артистичность и чувственность, Тулубьева – за отзывчивость, цельность и надежность; они же своего товарища ценили за философские взгляды и трогательную набожность. За Валечкой Петровым как-то само собой закрепилось прозвище Апостол Петр. Удова за внешность прозывали Адонисом. Лишь Тулубьев обходился без прозвищ. Все трое ходили в первых учениках: Тулубьев добивался звания настойчивостью и часами сидения в библиотеке или чертежной, Удов – хватая знания на лету, по верхам и всегда удачно выкручиваясь, Петров – подтягиваясь за обоими друзьями. Жизнь наполняла их дни счастьем мужской дружбы, получения дельной профессии и поиском смыслов всему существующему рядом.
Все свободное от Школы десятников время друзья проводили вместе, таков уговор. То Родион вел всю компанию смотреть недавно открытый трехпролетный Бородинский мост через Москву-реку. То Валечка тащил всех в Сокольники исследовать барабаны черных главок на стройке Кедровской церкви с неправильным алтарем – на юг. Или зазывал в Звенигород поклониться мощам Саввы Сторожевского. Но чаще увлекались разными затеями Филиппа, закопёрщика компании, и попадали то в кордебалет, то в полуразрушенный некрополь, то в зоосад, то в чужой палисадник с недозрелыми яблоками и едва уносили ноги от спущенных цепных псов.
Однажды привычное согласие нарушилось: Валентин попросил помочь дяде в ситуации с исчезнувшим архитектором и неоконченным ремонтом. Собирались втроем после занятий с Крестовоздвиженского съездить на Преображенский Камер-Коллежский, но добрались туда двое: Валя и Родион. Филипп оправдывался необходимостью быть за городом.
Наемные работники который день табашничали у левого, с поворотом, крыльца «психиатрички», нежась в хрупком тепле червонной осени. Доктор Вепринцев, уходя утром и возвращаясь отобедать домой, внутренне возмущенный показным коллективным простоем, но совершенно не умеющий с ним совладать, проскальзывал по крыльцу, утыкаясь взглядом в собственную трость. С трудом преодолев ступени под нагловатыми взглядами, шумно выдыхал в прихожей: «Черт знает что такое». Сегодня доктор обедал в одиночестве, подавала нанятая третьего дня кухарка. Дочь с появлением в доме кухарки стала свободнее во времени и умчалась с подругой Зосей Бочинской – авиатрисой – за город, пользуясь последней предзимней благодатью природы. И, едва доктор поблагодарил кухарку за отменно приготовленные суп с клецками и тефтели в сметане, как через двойные рамы окон первого этажа углядел племянника с незнакомцем. Вокруг незнакомца собираются рабочие. Доктор даже привстал, отложил накрахмаленную салфетку. А человек в неглубоком картузе вымеряет широким шагом двор, указывает на кованую ограду ворот, калитку, круто разворачивается в сторону сада и монастырской стены, снова меряет шагами расстояние. Рабочие гуськом, как утята за мамкой-уткой, следуют за ним. И вся цепочка возвращается к крыльцу, а тот, в картузе, берет из фартука одного мастерового инструмент и закручивает кронштейн на зонтике входа. А ведь и верно, говорит себе доктор, ведь все видели болтающийся кронштейн – и никто не прикрутил на место. Простая мысль вдруг все поставила на места и успокоила: хозяина не было. А без истинного хозяина никуда, разве с головой в разруху. Да кто же таков? Да немедленно его нанять. Да скорей бежать через ручеек Хапиловки в монастырь, посылать за Хлудовыми, за Малышевыми – пускай в ноги валятся, пускай упрашивают и нанимают. Но бежать не пришлось, в столовую вошел племянник и попросил разрешения представить выглядывающего из-за его спины друга.
– Тулубьев, без пяти минут архитектор, – церемонно произнес Валечка.
– Входите, входите. Весьма кстати!
– Тулубьев, – представился гость, шагнув через порог и зажав картуз в кулаке.
– Доктор Вепринцев, Арсений Акимович, главврач, смотритель здешний. Обедать? У нас чудеснейшие клецки. Нет? Ну хоть чаю. А ты, Валечка?
– А я буду. И он будет. Это Родька от смущения. Мы после лекций прямо к тебе, дядя. Голодные, как Тантал.
– Распоряжусь. Секунду-с…
Профессор вышел к внутренней лестнице, крикнул вниз:
– Матушки, засамоваривайте!
Валечка приобнял друга.
– Ну чего стушевался, вот познакомлю тебя с сестрой и ее клецками.
– Нет, нет, дочь на каком-то модном митинге за городом, – вернувшийся доктор жестом пригласил за стол. – Обед отличнейший. Премного доволен кухаркой. У меня и комендант нанят. И сестра-хозяйка. А сегодня жду старшего ординатора с Матросской Тишины. Дела налаживаются. Может, и вы к нам? Мы бы уж расстарались с контрактом.
– Да я и без оплаты, диплома нет… – улыбаясь и усаживаясь за стол, проговорил Родион. – Хотя, поговаривают на Москве, Шехтель – архитектор без диплома, а какие особняки ставит.
– Вот, вот. Так что же, по рукам? Я вижу, у вас получается.
– Отчего же без оплаты, дядя? Твои Хлудовы прижимистые, да при деньгах. У староверов мошна тугая. А Родька за добавочный курс платит, он из десятников в архитекторы стремится.
– Вот бы и ты, Валечка, в архитекторы. Доходное дело, – напутствовал доктор.
– Навряд ли. Если б не они с Филиппом, я б из Школы десятников ушел – не по мне. Тянет меня куда-то… может, в учители?
– Позвольте мне все же вернуться к рабочим. По поводу колера поспорили. Боюсь, не то смешают. И быстрее бы красить. Вот-вот мороз ударит. Сегодня знаете, какой день? Родион-ледогон, стало быть, вот-вот льда дождемся.
– Вот ты, друг, молчальник великий. И я-то упустил именины, и Филипп! – совестил товарища Валентин.
– День не вышел. Айда со мной колер мешать, господин учитель.
После обеда и покраски оставшихся помещений доктор долго прощался с Тулубьевым, жал руку, с удовольствием вдыхал резкий запах скипидара, извести и чувствовал прилив неподдельной радости от сделанного дела, от легкости плеч. В сумерках проводил гостя до ворот, тут вспомнил о задержавшейся дочери и о запропавшем ординаторе из главной больницы. Вечно так в жизни: чистого счастья не бывает. Видно, для того, чтобы горечь добавляла неутоленности в нем.
В полночь Евгения вернулась развеселой и уставшей, а наутро встала рано и в добром духе. Валечка на весь день засел в бесплатной Морозовской читальне на Сретенском бульваре, готовился к испытаниям по геофизике. Доктор метался между кухаркой, комендантом и санитарками, которые то и дело жаловались на отсутствие чего-либо. Женечка с улыбкою следила за суматохой в доме и размеренностью вне его: поскольку, закончив отделочные работы в помещениях, рабочие перекинулись на обустройство территории двора и сада.
Ночью поднялся ветер. Последние листья сирени и тополей враз облетели. А следующим утром весь сад открылся новому дню припорошенным инеем – как покрытый белым цыплячьим пухом. Кухарка причитала «Родион тепло гонит вон». Высокий в картузе строго-настрого велел не открывать окон из-за недавней штукатурки и покраски. Женечка радовалась за отца – вот и мастерового толкового нанял. Потянуло на мороз. Солнце вмиг побледнело, выцвело. Скоро шубы надевать. Женечка загадочно улыбалась при воспоминаниях об увиденной третьего дня за городом лисьей шубе. И ни с кем теми воспоминаниями не делилась: ни с отцом, ни с братом. В комнатах пахло краской, снизу из полуподвала поднимались кухонные ароматы теста, свежего хлеба и пирогов с повидлом – запахи неуловимого течения счастья. Через свежую сдобу даже близкий приезд умалишенных не казался таким уж страшным.
1905. Монахи
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Знаете, там – на Небесех – хронопотоки движутся быстрее. Здесь смотрим мы на безнаказанность злодейства и сетуем на несправедливость. Ищем очевидности наказаний, прилюдного отмщения. А ведь сказано: “Но суд им давно готов”. На Небесах строят развилки. Там надежды тщат. Там в отсутствие времени потоки идут скоротечней. Там решение по событию опережает само событие. А событие догоняет свой суд. И видит Троица, как сотворяется зло. И противостоит.
А причиной сим рассуждениям стоят видения неизвестной природы. Снова засиделся в секретарской до поздней ночи. Под утро легла тишина и в барских комнатах. И мне бы отправиться подремать. Да все хотелось до конца скопировать выписку с лицевого летописного свода о ногайском происхождении предков князей Ю. И, видать, сморило. Тут они и явились – монахи. Их явление предо мною всякий раз отличает видение от сна. Эх, кабы снились… Все б полезнее для умственного здоровья.
Постояв, монахи оставляют горницу. И вижу я иную будущую камарилью – мирскую. Угадать не в силах: где происходит, с кем, кого касаемо. Пляшет босой мужик в полуистлевшей рубахе, хлещет себя хлыстом. Вокруг него девки нагие куражатся, распаренные. Кажется, до смерти их бес и запарит. А вот тот же мужик рубаху поменял на шелковую сорочку, жилет напялил с тремя цепями для часов-луковиц. Зачем ему столько часов по карманчикам, время-то у всех отмерянное, считанное, лишнего не дадут. Должны останемся за потраченное впустую. Топочет мужик сапожищами, в раж вошел, вокруг него уж не девки дебелые, а дамочки столичные – статуэтки – одна другой тоньше. И вдруг вижу нож занесенный, бабенку безносую в падучей. Не сумела живот мужику вспороть, поранила, кровищи-то… Сама в припадке бьется. И гуси, гуси кругом. Гуси-лебеди. Безносую взяли в кандалы. И сидит она в каземате, суздальском ли, владимирском ли, да бахвалится, как самого сатану прирезать взялась. А по чьему наущению, на допросах жандармам не выдает. Жаждет внимания, кичится, недоубивица. Муторно мне стало. И не жалко вовсе.
А больше безносой интересуют меня те монахи, что покажутся, постоят да восвояси. Чем обязан? Чего ждут от скромного наемного письмоводца? В видениях как толмач понимаю все, о чем чужестранцы говорят. Но, как очухаюсь, ни одного слова воспроизвести не могу. И что же должен я вынести из пляски пьяного хлыстовца? Моего ли рода касается или княжеского? Не по уму разгадка.
Для соблюдения —
р. Б. Дормидонт-Мистик».
3. Самовер
Утром следующего дня после чудесного явления помощника-мастерового, а Арсений Акимович именно как чудесное расценивал появление Тулубьева, состоялся разговор с попечителями в монастыре. Сошлись на выгодности приобретения бесплатного мастера. А с жалованьем решили обождать, пущай диплом получит. Кругленькую сумму положили на счет больницы, делающей благое дело для города. Довольные на том порешив, разошлись, под ход ноги посетовав о самом архитекторе Кекушеве, занемогшем и находившемся под присмотром родни.
А по возвращении из монастыря Арсений Акимович застал необычную картину. В больничном холле, то ли в будущей гостиной, то ли столовой, расселись полукругом комендант, кухарка, сестра-хозяйка – кастелянша, Валентин и Евгения. И слушали неординарного роста, определяемого даже в сидячем положении, лысого незнакомца. Неторопливым тоном уверенного в себе человека тот продолжил говорить, как ни в чем ни бывало, хотя он один и видел появление доктора за спинами слушателей.
– Тогда воевода решил хитростью поломать раскольничью твердолобость. Приказал к утру наполнить сорок бочек карасевыми язычками. На бочку-то, пойди, тыщ сорок язычков надо. И сорок бочек. И соли. Так это налови сперва, вырви язычок у карася да засоли. Как к утру-то успеется? Братья ему в упрек: невозможное удумал. А воевода рассвирепел и велел в кандалы да в яму их за неповиновение. Голодом морил. Каждый из четверых братьев по одному отходил, да так и оставался не погребенным в той яме, пока все не сошли с земли. Воевода завидовать перестал, некому боле. Но после смерти всех четверых появились перед окнами его терема сорок бочек, полных карасевыми язычками. Испужалси. Вроде как знак ему с того света. Вскоре пришел воеводе вызов из самой столицы к государю Алексею Михайловичу. Добирались тогда из Читы до Москвы года полтора. А как предстал пред светлые царевы очи, так был отдан на милость протопопу Аввакуму. И Аввакум помнил, как его самого тот воевода мучил и как четырех братьев уморил. Воевода в ногах валялся, быстрой смерти просил. А протопоп другое ему удумал – постриг в монахи. Отмаливать. Но и постриг воеводе-мучителю не во благо. Отнялись у того руки-ноги, так он в параличе и помер. А четырех братьев почитают с той поры и по нашу пору.
Доктора заметила дочка, за нею и остальные. И все сразу подхватились по делам. Лысый, выпрямившись, действительно оказался выдающегося роста, представился:
– Тюри. С Матросской Тишины к вам, старшим ординатором.
– Бумаги с собой? – доктор пропустил коллегу вперед на пороге, а сам, приостановившись, поинтересовался у Евгении, о ком сказание.
– Об иргенских мучениках. Не сказание, а быличка, как он сам говорит. Столько ты интересного пропустил…
– После, после. Иду знакомиться.
Проводил гостя на свою половину и закрыл за собой кабинетную дверь.
– Как, говорите, ваше имя? – переспросил, щурясь на бумагу в руках.
– Тюри. Прошу на французский манер тянуть – Тюриии…
– У вас что же, французы в роду?
– Не исключено. Но к делу не относится. Вот все рекомендации. Прошу результироваться.
С полминуты открыто разглядывали друг друга из кресел с двух сторон стола в стиле сенжери[6]. На гладкой столешнице расставлен письменный прибор в виде гримасничающих обезьянок из слоновой кости. Доктор вкратце рассказал историю постройки лечебницы, перечислил имеющийся персонал, оповестил о сроках укомплектования больными. Планировалось принимать пациентов партиями и довести до двадцати пяти душ. Тюри задавал меткие вопросы, что выдавало в нем бывалого человека. Причем куда-то девалась та простоватость, с какою «пел» он четверть часа назад былину про карасевы язычки. Доктор отметил – за время службы в старой Преображенской больнице с Тюри не пересекался.
– А что вы к нам с большой лекарни да в малую? За жалованием хорошим?
– И за жалованием тоже. Вообще не засиживаюсь на одном месте. Бывало, перезимую и уйду.
– И от нас уйдете?
– Коли приживусь, останусь.
– А что гонит?
– Скука. Нового ищу.
– Да, неистребимо кочевничество в русской крови, зов орды. Хотя у вас-то французы в роду. И большим опытом обладаете по нашим особым больным?
– Немалым. Я их сперва в тюрьме наблюдал. После тюрьмы в сиделки пошел. Потом с ими на фельдшерском практикуме столкнулся. И после уж ординатором по доллгаузам.
– Позвольте спросить… э… в тюрьме в обслуге состояли?
– В сидельцах пребывал. В суздальском каземате для «безумствующих колодников».
– В Спасо-Ефимьевом монастыре?
– Точно так. Но оправдан и чист. И сама тюрьма закрыта в девятьсот пятом. Пала Бастилия.
– За что же в сидельцах?
– За драку с летальным исходом. Поповского сына забили. Не мой кулак последний, оговорили. С сектантами отбывал и с помешанными. Шалопутов повидал, молокан[7], прыгунов[8], штундов[9], мужиков-богородиц, баб-христов. С чуриковцами[10] знаком и с каменщиком-губителем. Все врут. Все на фу-фу.
– А вы какой веры будете?
– Я – самовер.
– Атеист? Из нигилистов?
– Не атеист. Верующий.
– Может, вы раскольник?
– Раскольников повидал. Но сам из самоверов.
– Так, так… Ну-с. Впрочем, у нас свобода вероисповедания. Расскажите про опыт с больными.
– В Алексеевской психичке в железе держали… В Екатерининской на «смирительные рубашки» перешли. На Матросской Тишине порошками лечат и водою.
– Гидропроцедурами? Да, это новейшее. А также идут споры о пользе введения под кожу делирикам кислорода.
– Опыты над людьми ставят?
Гость вдруг набычился. Доктор недоумевал.
– Позвольте, голубчик, медицина сама один большой опыт. Что вы, коллега, относительно гипноза думаете?
– Был у нас в лазарете один шаромыжник…
– Делирик?
– Он самый. Так тот персонал гипнотизировал. Ему все сносили свои золотые вещи: кто монокль, кто кольцо, кто ложечку…
– Вылечили?
– От гипнозу – да, быстро вылечили. Пристава привели. Оказалось, известный полиции шулер. А вот от пьянки отучить не вышло, забрали его в цугундер. А на мой счет не сомневайтесь, в сиделках долго был. Первую помощь оказывал. Фельдшером служил. С избирательным лечением знаком, строго по указанию главврача. Кое-чему обучен. Ну, а у вас тут как будет?
Доктор встрепенулся.
– Действительно, упустил сказать. У меня никакой медицинской диктатуры. Деятельный формат существования, режим, трудотерапия, вовлечение в общественно значимые события, просвещение через лекции, увещевание, убеждение и уважение. Ну и, естественно, трезвый образ жизни. Конечно, если острое состояние, в кризисе увещеванием не поможешь. Но станем подходить индивидуально и выборочно. Это вкратце кредо нашей лечебницы. Если же вы сторонник жестких методов содержания, если наши сочтете излишне мягкими, объяснимся сразу, я – не в претензии. Но тогда не по дороге. Оповещу кафедру, лично профессора душевных и нервных болезней Брусникина и разойдемся миром.
– Зачем же господину Брусникину сообщать… Очень мне, доктор, подходят ваши требования по трезвенности. В свое время много часов с «беседниками» провел, с чуриковцами. Даже в колонии у трезвенников живал, в ихнем «Обществе взаимопомощи». Папаша у меня из делириков. Но из дому я рано ушел, не при мне папаша карагодил. Беспристрастный рок беспрестанно тасует карты.
– Так что же, Тюри, выходит, сойдемся?
– То решится несколько позже того. Но теплое здешнее место мне подходит, свои не найдут, чужие не сошлют. Да куда дальше психушки ссылать-то?
Вечером доктор делился с дочерью и племянником: «Да-с… я вынес глубокое впечатление».
1905. Савва
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Голубиными шагами мыслей иду я к разгадке.
Небывалый случай – дождался! – один из монахов не ушел. Он говорил со мной не разжимая уст. А я все слышал и понимал из себя, из внутри. Мои вопросы и его ответы появлялись одновременно, нет никакой полусекундочки, никакого зазора между ними. И ответ заполнял меня всего без остатка. Он – весь я, даже больше меня, ответ и во мне, и вне меня. Как будто я бестелесен, хотя в тело обличен и границы его вижу. Просто через прозрачную ткань тела может просвечивать мебель в секретарской, через мои одежды видна ряса схимника напротив. И получается, когда я говорю с монахом, я больше, чем я, словно впитывающая субстанция.
Монах рассказал о себе. Сам он из 1390 года, а знания несет более древние. Все те, что появляются передо мной, – Хранители. Он один из Хранителей. Пока меня не посвятили в то, что же они хранят. Зовут монаха Савва, а служит он там, в 1390 году, другому монаху – Сергию, ангелу-хранителю Руси. Савва – духовник самого Сергия и братии. Игумен. Живет в Городке на реке Разварне, которая ниже по теченью Сторожей зовется. Река Сторожа столицу княжеств обороняет – Москву-матушку. И сам он, прозванный Саввою Сторожевским, строит в семь башен монастырь – первую лавру на Руси, что зазвонит колоколами своими и даст название городу на том же месте да поболе Городка. Возводит стены на горе, где ставится “опасливая стража” для стережения от неприятеля. Стены ему расписывает иконописец Андрей Иванов сын Рублёв, самолично пишет иконы и фрески “Русский Спас” и “Троица”. Через сто лет от кончины, говорит о себе Савва, обретут его мощи и при Алексее Тишайшем возвеличат. И будет так долго, но потом наступит событие, когда придет голове Саввы угроза. В тот год угроза встанет и перед княжеским домом, перед семьей Ю., где на одного сына меньше будет. Выстрел. Дуэль. Отпевание. А мне, старику на восьмом десятке, все то грозное доведется увидать. Какого же: меньшого или старшего прострелят?!
Мой горький вскрик о сыновьях спугнул монаха. И он, не сходя с места, исчез. Тотчас нахожу себя: я в своей тесной секретарской, в четыре аршина. И вот перо, вот лампа, вот скамеечка для ног и дорожный сундук с секретом – все на своих местах, все настоящее. Руки мои и одежда ничуть не прозрачны. И никаких монахов. Себе не поверить могу. Но как же не верить игумену, преподобному, “всем грешным прибежищу”? Всем, понимаете? И что я князю скажу о сыновьях его? О дуэли? Нет, такой доклад смерти подобен.
Авось монах ошибся. Обожду. И стану голубиными шагами мыслей идти к разгадке.
За сим и для соблюдения —
р. Б. Дормидонт-Мистик».
4. Лютый народ
На великомученицу Екатерину поступили семеро. Привезли их раньше назначенного часа. Доктор отсутствовал, уговаривался с двумя провизорами по соседству о поставках материалов и препаратов, а вернувшись, застал у ворот разворачивающийся санитарный автомобиль и отъезжающую пролетку. Автомобиль дунул в клаксон, вспугнул лошадей, прохожих, пересек трамвайные рельсы Коллежского вала и был таков.
Атмосфера в «смирительном доме» казалась приподнятой, персонал вышколен долгими днями ожидания и инструктажем Арсения Акимовича, мебель расставлена, обед готов на дюжину персон. Больным отведены палаты на втором этаже, который от первого отделяли запирающиеся двери с выходом на лестничный марш. Сама лестница с орнаментом из кованых лепестков казалась сегодня особенно тонко-ажурной и праздничной. Там же на втором разместились ординаторская, изолятор и процедурные с оборудованием, инструментами, с перкуссионными молоточками, щипцами Мюзо, рефлектором Минина, автоклавом. Столовую организовали на первом, забрав под нее помещение поменьше, а самую просторную залу оставили под гостиную с роялем, библиотекой и шахматным столиком. Доктор сперва хотел уместить здесь бильярдный стол, но Тюри отговорил, упомянув про случай из своей практики: Бонапарт использовал бильярдный кий в споре с Котом-Ученым, оставив последнего без глазу.
Старшая сестра милосердия спорила с кастеляншей из-за раздачи больным халатов, тапочек, громко пересчитывала комплекты постельного белья и полотенец, выговаривала молодым сестричкам за неэкономную трату марлевого материала и микстуры пустырника. Комендант, он же сторож, истопник и снабженец, жарко натопил колонку в котельной полуподвала; в палаты подавалось тепло, в умывальни – горячая вода. Персоналу разрешено оставаться на ночь во флигеле или, как в дни без дежурства, отправляться на ночевку домой. Комендант, одинокий вдовец, поселился в собственной комнате и следил за закрытием дворовых ворот, калитки, дверей первого этажа, черного хода в ночное время.
Из двадцати пяти металлических коек заняты семь: пять в одной палате и две в соседней. Приветственный ужин с добавкой яблок и пряников. В девять вечера отбой, открытые палатные двери в коридорный полумрак, где дрожит в воздухе пятно матового стекла керосинки на посту медсестры, ученически-старательно выводившей в журнале дату, время заступления на дежурство и первую фразу: «Палата на двоих отказывается спать, спутав день с ночью».
В кабинете доктора на первом Тюри зачитывает вслух из заполненных тетрадных листов. Арсений Акимович слушает внимательною спиною и одновременно смотрит лунно-снежный балет на пустынном дворе. А сад у монастырской стены с Львиными воротами смотрится в свою запущенность.
– Фамилии все переписал. Пачпорты собрал в количестве шесть, у седьмого пачпорт отсутствует, имеется лишь справка из полицейского участка. Вот, прилагаю, убирайте в сейфу. Далее. Всем составил «скорбные листы»…
– Ээ… истории болезни?
– Сии листы состряпал по рапортам той лечебницы. У никого ничего не описано по течению болезни. Новенькие как есть. Пребывание в доллгаузе от двух недель до трех. Лютый народ… Двое Ивановых, двое Кузнецовых, один Петров. Остальные не лучше. Есть Петр Иванов и Иван Петров, поди запомни. Я им клички дал.
– Нет, по прозвищам звать не годится. Будем осваивать фамилии.
– То решится несколько позже того. Осваивайте, коли надобно. А мне не надобно. Итак, первый. Съел канарейку. На птичий клей поймал. Теперь утверждает, что она поет у него в брюхе. На вид абсолютно здоров и благожелателен. Дважды попадался полиции в монастырской ночлежке. Склонен к побегам. Зовется Липкий.
Доктор в изумлении разворачивается от окна.
– Живьем?!
– Живьем. Второй. Ежедневно отмечает даты и праздники. Утверждает, что нынче день кисельных барышень…
– Кисейных…
– У него кисельных. Сообщил, что нынче именины Ермогена, чествование святой великомученицы Екатерины и памятная дата открытия Ниагарского водопада. Напряжен. Возбужден. Больно сильно активен. Ищет повод выпить. Праздник – как причина. Назвал второго Календарёвым.
Доктор поморщился и снова уставился в окно, щекою прижимаясь к дочкиной работе – жаккардовым гардинам цвета перванш.
– Третий номер считает себя черепахой. Ищет темноты, просит капустного листа. Временами ползает на четвереньках, пятится. Крестится одним пальцем, иаковитскую ересь исповедует. Верует в какого-то Барадея и Иакова. Изымался урядником из опиумного притона. Расслаблен. Потерян. Рассеян. Склонен к суициду.
– Совсем мизерабельный?
– Как есть. Так пусть Черепахой и будет.
Доктор утвердился: прозвищам надо противостоять. Прозвища унизительны и противны самой сути свободной человеческой натуры.
– Четвертый. Поэт…
– Поэт, как хорошо!
– Убийца. Убил музу, свои сны, амбиции, вдохновение, совесть, память и плюшевого медведя дочери. Медведь приходит к нему во снах и спрашивает, есть ли у него совесть, а он не помнит. Грозится медведю вспороть живот наново. Ревнует к дочери. Ночами бредит. Холерик. Поэт так и будет Поэтом.
Доктор поежился. Но сквозняков нет. Рамы плотные, двойные, на каждой продумана витая медная ручка, напоминающая тот же растительный орнамент межэтажной лестницы.
– Пятый номер. Солдат. Устроил драку. Из-за подушки повздорил с шестым номером. Сестрички объясняли, подушки одинаковые – всем на гусином пуху. Нет, говорит, я в свою подушку верю. И нюхает. Порохом, говорит, пахнет. Страдает галлюцинациями. Недавно состоялся разъезд супругов. Точная дата разъезда неизвестна, но с того времени впал в непрекращающийся запой. Назван Чуйко.
– Почему Чуйко? – спросил доктор через плечо.
– Это его фамилия и есть. Легко запомнить. Следующий. Шестой. Ямщик из-под Калуги. Подрался с солдатом Чуйко. В Москве с малолетства. Нечист на руку. Вот он как раз Иван, у них в деревне все Иваны. Потому их по цвету различают, Рыжий Иван – Красненький, брюнет Иван – Черненький. А он зовется Ванька Мани Туды-Сюды Вани Мурина. Это все одно имя. Ну, запомните, Арсений Акимович? То-то и оно. Тут и мать его и отец указаны. Ванька Мани Туды-Сюды Вани Мурина будет зваться Ямщиковым.
Доктор убеждался все больше в житейской опытности и смекалке Тюри.
– И последний. Верстальщик из типографии. Старовер. Пачпорт изрисовал каракулями. Невеста оказалась иоанниткой[11], на этой почве, похоже, и съехал. Через бабу. Любовью живу, говорит, хоть ееная любовь жисть спортила. Перенести глумление иоаннитки над его старой верой и впадение в ересь из-за митрофорного протоирея не всякий может. И я с отцом Иоанном Кронштадтским встречался на исповеди…
– О том позже, голубчик Тюри. Не до ваших быличек.
– Можно и позже. Назовем его Метранпаж. Все. Семеро. Банк.
– Драчунов в разные палаты определили?
– Точно так, к солдату подселили Поэта.
– Даа… что не делирик, то романтик.
– Лютый народ…
1905. Висельные письма
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Жить с ощущением близкой беды мучительно. Окружающие твоих страхов не разделяют: либо отмахиваются, либо обидно вышучивают. И вот ты один на один со своими протознаниями. Сообщенное мне монахами о дуэли держу в секрете, хоть молчание и неимоверно затруднительно. Изредка издали вижу “гарцующих” наследников, балагуров, сменяющих смеха ради военные мундиры на русский расшитый жемчугом сарафан, лохмотья христорадников – на женские платья-комбинации по последней парижской моде, вычисляю: кто же, кто из них отойдет первым?
К тому же занимает меня необъяснимый факт существования в нашем времени другого времени, ушедшего, словно одно в другом, как в матрешке. Мне, внимающему, давно почивший, но живой монах повествует одновременно и о своем прошлом, и о своем будущем, которое также есть сей час давнее прошлое. Во мне близко звучит его история о создании первой лавры, об обретении его мощей и о разорении его праха, отделении головы от тела. И как подобное мгновенное многовременье возможно? Проникновение одного в другое в одночасье. Или времена всегда одинаковые на дворе, да мы не все из них при том видим? Все строится и рушится одновременно. Объяснить ничего более не умею.
Если я должен донести до князя касающиеся его скорбные сведения, как самому при том остаться целу? Письмоносец поневоле. Когда почтовый повоз в русских землях сменился ямской гоньбою, на пустом месте, где ямских станций не учредили, там взялись за дело монахи. Монахи держали “несговорчивый кабинет” и почту. Если оставить при себе послание монахов, не будет ли то с моей стороны нарушением почтовых правил? “Спеши, гонец, спеши!” – эта шутливая фраза аристократов с пририсованной виселицей стала смертоносной для гонцов. В самом деле, я же не почтовик, доставляющий висельные письма! Пририсованная к письму виселица напоминала гонцу о его долге. Но в чем тут мой долг: в умолчании или доставке?
Пока лишь утвердился, что одно из времен подступающих есть чу́дище о́бло, озо́рно, огро́мно, стозе́вно и ла́юще. Оно разорит княжеское гнездо, разлучит семью. Гробы членам семьи княжеского дома будут заказаны у иностранных гробовщиков. Выжившего из братьев – кого же? – вовлечет в такую гибельную воронку и череду смертных грехов, что ушедший не позавидует. Ох, ох, что же за времена наплывают. И тут…»
5. Лисья шуба
Запах вошел первым; керосин не спутать ни с чем, он и касторку забил, и аромат гиацинтов. После комнатная дверь впустила мех – длинную полу когда-то шикарной лисьей шубы. И лишь потом, одновременно с голосом, появился в комнате весь фейерверк манер, пластики и пантомимы под именем летчик У. Ф.
Знавшие У. Ф. ни на йоту не удивились выбору им летного дела. Скорее их удивление возникло бы при слухах, что У. Ф. сделался бухгалтером заготконторы, присяжным поверенным, десятником строителей или, что уж вовсе невозможно, держателем прибыльного бизнеса – погребальной конторы. Но нет, в авиаотряде воздухоплавательного общества «Огнеслав и Ко» он вполне оправданно прослыл завсегдатаем летного клуба и авиационных митингов.
На сегодняшнем авиамитинге ожидалось показательное выступление основного авиаотряда «огнеславцев». Акция загодя готовилась с тщательными репетициями, проверкой техники и подбором участников. Собрались вместе авиаторы, публика и, наконец-то, выправилась программа. Погода дозволяла. Выстроены дополнительные открытые трибуны – народу из города набралось порядком; в комнатах летного штаба накрыты столы с шампанским и мороженым от «Мартьяныча». В ровном ветре вьется прирученное мачтой полотнище флага. Новичков к участию в показе не допускали. Но летчик У. Ф. неосторожно назначил в день показа свидание на летном поле одной интересующей его особе.
Когда впервые встретился с нею глазами, ему страшно стало. Потом так странно делалось им обоим: в толпе или просто кучке людей на акциях «Огнеслава» они часто выхватывали друг друга взглядами: сначала случайно, а после уж и нарочно выискивая знакомое лицо. Он заговорил первым и из того минутного разговора понял: барышню зовут Зосей, она дочь состоятельного родителя, и сама не чужда летного дела. У. Ф. едва успел начать знакомство с подходящих фраз, как собеседницу окликнули по имени.
– Зося!
– Да, папа.
– К «Гномам».
Девушка в «летной» куртке и кожаных штанах ловко приподнялась на ступень «Фиат Зеро» и, отъезжая от здания клуба, резко выкрутив руль, махнула новому знакомцу. Он неожиданно для себя дернулся, побежал за авто и через ревущий мотор крикнул: Филипп Удов.
Филипп слышал про французский завод «Гном-Рон», выпускающий в Москве авиационные семицилиндровые моторы. Стало быть, отец черноглазой барышни имеет дело с французами.
В Школе десятников преподаватели, слушатели и, конечно, его друзья, Петров и Тулубьев, стали замечать примесь касторки и керосина при появлении Удова в аудитории. Что он только не делал со своей одеждой: вымачивал, проветривал, утюжил. Мать его – подбитая тапком мышь – прокладывала белье лавандой и листами герани, но от белья по-прежнему несло смесью касторки и керосина. И нужно было что-то отвечать на прямой вопрос Родиона, тот всегда излишне прям, до резкости:
– Касторовое масло? Ты в шоферы подался? Бросаешь Школу?
Тут же вступил Валентин, вечный примиритель:
– Ну почему бросает? И почему шофер? Может, провизор?
Все трое рассмеялись, провизором с колбочками и пробирками Филиппа никто не представлял и сам он себя тоже.
– А ты, Апостол Петр, скандалов боишься больше неуда по тригонометрии.
И тут же снова Родион с пристрастием к Филиппу.
– Женщина? Признайся, все дело в женщине?
– Тулубьев, ты излишне недипломатичен. Просто надо искать перспективу. А нынче перспектива в воздушном пространстве. За авиаторами – горизонты будущего. Одноместные аэропланы скоро будут у каждого человека. И человек с крыльями сможет покрывать расстояния в тысячи верст за какие-нибудь полчаса. А я знаете какие фигуры стану исполнять? Ого-го! Как заложу вираж…
– А синица в руках лучше.
– Да, Валечка, Школу десятников не брошу. Специальность почти в кармане. Было бы глупостью. А в глупости Филипп Удов никем не замечен.
– Так откуда же касторка и керосин?
– Валечка, ты как дитя. Касторовое масло не высыхает. Его доливают в топливо, им смазывают узлы и сочленения. А керосин, скажу я вам, оказался довольно въедливой штукой.
После того внезапного выяснения обстоятельств меж троих сложился молчаливый уговор не касаться авиационной темы до выпускных испытаний. Было понятно: Филипп укрывает новое и отходит от старой дружбы, по-прежнему числясь в лучших учениках Школы десятников.
Запах вошел первым; керосин не спутать ни с чем, он и касторку забил, и аромат гиацинтов. После комнатная дверь впустила мех – длинную полу когда-то шикарной лисьей шубы. И потом, одновременно с голосом, появился в комнате пилот Удов. Так передала Филиппу его появление Зося, приняв букет и знакомя его со своей подругой:
– Женечка.
– Евгения Вепринцева.
И вместе с движением вперед, с шагом от стены, навстречу протянутому цветку гиацинта заволокла его влажная поволока сине-голубых глаз. Сине-белый рисунок бисера на складках аметистового платья, блеск синих камешков в мочках ушей и лазоревый цветок в руках составили картинку из яркого пятна на фоне скучных деревянных стен в секции почетных гостей клуба.
– Филипп Удов, испытатель и авиатор.
Будто Филипп Четвертый Красивый, сын Филиппа Третьего Смелого из династии Капетингов представился. И что же? Кто его может упрекнуть? И как приятно быть на кураже.
После состоявшегося знакомства подруги устроились у вытянутого в стороны, словно амбразура, окна. Вся открытая площадка мельтешила людьми. Высокое солнце чуть задето сизыми облаками.
Удов, сославшись на участие в четвертой «двойке» и ретировавшись, прохаживался в шубе, шлеме и летных очках по кромке поля, поглядывая на две хорошеньких головки в амбразуре гостевой ложи. Здесь внизу гремел «Коль славен» в исполнении приглашенного городского оркестра. Удов, прохаживаясь, судорожно искал выход. Как выкрутиться, ведь после двух пробных полетов на аэроплане с инструктором к участию в авиамитинге ни под каким видом его не допустят.
Черные глаза насмешливо провожали его, будто зная о Филиппе Удове несколько больше, чем он о себе выставил; сине-голубые проводили благосклоннее и с искренним интересом. Он не мог проиграть чужим ожиданиям. Стало быть, нужен выход, нужен решительный бросок, поступок, жест позитуры[12]. Нужно просто сесть в любую посудину с запущенным двигателем и вырулить. Все равно перехватят. Решено. А там пусть судят за самоуправство. Или он победит и не будет судим. Девушки правы, как идет ему летная форма, как ладно сидит комбинезон, шлем, очки. Всегда важно хорошо выглядеть, это составляющая успеха.
От «решенного угона» с возможным фиаско его освободило вмешательство силы большей, иного порядка, чем человеческая. Ровно на вылете второй «двойки» забегал у линии старта телефонист со сведениями телетайпа о резком изменении погодных условий. К телефонисту в кучку прибились инструкторы, техники, пилоты, сигнальщики. И действительно, буквально у всех на глазах в считаные секунды багряные лучи превратились в пыльно-розовые и вскоре вовсе исчезли под плотным серо-снеговым надвигающимся маревом. Мачтовый флаг зароптал, вырываясь с флагштока. Окошко-амбразура в клубном здании захлопнулось с сухим стуком.
У Филиппа груз с души, как вода с решета; рассмеялся в голос, рядом даже кто-то обернулся. А что – решенное дело. Вот Родион-Ледогон помог. Все привычно разрешилось без усилий. Глупо признаваться двум красавицам, что ты всего лишь учишься на десятника. Как это прозаично: школяр, строитель. То ли дело авиатор. Оркестранты с трубами потянулись вереницей в здание штаба. Полеты отменили, но угощения никто не отменял. Удову оставалось сдать шубу знакомому пилоту, и можно, как не развенчанному герою, влиться в общее веселье на приеме «Огнеслава». И запах теперь сработает на него. Идя к эллингам и кутаясь в лисий мех, спросил себя начистоту, по-тулубьевски: Финичек, и что, угнал бы аэроплан? И сам же себе ответил: угнал бы. Разогнался бы, приподнялся хоть на два фута, а там… И жизнь пошла бы совсем другою траекторией. Или вообще оборвалась.
На следующий день газеты вышли с репортажем о воскресных полетах. Сердце просилось вскричать, я там был. Но острая зависть срезала: фамилия Удов не звучит. Кругом Сикорский, Сикорский… «Утро России» рассказывает, самый интересный номер воскресного авиационного дня – полеты на побитие всероссийского рекорда высоты – из программы состязаний был выкинут. Авиаторы ссылались на облачное небо, которое закроет их от публики, на сильные воздушные течения на высоте свыше 600–700 метров, на испорченные барографы и лететь не желали. Удивительно хороши фигурные полеты, победителем в которых оказался Жабер на «Блиндермане». Интересен перелет с аэродрома на Поклонную гору, в котором принял участие все тот же Сикорский. Один пилот на обратном пути заблудился и долго носился почти над самым городом в непогоде.
1905. Тясицу[13]
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Прошлую запись вынужден оборвать, не дописав фразы и подписи не оставив. Чуть было сызнова не попался за крамольным делом. Вызван к князю на деловой тет-а-тет: оказалось, ожидается с визитом японский архитектор, разговор с коим необходимо стенографировать. Уговорились как прежде: дверь секретарской в Гобеленовую приоткрыть. Для лучшей слышимости. Ох, не подхватить бы инфлюэнцу. Сквозняки во дворцах – те же непременные атрибуты, как мыши, коты и привидения.
Он снова приходил. Нет, не японец, а монах Савва. Я держал в уме вопросы, ждал его. Но в присутствии одеревенел и позабыл начисто. А он неотворенными устами передавал знания о своем времени, как хорош и чист был воздух его лавры на Сторожи, куда из Москвы вел царский тракт, дорога богоизбранных. По той дороге не один век будут приезжать на поклон все русские правители к его смиренному безжизненному телу: князья великие, цари с царицами, императоры и императрицы. Войдут в его подворье, склоняясь, как простолюдины, въехать не смогут: надвратная арка намеренно низка.
Савва передавал, не отворяя уст, не отводя глаз. Не одно лишь пограничное дело исполнялось монастырем на Сторожи. Там и обучали, и исцеляли, и иконы писали, и парсуны малевали, и книги рисовали кистями да перьями, там давали приют сиротам, там разбойников постригали в монахи. И каждый час там беспрерывно молились, не обрывая молитвы ни днем, ни ночью, ни в зной, ни в стужу. Хорош был монастырский воздух, да весь вышел. Нет, сам монастырь, может, и видится по-прежнему вам семиглавым на холме, но духа больше в нем нету, благости нет. Ушли из него монахи. Псеглавцы[14] их изгнали, кинокефалы с красными звездами на шлемах-буденовках. Прервали непрерывную молитву. Я живо представлял себе по рассказам монаха Саввы псеглавцев, видал их на образах. Но представить буденовки не мог.
Да, а стенографировать пришлось договор о тясицу – чайном домике в японском стиле, который готовится в подарок княгине. Речь идет о постройке в Таврической губернии, в урочище села Коккозы. Строительство тясицу неподалеку от летней дачи должно вестись тайно, так, чтобы принимающая морские ванны княгиня ни о чем не догадывалась. Сам чайный домик изнутри украсить древними изречениями. Садик возле тясицу устроить таким образом, чтобы, прогуливаясь вокруг дачи, княгиня неминуемо вышла бы на тропу с фруктовыми деревьями, количество и разновидность которых должны нарастать по мере удаления от дачи и приближения к чайному домику. Тропа пускай бы привела к сводчатому берсо[15], обвитому лианами винограда. Одно берсо переходило бы во второе и третье. Вдоль дорожки устроить фонарики и, наконец, у порога – питьевой фонтанчик. Вход в домик оставить в японских традициях – низким, чтобы всякий входящий из гостей хозяйки, склоняясь, терял свою спесь, гордыню и воинственность. Чуть было не написал, ну, прямо как у Саввы в монастыре. Вовремя удержался. Причем тут Савва? Подарок должен быть утаен до именин княгини по осени. Задаток выдан. Вторая часть суммы по факту предоставления проекта, третья после постройки. Две подписи под договором.
Князь Ю. и архитектор остались довольны друг другом. Японец, уходя, похвалил не гобелены, не коллекционный фарфор в горках, не сами сандаловые горки за ценность породы дерева, а естественный полумрак Гобеленовой; всякому японцу дорога похвала тени.
За сим и для соблюдения —
р. Б. Дормидонт-Мистик».
6. Расписание лекций
Валентин у себя в комнате, через стенку с дядиным кабинетом, возился с расписанием лекций. Когда доктор предложил всем желающим читать лекции больным, его поддержал один лишь Тюри, готовый вовсе не сходить со сцены. Валентин сорвал с двери косо приколотый канцелярской кнопкой обрывок: «Тюри ежедневно, в три часа пополудни, в столовой». И расчертив лист писчей бумаги твердой, поставленной рукою, кропотливо выписывал вензелями новое расписание.
Каллиграфически выводя буквы и орнамент по углам, думал о покинутом доме у моря. Ведь в Москву он поехал за-ради матери. Как не стало отца, мать взвалила на себя ворох хлопот по имению и двум виноградным плато по обе стороны Аю-Даг. Валечке казалось, правильнее сыновний долг исполнять возле матери, взять на себя трудности, ранее не ощутимые, а с уходом отца вдруг вылезшие таким числом, что непонятно, как они прежде решались одним человеком. Нет, конечно, имелся управляющий и нанимались рабочие из местных, которых отец ценил, обучал, выпестывал из них специалистов по винодельне. Но узел всего большого прибыльного дела зажимался в отцовой пятерне. Теперь же мать ездила то морем, то сушей с одной стороны горы на другую, поднималась в зной на мыс Кучук-Аю по древним генуэзским ступеням, ночевала в летних домиках на пути, задерживаясь на плантациях по нескольку дней. Прежде она не вникала в дела мужа, что-то на слух переняла, но важное упустила. Никто не был готов к его скоропостижному уходу: отец – не в годах, подтянут, строен, красив и вот стал задыхаться. До последнего дня возился с землею, саженцами, спускался в винные погреба, еле-еле выбираясь из мрака подвалов наверх. Дышал часто-часто едва отойдя на сто метров от дома, ища опору то в каменной стене, то в дереве. Валечка и мать не придавали большого значения той одышке, да и чередовавшиеся врачи из местных и отдыхающих не били тревоги – мол, виною жара, пройдет. Однажды лишь, может, месяца за два до отцовой кончины, Валентин осознал, как папа плох. Валя тогда познакомился у «гигантских шагов» с милой барышней из арендованной по соседству дачи, и вся благость беглого их знакомства рассыпалась вдребезги, как стеклянная рюмочка под яйцо тем утром. Мать из глубины сада совершенно безмятежным голосом зазывала: артишочек мой, где же ты, догоняй. Зрели абрикосы и инжир. Тонко пах анис и смородина. А отец, бледный, иконописный, не двигался, вжимаясь лбом в теплый пористый туфф стены. Он не плакал, заплакал Валечка, не показавшись из своего укрытия. Спутница, увидев странного человека, ощупывающего стены ладонями, и услыхав сдавленные рыдания юноши, тотчас исчезла. И имени не запомнил.
Так бывает, сильный и крепкий, непоколебимый в той силе и крепости, на твоих глазах превращается в хилого и хворого, в малого, почти ребенка, а ты сперва не видишь, а увидев, помочь не в силах, упустил и опоздал. Перед отцовой смертью состоялось свидание в больничной палате. Валентин с матерью приезжали навестить больного в Ялтинском лазарете. В отдельной комнате, солнечно-белой, сверкающей счастьем невыносимо-яркого летнего дня отец бодрился, утешал их, корил за «потерянные» лица. Он сидел на больничной койке – а больничные койки во всем мире одинаково сиротские смертные челны – сидел, упираясь руками в металлический край, болтал худыми ногами, мальчишка-старичок. А когда они уходили по прямой дорожке посадок, оглядываясь на окно третьего этажа, где стоял отец, то никому из них, уходящих, не пришло в голову – в последний раз, в последний раз. Только вдуматься – в последний. Они бы, наверное, не ушли, коли бы догадались. Отец тогда приподнимался над землею, выше и выше третьего этажа, расставаясь, теряя земное притяжение. А они не поняли. Их после того визита в лечебницу и разговора с доктором – ялтинским светилом – настигло успокоение: ну, теперь-то помогут. Все не могли уйти… Но ушли же.
Слоеное море смеялось даже вслед похоронной процессии, вслед черному крепу подолов и платков. И казалось, над кладбищенским черным габбро тоже смеялось солнце. На праздниках и именинах часто не договаривают, стесняясь выказать всю любовь к человеку. И только на похоронах воздают сполна, ощутив размеры той пустоты, что занимал ушедший в их сердце.
Около трех лет прошло, а вспоминать страшно. И материно решение ехать сыну в Москву к ее сводному брату пересилило Валечкино желание остаться и быть рядом. Мать не хотела запустения дела Оленевых-Петровых. Она задумала выстроить на побережье несколько дач и сдавать их в аренду, как делают соседи, не погружаясь в ворох сложных хлопот с винодельней, виноградными плато и курсами подготовки виноградарей. Руководить строительными работами по задумке матери должен сын. И Валечка по достижению двадцати лет был выписан в Москву к дяде для поступления в Школу десятников.
Евгения состояла с тетей в постоянной переписке и ловко обходила тему переезда и тайны нового дома. Мать Вали не знала про лазарет для алкоголически запущенных. Жизнь ее единственного сына среди делириков всеми скрывалась. Валентину здесь, на Преображенском, даже нравилось: свой дом, свой сад, монастырская стена с лежащими в воротах львами. Правда, сад занесен тонким слоем первых снегов; у каждой снежинки в мире свое дело. Но воля, воздух окраины, перспектива взгляду до рощи за ручьем Хапиловки, близкие монастырские звоны радовали и не тяготили так, как жизнь в центре с раздражающей толчеей, теснотой, нервной конкой, уступавшей трамваям.
В больничном особняке уживаются два мира. Здесь устроен порядок сопроникновения лазарета и домашней обстановки. Дядя поглощен подопечными, кажется, как предметом изучения для научной работы. Сестра несколько смущена атмосферой, побаивается отцовых полубеспокойных пациентов. Но в то же время Валентин замечал, как Женечка – душа его детства – умеет помогать отцу в миссии облегчения страданий боровшимся с недугом. Опасается и жалеет. А к иным они с Женей испытывают брезгливый интерес, как например, к Липкому. Не верилось, будто тот съел живую канарейку. Ну, допустим, кенаря. Так все одно же съел? Одни лапки остались. Истории попадания в дом умалишенных, основания, доводившие нормальных людей до хроников, горьких пьяниц, волновали и притягивали невозможностью осознать причину добровольного самоуничтожения.
А чем утвердиться-то им? Удивлялся он на таких смельчаков. Ничего не боятся ведь. Ничего. Нужна большая смелость, чтобы вот так на себя, на родных, а, значит, на мир Божий махнуть рукою, отменить замысел о себе. Неповиновение идее. Но пустое и бессмысленное. Смелость быть незащищенными. Или вовсе не смелость, а дурость? Или их добровольное опрощение – сам замысел и есть? Нет-нет, невозможно. Писание к другому призывает. К любви. К милосердию. К гуманности. Не ко греху. И вот они загнивают, язык у них распух, есть не могут. От еды отказываются, мало-мало потребляют, перегорая нутром. Жалуются на сухость во рту. Языки у них к нёбу прилипают. Дядя ставит диагнозом ксеростомию[16], напирает на гигиену рта. Удивительно, что столь взрослых и повидавших жизнь людей приходится заново, как гимназистов первой ступени, учить чистить зубы. Тюри ухмыляется, ксеростомию отвергает, ставит им диагнозом – ломку и горячку, абстиненцию. И полагает, что через сухость рта, отсутствие слюны можно выявить ложь, узнать степень виновности человека, как делалось то в Средние века: пересыхают у них губы, стало быть, волнуются, а волнуются, стало быть, изворачиваются, а изворачиваются, стало быть, лгут. Дядя вступает в жестокий спор со старшим ординатором, твердит, что не допустит инквизицию; впрочем, все споры кончаются миром – одно дело делают, хоть и с разными подходами.
Делирики не разумеют, что по их поводу идут дебаты. Одни из них пребывают в спячке, другие – в неимоверном возбуждении. Ищут способа потушить «пожар». Рыщут, мечутся, а пусто внутри. Что же зашито в теле человеческом помимо селезенки и аппендикса, помимо подлости и скотства, что? Тюри по утрам проводит с пациентами гимнастические пятиминутки. Дядя дает порошки, микстуры, ведет долгие разговоры о режиме и гигиене. А душа? Кто души им вылечит? Ведь не верят. Ни во что не верят. Люди есть чепуховина. И все ж таки жаль их.
Женя спрашивает у Поэта:
– Нет ли у вас новых стихов?
– Новых не делаем, делаем старые.
Поэт пугает Женечку, встает напротив, близко-близко, спрашивает на «голубом глазу»:
– А вам, Евгения Арсеньевна, не страшно сойти с ума?
Пациент Календарев всех с праздниками поздравляет. У него каждый день повод выпить. Нынче намечает справлять «День избавления Державы Российской от нашествия галлов и с ними двунадесяти языков», это он про наполеоновское войско. Вот теперь, утверждает, последний мирный год настает – 1913-й; надо отметить. Да кто же пьянице поверит? Откуда войны ждать? Россия на таких крепких рельсах стоит: корабли со стапелей спускает, загоняет в небо аэропланы, дирижабли и стратостаты, строит проекты по прокладке подземных скоростных дорог. Ничто не указывает на близкий крах. Или хочется так думать, что не указывает. Сплетни о царе с царицей и правящей семье из газет и даже от того же Тюри навязчиво настигают повсюду. «Все врут. Все на фу-фу», как говорит Тюри. А сам ту грязную «стряпню» тащит в дом и вечерами в столовой пропагандирует, собирая возле себя неизменный кружок слушателей: коменданта, кастеляншу, старшую медсестру, санитарок, а то и кого-то из пациентов. Послушать «былички» Тюри, так всюду гниль, разврат, амикошонство, растление.
Из историй старшего ординатора выходит, будто всюду в жизни города, на каждой чиновничьей ступеньке, во всяком бюрократическом кабинете с приемной понатыканы мздоимцы и каннибалы, готовые людишек пачками жрать, искусственно сотворяя смуты и войны в одну лишь собственную угоду – торговля оружием, опиумом, медикаментами, военным сукном: незыблемые законы купи-продай. И если на самом деле так, то дядины больные, патологические делирики, по сравнению с «вершителями судеб» есть человечнейше гуманные существа. Они свою жизнь заедают, да родным знатно отравляют существование. А те-то, те… Те поедают по одиночке одного за другим опасных, перешедших им дорогу, те травят скопом «черемуховым газом», те отравляют враньем, душной атмосферой праздных гостиных, где за светским разговором и бокалом коньяку выносят приговоры целым поколениям. Таковы убеждения Тюри. Нельзя поверить. А если пытаться смотреть на мир чистыми глазами, так и мир станет чист.
Дядя после празднования Рождества и Нового года ждет поступления новых больных вдобавок к первым семи. Женечка готовится к рождественскому балу у Телешёвых и вдохновенно шьет модный наряд с «хромающей юбкой». Повсюду с двадцатых чисел декабря начнутся рождественские празднования, вот и Школа десятников распускает учеников на каникулы. Удов, Тулубьев, Петров не разъезжаются, по-прежнему вместе.
Вале кажется, редко-редко, на раз-два, бывают, такие люди, каким рядом других людей не нужно. Не в смысле обиходном, а в сердечном. Они самодостаточны до одиночества, самоизбыточны до полноты. Вот такой Родион Тулубьев. Человек-одиночка, но не бирюк. Совсем другой Филипп – жаркий, крылатый, не выносивший одиночества. Филиппу всегда требуется отражение, и кто-то должен каждую минуту быть его зеркалом. Два взрослых человека, две души в том возрасте зрелости, когда, кажется, новых верных дружб не заводится. И вот тебе факт – их десятницкая крепкая дружба.
Приближаются праздники. Почему же так тоскливо и подспудно тревожно? Газетной ли требухой вызвана мрачность, зыбкой ли, пограничной атмосферой в больничном доме? И никого из рядом радующихся, предвкушающих празднество, не хочется омрачать призрачными страхами. «Всякого люби и каждого берегись», посмеиваясь, утверждают дядины хитрецы Хлудовы. Так и есть, так и есть. Так было, так есть и так будет. Все внутри человека. Все Царство Божие. Вся преисподняя.
Однако вот и орнамент расцвел в четырех углах. Расписание приведено в долженствующий вид. Остается прикнопить к притолоке в столовой на общее обозрение.
Понедельник – «О пользе трезвости», Тюри
Вторник – «О двенадцати апостолах», Валентин Петров
Среда – «О редких марках и филателической удаче», доктор Арсений Акимович
Четверг – «Архитектура ар-нуво», Тулубьев
Пятница – «О пользе трезвости», Тюри
Суббота – «О русской вышивке набором, списом, стланью», Евгения Арсеньевна
Воскресение – проповедь священника о близком конце света
Вот вам и вся жизнь: конец света и приближение праздника.
1905. Блуждающие
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Князь с княгиней вскорости собираются в путешествие. Отсюда, с Мойки, едут в Захарьевское – в гвардейский полк в подчинении князя, в Красное село, затем в Архангельское, в саму Москву, а после – Крым, в Коккозы. Объезжают имения. Мальчики нагонят их позже, каждый в свое время в своем месте.
Ваш же покорный слуга дальше станции Мартышкино за весь почтенный возраст никуда не выбирался. Но и Дормидонт может назвать себя завзятым путешественником.
Поразительное дело, читая Символ веры вслух или про себя наизусть, каждый раз пускаешься путешествовать в вечности, в неисчезающей древности, к шести дням создания мира, к не протухающим истинам, к истоку, к точке взрыва,
где ты учишься веровать – Господи, помоги моему неверию, – и созерцаешь образ Вседержителя, Творца всему видимому и невидимому, образ Марии Девы, воплотившей Сына,
где ты идешь за Сыном вочеловечившимся на допрос к римскому прокуратору – Понтийскому Пилату,
где наблюдаешь страдания распятого Христа (гвозди, уксус, копье) и погребение, за которым встает в третий день Воскресенье,
где будто надмирный пир идет, на котором Сын Человеческий сидит справа от Отца и неподкупным Судией судит живых и мертвых и меряет их поступки на весах добра и зла, а Царствию Его нету конца,
где Дух Святой, какому поклоняются, как и Отцу Миров и Сыну, Единице в Троице и Троице в Единице, разговаривает с тобой через пророков,
где веришь ты во всемирность и соборность святой апостольской церкви,
где принимаешь единокрещение для оставления грехов своих,
где ждешь восстания мертвых, вечноживых родных и близких, глядящих на восток, и где чаешь прихода невероятного, сквозь времена и расстояния, города и империи Будущего Века.
За сим недостойный путешественник,
капля, колючка, крошка, песчинка,
р. Б. Дормидонт. 1905 г от Р. Х.
Да, упустил, во владении князя и княгини Ю. три завода и рудники, пять дворцов и пятнадцать доходных домов, тридцать имений с усадьбами – шутка ли. Имущество требует инспекции. Ну, а на мой, плебейский, взгляд, или ты его или оно тебя. Имущество – это прорва, гидра безжалостная, уймища, бездна, гибель».
7. Ножницы
Сестра-хозяйка или, по-иному, кастелянша есть старушка любопытствующая, ни один узелок не пропустит, ни одну сумочку, ни котомку, ни шубейку. Пальто и калоши пересчитает – сколько в доме нынче народу, кто тута, кто тама. Каждого из насельников по головам пройдет, на месте ли, каждого из домочадцев отследит, возвернулся ли к ночи. Прежде чем спуститься к себе в комнатушку полуподвала, дверь уличную всякий вечер проверяет: на засове ли. Окна, фортки, ставни. Свечи погашены ли, лампадки у икон. Ворчит, бурчит на последним пришедшего. Комендант грызся с ней, что сам двери запрет, его обязанность, неча тут топтаться. Старушка для виду согласится, да через четверть часа за комендантом проверит. Ей уж и ответят, кто рядом оказался, – заперто! Она все одно сама убедиться должна. А то и прежде коменданта запрет и скажет, ключи потеряла, да где ж они? «Под левой сиськой», – рявкнет комендант и отопрет двери, даже если через пять минут сам же снова и закроет. Кастелянша и в дела старшей медсестры лезет, та с жалобами к Тюри. Тюри приструнит старуху, да ненадолго. Все ниточки должна в цепких пальцах держать. Не старушка, а урядник. Авторитетов для нее нету. Так из любопытства и докучливости вся жизнь ее складывается.
Кастелянше доставало любой реплики в ее сторону, и она тотчас заводилась. Из всякой мелочи разжигала жар скандала. Даже и простейший бытовой вопрос: наливать ли вам супу – немедленно приводил ее в неистовство; она презрительно фыркала, строила гримасу наисильнейшего недовольства и разражалась тирадой возмущения, как будто бы ей в супе, напротив, отказали.
Говорят, у себя дома она кляла всех подряд из родни, скопом семью, каждого в отдельности, картинно заламывала руки и, запрокидывая голову в потолок, причитала: нулем сделали, кто я для них? Нуль полнейший. Из вредности нанялась в смирительный дом по соседству и здесь обрела наконец значимость: домашние приходили раз в неделю ее навестить, а она ходила к ним в гости «на чай», тут неподалеку, в глухом Фигурном переулке в один дом, напротив единоверческого храма – наведывалась с проверкой, все ли там у них дома без нее как надо. А в больничке, несмотря на сварливый нрав и скандальность, пользовалась покровительством доктора. Доктор ценил старуху за порядок в хозяйстве.
Кастелянша всех вокруг подчинила себе, а не сошлась лишь с Евгенией, докторской дочкой. Критиковала и подвергала сомнению всякое Женечкино предложение по празднованию Рождества и Нового года в «Доме трезвости», как называл Преображенскую больничку Тюри. Женя сперва спорила, отстаивала, доказывала. Потом попросту решила делать по-своему. Старуха разорялась на весь первый этаж:
– Никому ничего не надо. Никакого порядку. Грецких орехов требуют, лошаки стоялые. Ловриды, дети иродовы.
Женя изумлялась:
– Ужасные у вас злобы. А я вот сегодня отложила шитье и с четверть часа на мотылька смотрела… Крылышко с перламутром как у ракушки. Век бы сидеть над былинкой или муравьишкой каким, и пробовать разгадать, как он понимает мироздание.
– Ну, есть чем похваляться-то… пустяковиной! – возмущалась старуха.
– Бывает такая мелочь, пустяковина нерукотворная – что важнее всего: гимна, флага, закона. Тень, промельк, пушинка, семечко-вертушка, знак Небес. Наивность иногда встает выше насущности и являет грандиозность замысла Творца о всякой твари.
Кастелянша пуще прежнего возмущалась.
– Именно что твари. Лодыря одни тута. А моль надобно прибить! Что глазеть-то…
– Большой такой мотылек, почти бабочка. Между рам. И все думала, на волю его выпустить, но там холод – верная гибель, или в неволе держать до весны? Отворила рамы…
– И туда ему и дорога, на двор. О мотыле, ишь, думает. Пустое. Вздор несешь, бессмыслицу.
– Нет, я в комнаты его пустила. Каждая бабочка спросит с мира за пыльцу со своих крыльев.
Кастелянша поджимала губы и качала головой. Женя стояла на своем:
– Не понять вам. Вы зачем к обеду разложили все приборы сразу? Вот ведь нарочно?
– Ты же прежде бранилась, не те приборы сервировали. Мало ей. Теперича много. Вилка для пирожного… пфф… чудно.
– Так принято. Да в конце концов, так удобно. Не станешь же десертной ложкой есть бульон, для этого есть бульонная. Или соусной есть мороженое…
– Я порядкам обучена. Куверты[17] знаю. Но по мне, так все одно: ложка и ложка. Чего для мяса и рыбы разные вилки развели? Мучение мое, натирай их мелом.
– Поварихе поручите, – парировала Женя.
– Когда ей? На двадцать душ варит. Ты бы вот не бездельничала, помогла б на межделях натирать-то к празднику.
– И мне некогда. Два платья шью для бала: себе и Зосе. Украшения собрались с Тюри делать для елки. Привез ли комендант орехов? А елку добыл?
– Некогда ей, слыхали? На моль таращиться четверть часу сыскала время. Про орехи сама коменданта пытай. А подруге твоей зачем юбка вузкая, кода она в штанах кожаных щеголяить – форменный ямщик, только что без коняшек.
Женечка догадывалась, в чем причины распрей и постоянного старухиного осуждения: все не так. Можно даже попробовать сделать так, а все одно выйдет не так. Старуха ищет большего влияния на доктора, что, в свою очередь, добавило бы ей влияния на остальных. Отсюда постоянные контроверзы. Потому в глазах Арсения Акимовича подвергаются сомнениям распоряжения Жени. Но дочь доктора сдаваться не собиралась – с чего бы? В хозяйстве больничном пускай свои порядки устанавливают; в домашних же делах дочь придерживалась правил «как при маме». Папенька не замечает противоборства возле себя. Да и заметил бы, Женя уверена, и сам не сошел бы с позиций «как при маме». Вот и в ней, дочери, он видит знакомые черты своей любви, так рано ушедшей; зачем медицине учиться, если и близкому не помочь, – угнетает его неразрешимый вопрос. В дочке он замечает тот же норов, характер, внутреннюю пружинку, не видную до поры, как и в матери, бывало, но при случае распрямляющуюся с внезапной силой сопротивления. И Женечка за собой «пружинку» замечает и знает об отцовом согласии на ее собственное право решать, поступать, как заблагорассудится. Папенька верит в ее благоразумие, папенька видит в ней взрослого самостоятельного человека. Она хоть и рукодельничает, хоть и зовется в семье «кисейницей», а вовсе не кисейная барышня.
Так приятно предвкушать «елку», готовиться к ежегодному рождественскому балу у Телешёвых, вдохновенно шить два наряда: себе в «русском стиле», Зосе с «хромающей юбкой». Кое-что из вышивок на кисее и шелке приняли в Модный дом Ламановой, особенно охотно взяли работы мережкой и ришелье. Приемщица передала, что сама Мадам одобрила работы, велено по шелку снова приносить, а по льну и хлопку до лета не требуется. Удалось неплохо заработать и вполне хватило на рождественские подарки брату и отцу. Валентину купила футляр для чертежных принадлежностей, сам синий сафьяновый, а внутри яркого песочного цвета; видела когда-то такой оранжево-сочный цвет на дне реки, тогда старица ушла в новое русло. Не подозревала даже, что речной песок может быть настолько насыщенно рыжим. Папеньке приготовила настольную лампу, медную, с увеличительным стеклом. В последнее время ее «старик» стал жаловаться на зрение.
Рождество и Новый год самые трепетные праздники – вровень с Пасхой. Но Пасха и Троицын день – все же другое, там больше Божеского, больше отстоящего от тебя самой. А в Рождестве Господнем мирского более, человеческого, где Сам Бог с Небес сошел на землю и приблизился к человеку, Бог человеком стал. И более невероятного свершения на Земле не наблюдается. Новогодние дни дороги воспоминаниями о матери, о той семье, где Женечка чувствовала себя безоглядно счастливой. С маменькиным уходом на мир не смотрелось благостно – первая близкая смерть, отрезвляющая. И вот теперь они живут в Доме трезвости, прижилось название с легкого – без костей – языка старшего ординатора.
Прежде на телешёвские балы ходили вдвоем с матерью, отец первый выход дочери «в свет» сопровождал, потом взмолился – увольте. От хозяев городского имения Телешёвых приходили загодя, до двадцатого декабря – начала каникул, именные приглашения на три лица. Надушенные фиолетовые конверты вручал лакей в ливрее екатерининских времен и парике. Сколько предстояло суматохи: поездки в салоны, модистки, куафёры, продумать мелочи от цвета перчаток и бутоньерки до мысков туфель, выглядывающих из-под бального платья. Собрать подарки всем Телешёвым, веселому добродушному семейству, проживающему в собственном доме на Покровке поколениями больше ста лет. Упаковать, обернуть, обвязать разноцветными лентами каждый и не забыть, кому какого цвета лента предназначена. Потом музыка, вихрь, кружение, глаза, улыбки, глаза…
Теперь все небрежнее, разнузданней, доступней. Как будто распустили не одни дамские корсеты. И времена нестрогие, и праздник проще. Теперь Новый год навсегда связан с горьким осадком и привкусом оставленности. Траур Женя сняла через полгода, два платья из черного крепа отдала бывшей прислуге, которая с семьей доктора в «сумасшедший дом» переезжать отказалась. Платья и вуаль сняла, с сердца налет горечи не снимешь. Никогда не забыть летние вояжи с матерью к тетке в Партенит, заплывы в гроты, пикники у греческой базилики, их вечно проветриваемую сквозняками, просоленную йодистым ветром, с раскрытыми настежь окнами, словно взлетающую как Летучий Голландец дачу. Занавески никуда не спешили, плыли по рейду, обещая счастливую жизнь. И задыхаешься от нежности, вспоминая не свою детскую, не маменькину спальню с альковной кроватью, куда дозволялось залезать лишь до шести лет, а чулан партенитского дома. Принято думать, что пыль не пахнет. Напрасно. Пыль пахнет нетронутостью вещей, упорядоченностью, тишиной замков, тьмою мешочков, венчиками выцветшего укропа, висящего головами соцветий вниз, как летучие мыши. Пыль чулана пахнет залежами счастья. Детскими годами, комнатой, залитой горячим солнцем, минутным ощущением восторга, пойманного в ладони, как солнечный зайчик. Там, в иных мирах, будет все: райский сад, яблоки, диковинные звери. Но пыли там не будет.
Под утро снилась мама, качала головой, спрашивала: а ножницы-то, ножницы? Женя мучилась разгадкой, терзалась. Грудь распирала духота, тугой, душный комок неразрешимости. Будто дверь толкаешь по противоходу, а та сопротивляется напору, и не отворяется, и не дает избежать опасности. Сон измучил бессилием, Женя проснулась. Выдохнула – ох, всего лишь сон, комок с груди подался ниже, катясь и тая, в паху исчез без следа, и тут осенило: ножницы! Ну конечно, ножницы! Вечером, когда весь дом отошел ко сну: комендант запер двери, кастелянша за ним проверила двери, окна, свечи, лампадки, когда дежурная сестра милосердия встала на пост, больные утихомирились, тогда Женечка тайком вышла в гостиную и на крышке рояля кроила «на глаз» из нарядного жаккарда сарафан, а из «газовой» ткани блузу. Проработав до второго часа ночи, довольная выкройками, собрала материал в охапку, нитки для наживления, иголки, тряпичный метр сложила в мочесник со звездой Алатырь – мамин подарок из последних, охранительных. Свет в гостиной потушила и, умиротворенная, тотчас уснула, едва прилегла у себя. А ножницы, ножницы-то забыла! Отец, старшая медсестра и Тюри строго следят, чтобы у пациентов не было доступа к медицинскому инструменту, к колющим и режущим предметам, о чем и кастелянша, и комендант, и кухарка предупреждены.
Не зажигая керосинки, не разбивая огнем зимней утренней мглы, босиком, в одной батистовой сорочке, пробралась из спальни, через «докторскую» столовую, через коридорную, в гостиную залу. Тихо, дом спит без огней, не больше пяти утра; ай да маменька, упредила. Из подвала долетел глухой одиночный стук, должно быть, кухарка поставила чан с водой на дровяную плиту под жестяной вытяжкой. В габардиновых шторах намек на вызревающий во дворе будничный день. Босым ногам холодно и отчего-то колко, голым плечам зябко, два-три шага в полутьме до рояля… И вдруг сбоку чужое дыхание или полужест, или задверный холод – крупная черная фигура. Солдат? Липкий? Метранпаж?
– Ой! Кто здесь?!
– Я.
– Не троньте, не троньте!
– Я не трону…
– Не приближайтесь. Стойте, где стоите.
– Стою.
– Отвернитесь.
– И так ничего не видно.
– Отойдите на три шага.
– Куда?
– Нет-нет, не сюда. Обратно.
– Обратно?
Женя воспользовалась замешательством фигуры, бесшумно подлетела к роялю, ощупала ладонью прохладную поверхность. Нету! Ножниц там, где оставила, нету.
– Верните!
– Что?
– Что взяли.
– Ничего не брал. А… это…
Фигура протянула руку. Женя потянулась навстречу. Наткнулась. Больно. Но тут же вцепилась в ледяной предмет крепко-накрепко, миг, и она выдернет, она победит неразумного, блуждающего ночью по спящему дому.
Но свет вспыхнул раньше. И с порога гостиной на двух людей у рояля, соединенных протянутыми руками, смотрели комендант и кастелянша. Старуха поджала губы и качала головой: так, так, голая, так, вдвоем, наедине с этим, так, так. Двое у рояля, на миг ослепленные верхним светом, щурились на входящих, потом обернулись друг на друга. Женечка выдернула, наконец, ножницы. Обхватив руками грудь, крест-накрест, как на причастии, бегом-бегом босиком по иголкам, в сорочке, к себе. У Тулубьева глупый вид: растерянное лицо, крестьянский зипун, подвязанный кушаком, а за кушак заправлен топор рукояткой, каким в роще за Хапиловкой срубили высоченную – едва вдвоем доволокли – ель.
Комендант деловито просовывал принесенную веревку под колючие зеленые лапищи, пытаясь крепким «шлюпочным» узлом обвить ствол, а Родион поднимал дерево вверх к потолку. За крюк под круглой зальной люстрой собирались привязать веревку для прочности – народ в Доме трезвости всякий. Вот от всякого и надо уберечься. Справились быстро, до подъема насельников и домочадцев, до утренней гимнастики. Снег с нижних веток-лап и с валенок растаял. Сестра-хозяйка и за лужицы не ругалась, и за иголки на полу не бранилась, ходила вокруг ели и несвойственно ей нахваливала. Родиону показалось, будто не тем довольна. Но он и не думал про чужую злокозненность, перед глазами сливово синели соски под тонким батистом.
Мгла за окном рассеялась. И подвисло шаром духоподъемное солнце. Морозно. Тулубьев остался у Вепринцевых завтракать, уговорились с Валентином идти на каток – каникулы. Женя больше не уснула, рано вышла к столу. За завтраком они и встретились. Доктор ел яйцо в мешочек и обсуждал с Валентином свежий номер выписанной из столицы новой газеты «Русская молва» со статьей поэта Блока.
– «В России достает довольно таких читателей, которым смертельно надоело выискивание в искусстве политических, публицистических и иных идей…», – зачитывал вслух доктор. – Тут дальше Блок говорит «о противоположности города и деревни…»
– Наслышан о его программе… «гарь и фиалки». Дядя, ты излишне восторжен.
– Блок выступает «против хулиганства и хамства в искусстве… стоит говорить не много, а стоит говорить важно». Вот! Как хорошо сказано!
Женя, сидя напротив гостя, пила чай и смотрела прямо и открыто в лицо Родиону. Родион сначала боялся увидеть девичье смущение, а встретив смеющийся взгляд, ответно заулыбался. Перекинулись парой слов полушепотом, как заговорщики. Доктор и племянник, поглощенные спором о статье «Искусство и газета», ничего не заметили между теми двумя.
А потом на застывшем Хапиловском пруду Родька чему-то улыбался, срезая углы на скорости. Радуется отдыху от учебы – думал Валентин про друга. И тоже гонял что есть сил на прогулочных коньках, избавляясь от давления библиотечной духоты, вбирая воздух, волю, запахи зимнего леса. На пруду стояла сквозная тишина, казалось, вздох твой разносится на полмира. Тулубьев на поворотах под скрип коньковых лезвий, разрезающих прудовую тишину, вспоминал влажную поволоку сине-голубых глаз из-под так близко вскинувшихся ресниц и слова ее.
– Долго принимала вас за нанятого мастерового, никак не за однокашника брата. Пока Валентин не пояснил про Кекушева и Школу десятников.
– А сегодня за кого приняли? – ласково спрашивал Родион.
– За делирика. Ножницы им опасны. А тут вы с топором, – Женя отвечала, посмеиваясь.
– А я вас за привидение принял. Бесшумно крадется что-то белое, невесомое, бестелесное.
– Испугались? Забавно вышло, если бы не кастелянша… Ведь извратит понапрасну.
– Ничего никому не скажет.
Родиону веришь, тут уж увереннее не сказать.
– Я слово к ней знаю. А ель-то хороша? Комендант давно приглядел, просил подсобить. Рано, а в роще от снега бело. В глухозимье в лесу тихо. А лес не прорежен, заброшен.
– А я лоскутов припасла, наряжать станем, – поделилась Женя радостью детской.
Родион вдруг решился.
– Едемте сегодня с нами в Сокольники, на коньках.
Женечка ложечкой серебряной стук-стук по скорлупе яичной. Пальчиком скорлупу отковыривает, и смеясь:
– Вот сложите узор обратно, как было, тогда поеду.
Теперь катались на Хапиловском пруду вдвоем с другом, в Сокольники не собрались. И губы у Родиона сами собой расползались в улыбку; давно ведь Валентинову сестру заприметил, с первых дней на Преображенском Камер-Коллежском валу. А кастелянше он и вправду слово сказал. Отозвал в сторонку, чтоб не слыхал комендант, и укорил. Нельзя в Доме трезвости наливку держать, за трубами в тайничке прятать. Нехорошо. Узнает доктор, рассчитает вмиг, домой вернет, тут неподалеку, через дорогу, в глухом Фигурном переулке в один дом.
1905. Сон француза
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
В стародавние времена считалось, человек дойдя до края земли, достигнет судьбы своей. А то и по ту сторону земного странствия окажется – потому немногие решались на поиски края земли. В старину все принималось за то, что оно есть, а не за то, чем кажется. Раньше, если человеку снился сон о Боге, тот сон воспринимался как призыв, как заклик послужить Вседержителю. Тогда шел человек в монастырь или в отшельники. А сейчас если Господь кому приснится, никто мира не оставит, скорее, снова спать пойдет, чтоб следующий сон видеть.
Но мой добровольный Путеводитель по прошлому и будущему миру – монах Савва – рассказал, как во сне говорил с одним молодым французом – высокопоставленным вельможей, генералом конных егерей итальянской гвардии – во времена «нашествия двунадесяти языков», отстоящего от нашего времени почти на сто лет. Спал тогда генерал, а монах бодрствовал и посетил его сон. Той осенью войско знатного генерала подступило к реке Сторожи под самые стены монастыря. А муж его матери Жозефины – Наполеон Бонапарт – в те же дни стоял на реке Мжуе, и от Можайска нацелил свой горящий взор на Москву. События нам известные. Но подробностей знать не дано было. И тут я посвящен в тайны Хранителей.
Конные егеря, пехота и гвардейцы, сильно потрепанные в ожесточенном сражении под Звенигородом, но победившие русских, заняли монастырь. Полководец конных, молодой генерал Эжен Богарне не спешил навстречу к отчиму-Императору, он хотел дать отдых своему войску. После краткой передышки и генерал поторопился бы за славой – Москва манила близостью капитуляции в Русской кампании. Стало быть, монастырь подлежит поджогу. Богарне не был благодарен монахам за приют, а его солдаты ждали команды: поднести факела к пороховым запалам.
Но Савва не мог допустить разорения! Монах навестил Эжена ночью. И так же, как мне, старику-письмоводцу, не разжимая уст, не отводя глаз, не поднимая рук, объяснил, как опасно трогать место Божьего приюта на земле, как недушеполезно прослыть неблагодарным. Монах медленно и вдумчиво водил “гостя” по монастырю, из одной кельи в трапезную, из подклета на колокольню, на монастырскую стену, с какой по обе ее стороны видны костры, костры, костры. Запретил входить в алтари, останавливался на солее, разворачивал перед французом иконостас и брел к выходу. Караульные не замечали две бесплотные тени. За ними двумя вставали и брели все прежде погребенные здесь в стенах и за стенами: каменщики, зодчие, иконописцы, братия, крестьяне, ремесленники, косари, горшечники, бондари, кузнецы. И казалось, войско русских растет. Генерал взмолился: отпусти, пощади.
Наутро Эжен Богарне увел свой Четвертый корпус, не выспавшись, но и не тронув монастыря. Факела опустили в бочки с водой. Солдаты разочарованы, но подчинились, надеясь на более богатую наживу. Оказывается, Богарне уцелел в неудачной для французов Русской кампании, и, продлив себе жизнь на двенадцать лет, стал немного погодя пэром Франции. Подробности, поведанные Саввой, поистине невероятны. Как медленно приходят к нам наши желания и как быстро проходят сны.
Для соблюдения
р. Б. Дормидонт-Мистик».
8. Свой квартал, свой город
Елка, бал – это для гимназистов. Валентин собирается и зовет, Филипп рвется и дни считает. Родион раздумывает и не поддается уговорам. Не в упрямстве дело, просто беспечное детство давно ушло. Хотя детство – это насовсем, но праздники более не радуют, утратив прежнюю трепетность и завесу сказочности. Давно открылась другая сторона жизни, беспощадная и неумолимая. Да и интересы сместились в сторону серьезного дела. Все-таки он находит в себе уверенность в правильности выбора десятницкого пути. Проектировать сперва в уме, потом на бумаге, а в итоге даже и в реальности возводить на земле здания из дум, снов, планов есть самая важная задача. Ищешь настоящего дела, большого, важного, нужного людям и городу. Ему не чужды поэтические и философские размышления друзей, кто ж не любит порассуждать, но и дело кто-то должен делать, дело делать, господа. Ум его направлен к конкретному и практичному, устремлен в ближайшее будущее, где, получив дипломы, окончив курсы специализации по горному делу, лесному хозяйству или городской архитектуре – на выбор – они смогут вести самостоятельные проекты и приносить пользу.
Его взгляд устремлен на старинные городские дома и постройки в новом стиле. Родион всюду через шум города выхватывает мысль автора, голос зодчего, вкус архитектора, узнаваемость почерка. Он выделяет работы Шехтеля, Кекушева, Виктора Орта. Их идеи вдохновляют, он знает, что хочет, как хочет. Нужно практикой вырабатывать собственный стиль, который возьмет от модерна, ар-нуво, франко-бельгийского стиля лучшее, но выразит свое, русское. И следующий, тринадцатый год, есть для него последний год перед стартом, последний подготовительный год. Он наметил строить свое к концу наступающего, 1913-го, когда найдет заказчиков и проекты. Он выстроит свой дом, свой квартал, свой город. А если Филиппу и Валентину кажутся такие сроки шапкозакидательством, то уступить им можно не более полугода. Стало быть, до лета 1914-го архитектор Тулубьев заключит свой первый полностью самостоятельный контракт на масштабную застройку. Он сдал на архитектурный конкурс Северного страхового общества свой проект постройки типовых гимназий. Конкурс объявит итоги весною-летом, он уверен в успехе. Он ежедневно корпит над воплощением своих идей, готовых к показу известным в городе мастерам. В Школе десятников обещали протекцию, у профессора Даламанова широкие связи. Но Родиону хочется всюду пробовать самому, без протекций. Он так погружен в собственные догадки облегчения материала без потери прочности, что совершенно уверен в своей правоте. Ему и каникулы лишние, время впустую. А елки – детские забавы.
Полеты среди собственных мыслей и прожектов вывели на воспоминания о полетах аэропланов, как третьего дня с Валентином решили нагрянуть в авиакружок к Филиппу. Совсем отбился тот от компании.
На Ходынском поле у деревни Хорошёво сильно пуржило, на открытом месте всегда метет пуще, чем в застроенном центре. Колючий снежок то нарастал с ветром, то почти вовсе пропадал. С одного края поля выстроено с полдюжины ангаров, возле них люди выкатывают планеры, занимаются рутинной работой, в небо летать – не бумажные самолетики пускать. Трибуны у здания «Огнеслава» пусты. В отдалении четверо гребут листовыми лопатами снег, расчищая полосу узкими дорожками навстречу друг другу. Кутаясь в задранные воротники пальто и шинели английского образца, Валечка и Родион спросили двух встречных про Удова.
– Нет. Не знаю.
– Кто таков? Нет.
Растерялись, где же искать: идти ли к Правлению Общества или через все поле к ангарам. Небо светлеет, пурга стала ленивее. У кромки стоит мужик в зипуне и валенках, правда, вместо треуха фуражка с эмблемой. Мужик читает газету, вырывающуюся на ветру.
– Удов? Из кружка воздухоплавателей? Так вот он.
И показывает в газету. И вправду, на первом листе неподражаемая улыбка. Филипп в очках пилота поверх шлема, облокотился на пропеллер.
– Ему бы в артисты, дружку вашему, в немое кино – смазлив. Вот ушлые новички пошли. Он с фотографом все крутился, пивом угощал. Жажда сенсаций погубит мир.
– Так где бы нам Удова сыскать?
– Вон слышите, птичка-невеличка жужжит? Идите на звук. Против ветру жмет. Сумасшествие, загубит машину. Бочинский, хорошо, не видит. А все одно ему донесут. Эх, что делает, что с планером делает?! Аэродинамика не в счет?
Мужик в зипуне и фуражке сунул газету мимо кармана и сердито зашагал прочь. Родион с Валентином подобрали разлетевшиеся листы, пошли на звук. Четверо чистильщиков приостановились и смотрели в одну сторону. Почти тут же из белой мглы вылепилось тело машины, пузатой стрекозы, стремглав севшей на расчищенное место. Фырчал мотор и крутился в остаточной силе пропеллер, когда из чрева «стрекозы» стал выбираться человек, ею управлявший. Пилоту в лисьей шубе помог подбежавший техник. Они жестикулировали и громко кричали друг другу, перебивая; ветер доносил обрывки слов: лонжерон… нервюра… швеллер. Петров и Тулубьев застыли в изумлении, столь необычна и впечатляюща была картина полета и посадки, возникновения буквально из воздуха и пурги мощной крылатой летуньи. И гордость за друга переполняла. Механические звуки утихли, ветер, напротив, засвистел, зашуршал сухою поземкой.
– Ну, братец, лихо! – Валентин с налета обнял «лисью шубу» и закружил, приподняв. Шуба взвизгнула по-девичьи. Тут же, прежде Валечки, Тулубьев узнал в «технике» Филиппа. И непонятно, кого же Валентин кружил и осторожно поставил на землю. Когда шлем и очки были сняты, все увидели личико брюнетки, с длинными, тут же подхваченными ветром волосами.
– Не знаю, от чего у меня головокружение: от полета или от ваших объятий, – рассмеялась девушка.
Петров спрятался за спину Тулубьева.
– Зося Бочинская, авиатриса, – представил Удов недовольным голосом, будто не рад друзьям. – Знакомьтесь. Тулубьев. Петров. А вы как тут? Что?
– Газеты привели, – усмехнулся Родион, и показал портрет на помятом листе.
Зося и Филипп с интересом вгляделись.
– Жаль, помята, а то бы мамашу порадовал, – Филипп улыбался так же обворожительно, как на портрете.
– Забирай, разгладишь.
Родион свернул трубочкой и отдал газету. Ближе подошли те, что чистили полосу, и показали Зосе на здание конторы, от которой сюда к аэроплану выдвинулся автомобиль, шаря фарами в наступающих прежде времени снежных сумерках. Зося дернула разглядывающего ее во все глаза Валечку: «Бежим! Отец!». И все четверо, повинуясь неясному задору, бросились бежать с поля.
Вскоре авто обогнало их, встало поперек. Стояли, запыхавшись, не понимая, от чего бежали-то. Девушка весело смеялась над раскрасневшимися молодыми людьми; те откашливались, остановившись, сдерживали дыхание, в шинелях и пальто не побегаешь, да по сугробам на поле. Шофер объявил Зосе, что отец ждет ее в правлении «Огнеслава». Девушка, насмехаясь над тремя друзьями, укатила. В шофере узнали мужика в зипуне и фуражке.
– Кто это?
– Конструктор из Петербурга. Сикорский, не слышали? Гость Бочинского. Загостился.
Филипп сердито пихнул пимом снег и тут же обнял двоих друзей за плечи, как медвежьи лапы положил, зафырчал мотором, рванул вперед и увлек за собою ребят.
– Фыррр… Полетели!
По дороге в город, сперва пешком до остановочного павильона, после долгим маршрутом омнибуса с открытым империалом, пустым по нынешней погоде, обсуждали, как ни странно, не полет, а елку у Телешёвых: идти, не идти. Вопрос разрешился положительно, когда выяснилось, что Валентин приглашен своей сестрой Женей, а та берет с собой подругу – Зосю Бочинскую, с которой только что имели удовольствие познакомиться. А Филипп добавил мечтательно: вот бы поцеловать брюнетку под елочкой, как девочек в гимназии на Рождественском бале. Расхохотались.
Вспоминая вчерашнее, Родион теперь возвращался трамваем на Крестовоздвиженский в «бурсу» дома Лисснера; на почте писем на его имя нет. И, надышав в замерзшем окошке пятно-глазок, похожее на сердце, смотрел на уличные строения, на его вкус излишне пышно и вычурно разряженные к праздникам гусями, павлинами, клоунами из электрических лампочек. В уме прокручивал те самые мысли о своем не построенном городе и давешнем знакомстве на летном поле. Красивая девушка. Из тех, кого, раз увидев, забыть трудно, лицо богини, точеное, мастером вылепленное, оживает лишь с мимикой, улыбкой, но тут же и остывает до мраморности. А бывают другие лица, простые и милые, будничные, хорошенькие, но не особо примечательные, их, наоборот, подолгу возле себя не замечаешь, пока вдруг не наступит момент прозрения, вспышки. Как будто кто глаза тебе откроет: не туда смотришь, слепец. Кажется, Филипп и Валентин влюблены. Бывает же так, с одного взгляда. Но Валентину не выиграть у Филиппа, не перебить. Валькину красоту пойди разгляди, а Филиппова краса – Адонисова – вот она тут, на поверхности, взглянешь, и глаз радуется творениям Вселенной: правильным чертам, губам тонким, чуть девичьим, с вечно играющей на них иронией. Филипп-Адонис вполне ровня богине-авиатрисе. А Валентин? А ты сам? Ну, ты-то, Родечка, что же, ты-то, не влюблен ли в богиню?
Трамвай на повороте накренился, заскрипел промороженными косточками хребта-остова и снова выправился на прямой. Но крен и трель хрупкого, в инее, звоночка дали паузу, дали повод отвлечься и уйти от ответа самому себе. Где же твоя прямота, Родечка? А вот доктор Вепринцев говорит, патологическое правдолюбие в старину признавалось смутьянством и признаком душевной болезни. Доктор – симпатичный человек. И сам атавистически честный. Как будто даже опекает его, Родиона, как и племянника. Как будто предостерегает: промолчите лишний раз, не то грозное призовете на себя.
И в «бурсе» Даламанов явно благоволит, до сих пор никого не подселили, комната оставлена за одним Тулубьевым, где прежде проживали вдвоем с Петровым, пока тот не перебрался к доктору на Преображенский Камер-Коллежский вал. Обучавшихся по второму классу ни в чем особо не притесняли, Школа десятников не гимназия вам, не ремесленное училище. Валечка в каникулярные дни – у дяди и сестры, Филипп – дома, в счастливой семье, при отце и матери. А ты, Тулубьев, остался один в нахохлившемся промерзшем городе. Отгоняешь мысли о доме, о покинутом месте. Все из-за твоего правдолюбия, сделавшего нескольких людей несчастными. Жалеешь? Да. Хочешь ли вернуть слова назад? Самому вернуться в Зарайское имение? За «рай». Нет. Что же хочешь? А вот что: строить свои дома. Один. Сам. Квартал. Город.
И все-таки, кажется, через отогретое пятно на стекле, через сердечко, оттуда смотрят на тебя в трамвае чьи-то глаза. Чьи? Девичьи? Матери? Божьи?
1905. Ужасы дома Ю
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Как ни сопротивлялся я, а настигло меня страшное. Савва пожелал передать знания о произошедшем с моими дорогими нанимателями – князьями Ю.
За несколько лет работы на князя я пообвыкся во дворце. Потому изо всех сил, словно предчувствуя непоправимое, сопротивлялся приходу монахов, завладению ими моим вниманием. Ведь я давно отметил закономерность, монахи навещают в часы моего пребывания в секретарской комнате, в этом ледяном колодце со свирепыми сквозняками. Хм, сквозняки времени?..
Но в тот раз Савва был непреклонен и, против обычного бесстрастия, несколько встревожен. И, видение за видением, передо мной настойчиво вставали картины произошедшего здесь, во дворцовом подвале, через десять с лишним лет от нынешнего дня.
Волнение Саввы передалось и мне. Начиналось все благостно, особенно для непосвященных в подоплеку, то есть для меня и того, кого здесь ожидали в гости. В двух подвальных комнатах, видимо, загодя произвели ремонт: половина винтовой лестницы выкрашена, половина – нет. Из опыта своей службы знаю, если в одном крыле дворца идут работы по обновлению интерьера, то в другом его крыле ни запахов стройки, ни пыли, ни шумов, ни следов подвозимых материалов, ни криков десятника. Таковы правила дома Ю.: ни малейшего беспокойства хозяйке, страдающей затяжными мигренями. Выписанный из Бёрна в Петербург доктор предполагает у своей пациентки “синдром Меньера”. Господи, откуда мне известны диагнозы?!
Итак, меня ведут в подвал. Вижу богато убранные комнаты. Здесь ощущалась надуманность интерьера, театральность декораций, нелепость, случайность выбора вещей и предметов из разрозненных коллекций. Здесь не чувствовалось привычного утонченного изящества дворцовых комнат, находящихся выше. Здесь ни икон, ни лампад. Здесь даже сквозняки не живут. Вижу пять человек: двое военных, доктор, думский, знакомый по газетам, и один штатский, что все время отвернут от меня лицом, в пол-оборота или в тени. В них сразу угадываются заговорщики. Я испугался, натолкнувшись на голову белого медведя, распластанного шкурой поверх пурпурного турецкого ковра. Медведь-то кровью забрызган, шкура белая, а пятна на ней бурые. Или вино разлито? Рука машинально выложила крест. Монахи встали, подождали, пока помолюсь.
Стол накрыт к званому ужину, шампанское в ведерке со льдом, блюда, числом таким, словно ожидается рота солдат. В стороне кипящий самовар, истинно говорю, я видел его пар. Сверху доносилась музыка, похоже, играл граммофон. Кажется, Шаляпин, ария из “Иоанна Грозного” Гинсбурга. Господи, откуда я знаю арии?!
Кружок заговорщиков расступился, и один из них, словно древний алхимик, изъял пинцетом из инкрустированной шкатулки кристаллы и принялся толочь их в ступе, вынутой из кожаного докторского саквояжа. Не спрашивая, я получил ответ – цианистый калий. И видна рука в перчатке, опустившая кристаллический порошок в бокалы с вином. Не спрашивал, но мадера, 1854 года, карамельный цвет, отдает дымком и каучуком.
Пятеро заговорщиков разошлись, исчезли, словно не были. Потом по винтовой лестнице вернулся штатский, тот, что все время в тени и в пол-оборота. Вернулся не один. Возле него объявился странный тип, явно не из привычных посетителей дворца. Почему-то странного мне показывали настойчиво и неотвязно. И я внимательно разглядывал, пытаясь узнать. Нет-нет, прежде не видел. В руках его мне мерещится хлыст. Явная несовместимость мясистого носа и глубоко посаженных махоньких глаз, одутловатость лица, выдававшая нездоровье. Впрочем, и несоответствие в одежде бросалось в глаза: бархатные османские шаровары и русская косоворотка с рязанской красной перевитью. А под сердцем красное пятно, словно с пулей в груди ходит. Руки длиннющие, не идущие такому невысокому росту. Нечищеные мужицкие сапоги указывали на непогодь, всклоченная борода – на спешку.
Двое молча сидели за столом с яствами: штатский, вероятно, хозяин, в тени, мужик на свету. Разглядывали друг друга. И я почувствовал вдруг ту силу внушения, какая, бывало, шла ко мне от монахов-Хранителей. Но тут знакомые токи шли от того, что на свету, к тому, что в тени. «Мужик» не рассказывал, как монахи, он выпытывал, он усыплял своего визави и производил над ним насилие гипнозом. Все во мне воспротивилось тому насилию. Я стремился предупредить одного против другого. Но, не в силах пошевелить волосом, остался нем. К моему удовлетворению, с гипнозом не вышло, не всякий к нему восприимчив. Кажется, мужик в сапогах впал в раздражение, ничего не выведав.
Когда, выпив чаю с печеньем, они принялись за вино, мне вспомнилась шкатулка и пинцет с кристалликами цианида. Рука из тени протянула бокал взлохмаченному бородачу. О, я узнал эту аристократичную руку. А когда ее владелец подался вперед, протягивая отравленную мадеру, и вынырнул из тени, я ужаснулся увиденному. В отравителях младший сын князя Ю.?!
Бородач принял бокал и осушил его. За ним следующий. И еще, и еще.
Каковы события! Не уснуть. Знания о чужом будущем простому уму раздирающе невыносимы. Но не мемуаров ради сообщены сии сведения. Стало быть, к князю. На доклад. На милость его. В ноги.
Р. Б., несчастный Дормидонт.
Р. S.: и пошто устроился я в этот дворец, пройдоха-приятель подсуропил».
9. Генералиссимус-либерализмус
Арсений Акимович знал за собой привычку ходить из угла в угол, размышляя. Если нужно обмозговать подступивший вопрос, принимался вышагивать. Вот и сейчас кабинета ему недоставало, переходил в столовую, оттуда в коридорную и через нее в гостиную залу с высоченной, под потолок, разряженной елкой. Но в коридорной то и дело кто-то снует, шумно переговаривается, мешает ходу мысли. То же и в гостиной: комендант азартно сражается в шахматы с Липким. Поэт декламирует стихи Черепахову – самому благодарному своему слушателю, а тому все равно, кого слушать, он до конца не понимает происходящего. Календарёв вслух сам с собой обсуждает развешанные на ели украшения. Тут, надо сказать, дочь расстаралась. Несколько дней подряд увлекала пациентов поделками. Клеили цветные фонарики и флажки из заготовок, развешивали бумажные гирлянды на суровой нитке. Шары-снежки из папье-маше придумали, никаких стеклянных и бьющихся. Оборачивать грецкие орехи сусальным золотом Женечка дозволила Метранпажу – бывшему верстальщику, как самому аккуратному. Остальные из пациентов стояли за их спинами и наблюдали, как Метранпаж смахивал лишнюю пыльцу с золотых шариков, обвязанных нитью, и потом, довольный, показывал всему дому золотые ладони, не моя рук до ужина. Праздничный наряд елки довершали крупные конфеты с начинкой из ваты, обернутой цветными лоскутами; деревянные клоуны Бим и Бом; пряничные домики; а навершием послужила пика, выструганная комендантом и раскрашенная косыми полосками, как купола Василия Блаженного. Засмотревшись на пику, доктор ощутил на себе любопытные взгляды от шахматной доски и возвратился в свою половину: в уют отдельной столовой и в тишину кабинета. С персоналом буквально повезло, главное, им не мешать. Говорят, подчиненные остались довольны подарками к Рождеству. Одна кастелянша ворчала, без цука не обходится: не того цвета пряжу ей подарили, на кой ей та пряжа, и так, мол, слепует. Вот удивительный характер: завзятая брюзга. Из всего-то она придумает войну. При слове «война» сердце запнулось, секунду прислушивалось само к себе и пошло дальше. Гнать, гнать от себя дурные предчувствия. Ничто не предвещает, а все же больно в душе отзывается всего лишь мысль о возможности слома мира.
Племянник на каникулах, читает у себя. Дочь, вероятно, отсыпается после бессонной ночи, к утру вернулась с бала у Телешёвых. Мысль о бале тут же воскресила образ покойной жены, и доктор больно хрустнул пальцами. Суставным хрустом образ спугнулся. Дурацкая привычка старшего ординатора щелкать пальцами – неприятная, плебейская привычка вдруг объявилась и у него самого. Продолжил шагать, привычно обходя кресла в мебельных чехлах, круглый стол с кружевным шитьем до пола, диван с турецкими подушками в шелковых кистях. Не обращал внимания на бой коверных часов и вопрошающие лица с портретов. Утыкался в шкафы с богатой библиотекой, но в основном по специальности – медицинские пособия, учебники, словари, монографии.
Не дают покою мелкие неурядицы, грозившие превратиться в крупные неприятности. На днях Тюри привел старшую медсестру с озабоченностью, какую ранее скрывали, не придавая значения, но какою все же разумно решили поделиться. В процедурной стал пропадать спирт. Причем хранимый в запирающемся шкафу. Когда старшая сестра заметила недостачу, пожаловалась старшему ординатору. Тюри приноровился отмечать ее помадой уровень спирта в огромной, литра на три, колбе с колониальной пробкой. А потом и сам утвердился в догадках сестрички – спирт убавляется, причем вместе с рисочкой. То есть, кто-то, понемногу отливая спирт, стирал риску и скрупулезно ставил новую.
После такого доклада Арсением Акимовичем определено: ключ от стеклянного шкафа не вешать на гвоздик в процедурной, а оставлять на дежурном посту. Не прошло и пары дней, как новое происшествие взволновало весь дом: у сестры-хозяйки пропала дареная пряжа, какую та не успела снести домой, а у одной из сестричек – кольчужный кошелек с тринадцатью рублями на пальто. Скандал! Комендант собрался обыскивать дом, доктор не дозволил. Тюри обвинил доктора в либерализме. Доктор оправдывался:
– Свободы и естественные права признавать надо, голубчик Тюри.
Старший ординатор нападал.
– Но и законы также.
– Обыски унижают.
– А воровство – противу закона.
– Зачем больные качают керосин насосом? Это опасно.
– У поварихи нога заныла от педали.
– Почему пациенты через черный ход таскают брикеты? Я против.
– Таким, как Липкий, чего бы антрацит не потаскать. Не убудет.
– У несчастных разрушена логика во взаимоотношениях с миром.
– Они патологически развратны.
– Они больны.
– Они сладострастные пропойцы.
– Они заблудшие.
– Заблуждения приводят в петлю.
– Ненормальность общественных условий тому причиной.
– Наследственность и разврат.
– Среда.
– Порочность, доктор!
– Их недуг развивается от несчастия.
– От водки да полугара.
– От разочарования.
– От праздности, лени и безделья.
– Их надо жалеть.
– Их надо принудительно исправлять.
– Какая неистребимость насилия!
– Трудотерапия.
– Жалкие они.
– Бесполезные.
– Да вы форменный городовой.
– А вы – генералиссимус-либерализмус.
В подобных перепалках победу с последним словом одерживал старший ординатор. Но решение оставалось за доктором. Потому в первых мерах определено созвать собрание пациентов.
Собрание вышло странным. В третьей палате на койках расселись пациенты, перед ними на стуле Арсений Акимович, позади него, скрестив руки, высился старший ординатор. Напротив свирепоглазого Тюри точно в его позе стоял Липкий и повторял каждое движение старшего ординатора, словно зеркало. Сестрички поглядывали через стеклянные двери. Кто-то из больных лежал, хихикая, кто-то выхаживал, кто-то сидел и внимал доктору. Доктор называл всех голубчиками, просил сосредоточиться и взывал к совести: пряжу вернуть и деньги. Кто не вернет, тому нитки и кошель предъявят на Страшном суде, как улики греха. Черепахов распластался на койке, сложив руки будто покойник. Солдат Чуйко называл вором Ямщикова. Ямщиков устроил потасовку, в какую влез Календарёв, защищая соседа по койке. Липкий все стоял у окна со скрещенными на груди руками и хохотал в потолок над заварушкой. В палату влетели сестры и комендант. Вчетвером едва успокоили разбушевавшихся, развели по палатам.
Теперь доктор вынужден признать, идея собрания с пациентами вышла слишком оригинальной. Хотя утешением есть факт: к утру следующего дня нашлась пряжа, ею среди елочной мишуры сплели две виселицы: веселым Биму и Бому. Деньги не вернули. Арсений Акимович у себя в кабинете один на один выдал пострадавшей медсестре тринадцать рублей из своего жалованья, о чем просил умолчать. Полиции вызывать не стали. Казалось бы, под инцидентом подведена черта. Но остаются раздражающие неясности в обоих случаях. Тревожащие мелочи. Красную помаду, как у старшей сестры, – кстати, дурновкусие – которой вор спирта ставит риску, откуда берет? И почему просто не доливает воды? Поломанная логика. Сам спирт – куда девается? И кто по ночам в Доме трезвости вешает клоунов?
Опасна праздность не совсем здоровых людей или даже совсем нездоровых. Трудотерапию надо ставить на широкую ногу. Не эксплуатировать подопечных, а придумать для них дело, приносящее удовольствие и самоуважение. Красильню или малярку по причине малой территории и тесных помещений не устроишь, а как бы тут помог Валечкин однокашник Тулубьев. Толковый малый. Вот кто умеет раздувать азарт. Одним примером и основательностью, он и уговаривать не собирается, просто дает указания работникам и те выполняют. А ведь те старше его, некоторые даже вдвое. Но подчиняются мальчишке, видят в нем правоту, убежденность, превосходство, что ли. Бывает такой тип человека, на каком будто бы написано: я знаю, что делать, делай как я. Такие просто не могут не быть героем. Хотя какое тут геройство? В мирные времена – это стиль поведения. А для времен грозных такое качество неминуемо выдвинуло бы человека вперед. Вот племянник – тот не герой. Да и сам смотритель психиатрической больницы никак не герой, слишком многого боится. Боится упустить непоправимый инцидент с больными, боится возможного замужества и отъезда дочери, боится не дописать научную работу о медикаментозных способах лечения делирия, боится войны, боится смерти и Бога.
А что если устроить валяльную артель, закупить войлоку, шить валенки? Это же почти сапожное ремесло – надежда на будущее, стояние в одном строю с «нормальными», сознание созидательной деятельности. Тут хроники могли бы в собственных глазах утвердиться, потянуться к правильной жизни. Понятное дело, «острых» больных в состоянии коллапса никто за спицы и иглы-засечки не усадит. Привычка и рутина есть выравнивание внутреннего покоя, что именно делирикам идет на пользу: снижает неустойчивость, возбужденность и страхи. Чтобы головы им не распирало зловещестью участи, нужно занять их руки и мысли. Если не в силах сменить географию происхождения порока, город, место, напоминающее о падении, то хотя бы сменить образ жизни, причем не на каземат, а на артельное, разумное проживание.
Несколько больше других волнует Липкий: не подвергается увещеванию. Игнорирует правила. А дочь рассказала: намедни застала в гостиной, как Липкий смотрелся в зеркало. Видимо, остался собою доволен, поскольку наедине крутил головою влево, вправо, закладывал сальные волосы за уши, откидывал челку со лба, как бы зачесывая отросший чуб назад. Не замечая чужого присутствия, строил рожицы себе, показывал язык или хмурился, напускал серьезности, надувал щеки. Все бы ничего, все мы иногда кривляемся, да вот зеркала на стене не было.
Самый беспокоящий, самый тревожащий и посейчас – тихоня Черепахов. Его случай ухода в себя сложный и запущенный: последствия многолетнего алкоголизма вкупе с опиумным отравлением. Необходимо сохранить ему пребывание в активности. Единственное, но заметное улучшение за время нахождения на Преображенском Камер-Коллежском – это его прямохождение, он меньше стал ползать черепахой, больше передвигаться в полный рост. Неуверенно, дезориентировано, с покачиваниями из стороны в сторону, с дрейфованием вдоль стен, но все же ходить. Отвратительное зрелище – ползающий среди ходячих человек в летах, у которого, должно быть, и внуки есть. Если заговоривает, речь его бессвязна и малопонятна. И запущенного нужно продолжать лечить. Хроник потенциально опасен, он может нанести травму себе или окружающим.
Доктор ударился бедром об угол секретера. Потер ушибленное место через брючину. Да-с, травму. С удивлением огляделся: зимнее солнце шпарит в окна, он стоит в кабинете, в кулаке зажата обезьянка из слоновой кости. Закрывшая лапами глаза Мидзару. Гримасничающие обезьянки – подарок племяннику, кажется, это часть старинного сундука-комода из наследства дальнего родственника его по матери. Странное дело, племянник будто подросший ребенок, а его одногодка-друг, напротив, кажется старшим даже ему, доктору. Вызывает доверие и желание взять совет. Ну что ж, верное решение найдено, пора пить чаю.
Прошел на звуки из столовой. На пороге спальни стоит неубранная, простоволосая Женя в полупрозрачном капоте. Одновременно с легким вопросительным стуком открывается входная дверь в квартиру. Заглядывает Тулубьев. Тут же хлопают две двери: дочери и входная. Один за другим исчезают: и дочь, и Тулубьев. Но зато из своей комнаты в столовую входит Валентин с книгой в руках.
– Что тут происходит? – уточняет Валентин.
– Сам не пойму. Стучат чего-то… – откликается доктор.
– Ты завтракал, дядя?
– Давно откушал, но выпил бы чаю.
– И я бы не прочь.
– Зови Тулубьева. Заглядывал.
– Да, где он?
В дверь снова стучат, чуть громче, чем прежде.
– Да вот он. Заходите! – откликается на стук доктор.
Входит Тюри.
– День-то какой. Солнце того и гляди лопнет, просто треснет от жару.
– Проходите, Тюри, голубчик. Чаю пить будем. Валентин, распорядись на пятерых. Где-то там Тулубьев бродит.
– Не бродит, – докладывает Тюри, – а аккурат выскочил из коридорной в сени. Налетел на меня, понимаешь, как невсебешный.
Валентин оставляет книгу на столе, уходит в кухню к кухарке. Тюри подсаживается к доктору за стол.
– Что молодежь-то читает? «Конфуций». Знал я одного Конфуция, тот помощником буфетчика служил. Империал проглотил. Его в воровстве обвинили и везли в участок, а он от улики избавиться – раз и в рот.
– И что же, не поперхнулся? – полюбопытствовал доктор.
– Как же, застряла улика. Еле откачали… Несколько позже того.
– Любите вы своими «быличками» чужие головы забивать.
– Да к слову пришлось. А так я с докладом по смирительному дому. Кто-то постоянно прет шахматные фигуры.
Тюри хрустнул суставами крупных узловатых пальцев.
– Никогда у вас не поймешь, серьезно ли говорите или с насмешкою.
На голоса выглянула Женя, но, увидев старшего ординатора, снова захлопнула дверь. Отец заметил прическу с пробором и высокий воротничок сиреневого платья. Тюри продолжал:
– Серьезнее некуда. На той неделе ферзя уперли, нынче коня и ладью. Ну, ферзя нам Тулубьев выстругал. Он строгает лучше коменданта. Мы ферзя покрасили, у Валентина вон черной туши одолжили. Теперь на коня с ладьей занимать надо. Но я не о том. Иду сегодня мимо поварихи, сестры-хозяйки, они картошку чистят, а он им помогает.
– С ножом?! – готов был возмутиться нарушением запрета доктор.
– Нет. Моет чищенную. Я, значит, с почтением: «Как дела-то, матушки?» «А как дела? – отвечают. – Все губительно да греховно, мил человек». Я раскланялся, водицы набрал. И к себе. И тут он мне в спину роняет фразочку: «Между нами легла кровь». Останавливаюсь. Прислушиваюсь. Про Солдата сказ идет. Убью, говорит, Чуйко. Ну, я вернулся, пожурил его, сделал внушение. А теперь, ограничусь отметить, надо бы к нему приглядеться.
– Да к кому? – не выдержал Арсений Акимович.
– К Липкому. Не сказал разве?
Дверь входная отворяется без всяких предварительных стуков, рывком, едва с петель не слетает. С порога Валентин бледный, голосом петушиным кричит:
– Он старуху убьет!
Доктор и Тюри вскакивают из-за стола.
– Да кто он?
– Да где?
– Липкий! В кухне!
Валечку отпихивают, пробегая мимо. Тот на секунду ошеломленно притормаживает в проходе, но на глазах изумленной сестры в дверном проеме несется вслед за доктором и старшим ординатором.
Ковровые часы размеренно бьют полдень.
1905. На мосту
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Сумбурные миражи на скорости чередовались с картинками фантасмагории, но их отчетливость представала с подлинностью, какой не верить невозможно. В момент серо-застиранного петербургского межчасья, неопределенности времени и времен, мы выбрались из подвалов дворца князей Ю. на обледенелую набережную Мойки, оттуда на Малую Невку. Но на воздухе и морозной свежести ужас не испарился, напротив. Мы с Саввой, как сомнамбулы, брели во весь рост по перилам Петровского моста и, будучи свидетелями продолжающегося кошмара, словно собирали улики происходящего. Под нами во льду стоит река. О равновесии не думалось, я знал: не упаду. Но покачнулся, когда неподалеку раздались два револьверных выстрела. На третьем и четвертом и не вздрогнул.
С перил моста смотрели мы, как в каре дворцового двора бегают люди. Один, другой… и так до пяти. От полицейского участка торопится к мосту городовой. Из переулка выезжает закрытый мотор. Дальнейшее виделось, как в синематографе, передо мною трижды прокрутили одну и ту же сцену – для затвердения, не надеясь на восприимчивость моей психики.
Вижу: младший сын князя, мечущийся по двору с гирею в руке, вдруг падает у высокого сугроба. Пуля? Обморок? Просто пьян? По другую сторону того же сугроба лежит мужик с кровавым пятном на косоворотке. Тот же вопрос: пуля? обморок? пьян? Люди из подъехавшего мотора яростно жестикулируют, будто не могут сговориться, будто вот-вот зачнут драку. Слуги тащут холстину, а молодого князя уносят в комнаты. Те, из авто, заворачивают в холстину мужика и везут его все ближе и ближе к нам. Затащив свою неудобную ношу на мост и стоя совсем рядом с нами – немыми наблюдателями, заговорщики свешивают с перил мешок и отпускают его. Ледяные брызги омочили мне руку.
Водою дело не кончится. Спустя несколько дней извлеченное из реки тело погребут в земле. Но и воды, и земли окажется мало. Ни одна из стихий того мужика не примет. Чтобы окончить столь ужасающее дело, понадобится третья стихия – огонь. Спустя год тело “утопленника” извлекут из могилы и сожгут. Изъятие останков произойдет при событиях более разрушительных: падет царская корона, “отречение” – станет самым повторяемым словом, красный цвет – фетишем.
Когда исчезли монахи и как я спустился с перил моста, как очутился у себя в секретарском кабинете с его сквозняками, показавшемся мне уютнейшим местом после ночной Невки, я не помнил. Решение мое прибыть на доклад к князю никуда не делось. Но пришлось повременить с визитами. В ночном странствии я захворал и слег на несколько недель. Работа моя в доме Ю. встала, не имея уверенных перспектив к возобновлению. Не за ненадобностью, нет, а по моему собственному нежеланию переступать порог дома, где меня преследовали невероятные видения. В навалившемся жаре лихорадки я досматривал, как юный князь Ю., младший из наследников, со своим камердинером, убирал следы засохшей крови на винтовой лестнице и прочие улики в комнатах подвала. С течением моей болезни подробности жуткой декабрьской ночи гасли в памяти, оставляя лишь сами факты – старшему сыну князя предстоит погибнуть на дуэли, младшему – стать убийцей. Мне, секретарю-письмоводителю, предстоит быть свидетелем и вынужденным вестником-гонцом.
Р. Б. несчастный Дормидонт».
10. У Телешёвых
Когда Тюри, доктор и племянник влетели по лестнице вниз в подвал, то уперлись в спину коменданта. Тот, не оборачиваясь, вполголоса зашикал на прибежавших: «Чи, чи, чи, тише, тише», словно дитя разбудят. И все уставились на трепыхавшуюся в руках-лапищах кастеляншу и на самого Липкого за старушечьим телом. Кухонный нож в картофельной шелухе надавил на кадык, и старуха перестала колотиться, ошалелыми глазами уставившись на четверых мужчин и кухарку, сливающихся в одно пятиголовое существо.
– Липкий, голубчик, это ведь не канарейка, – взмолился доктор.
– Кенарь то был. Соседский. Он теперича у меня в брюхе поет. Слышите?
– Слышим-слышим.
– А Солдат, гадина, говорит, не поет кенарь.
– Так что же вы с Солдатом-то не выяснили. Зачем же старую женщину…
– Пошто нож не давала?!
– Липкий, голубчик, вот пустырничку с валерьяной примем, и полегчает.
– Не баюкай меня, доктор. А шагнет кто, прирежу. Все вы – говны.
Об каменный пол громыхнула сковорода, выпав из рук кухарки. Присутствующие разом вздрогнули. Старуха-пленница охнула и часто-часто задышала, вздымая грудь под передником. После доктора в дело вступил Тюри, вращая свирепыми глазами и потея лысиной.
– А и режь, нам ее не жалко. Надоела всем.
Старуха, до того огнем надежды испепеляющая подмогу, враз подогнула ватные ноги, обмякла и повисла на руках мучителя. Липкий пытался удержать тело на весу за епанечку, но упрямая даже в бессознании старуха увлекала его за собой вниз. В тот момент с черного входа вошел Тулубьев с плетеной корзиной угольных брикетов из дровяного сарая. И вопрошающие растерянные лица напротив, и напряженная фигура человека в казенно-больничном с пустой епаничкой в руках и обмякшим телом в ногах в минуту дали ясную картину. Тулубьев с грохотом швырнул корзину в ноги разворачивающейся фигуре и тут же применил удушающий прием, выбив нож из рук насильника. В черной антрацитовой пыли они вдвоем с Тюри скрутили обидчика.
Липкого затащили в изолятор второго этажа, где он тут же забился в конвульсиях, заходясь в крике: «Говны вы все, говны…». Доктор и запыхавшийся Тюри смотрели на извивающегося. Их спокойствие удержало дежурного ординатора от немедленной помощи пациенту. Доктор рассуждал вслух, не меняя позы:
– Насколько мне видно, эпилепсия…
– Падучая. Болезнь шарлатанов и симулянтов… – предположил Тюри.
– Коз и мышей, собак и кошек… – продолжил доктор.
– Халтура. Я лучше сработал, – делился Тюри.
– Приходилось?
– Всяко бывало.
– Что делать будем, голубчик Тюри?
– Не успокоится – в узел его, в смирительную рубашку.
Доктор, обращаясь к медсестре ласково:
– Деточка, четыре миллиграмма на двадцаточку разбавьте. Струйно.
Тюри с дежурным ординатором держали Липкого, пока сестричка ставила укол. После ухода Тюри и доктора больной тотчас затих, вытер рукавом пену с губ и улегся на койку, отвернувшись к стене. Через запертую стеклянную дверь за узником изолятора наблюдал вышагивающий по коридору санитар.
Родион Тулубьев слыл героем дня во всем Доме трезвости. Все, от санитарки до больных, захаживали в большую столовую на него взглянуть. Родион смущался: да чем обязан? Кастелянша, едва пришедшая в себя, бледная и без обычного гонора, кормила спасителя малиновым вареньем из неприкосновенного зимнего запаса и причитала: «Ешь, Родивон Романыч, ешь, мил человек, спас ведь, свободитель, спас, а тот-то, злыдень лысай, слышь, баит, надоела всем, режь ее. Палкой бы его почистить, палкой. Ешь, свободитель, ешь, ни мами, ни папи у тебя тута, хошь вареньем наишьси. А тот, супостат, налетел как хранцузские беспальцы…» «Вестфальцы», – поправлял Родион, уписывая малиновое варенье.
Не явилась взглянуть на героя лишь дочь доктора.
Женечка заперлась у себя, предварительно обо всем расспросив брата. Тот описал поступок Тулубьева в красочных тонах, сам же поспешил выразить восхищение «спасителю». Доктор с Тюри уединились в кабинете, и до Жени через стенку доносился их разговор на повышенных. Слышались слова «ЧП», «инцидент», «полиция». Кажется, на этот раз инициатором идеи обращения в полицию стал сам доктор, а старший ординатор его отговаривал.
Суматоха, вызванная утренним казусным событием, к сумеркам улеглась. Женя снова забралась в постель в домашнем платье и принялась перебирать события вчерашнего вечера и сегодняшней ночи на елке у Телешёвых. Под подушкой нащупала уголок сложенной вчетверо газеты. Что, собственно, выяснилось? Ну, подумаешь, влюблена. И он – простой десятник. Ну и что же. Зато у него необычные планы, мечты и желания – он не такой, как все.
Накануне платье, вернее блузу и юбку, по нынешней моде называемую за узость «хромающей», примеряли в доме у Бочинских перед выездом на бал. Женя шила на глаз, зная размеры подруги: та выше ее самой на полголовы и чуть гибче, в мужской одежде и вовсе – строевой юноша. Зося осталась довольна Женечкиным костюмом «русской красавицы» с сарафаном и кокошником, как и своим видом – эмансипе, хотя и шутила, что пошла бы на бал-маскарад в летном костюме, который носила гораздо охотнее женского платья. Девушки, переодеваясь, дурачились, тискаясь и целуясь, заглядывая в напольное зеркало-псише, поворачивая его под удобным углом и выбирая выгодный ракурс, где полуобнаженные брюнетка и блондинка, смуглая гитана и белокожая барынька, высились в полный рост, ладно скроенные, изящные, словно ожившие мраморные хариты[18].
Потом шофер Бочинских вез их ночным вымерзшим городом с Токмакова переулка Басманной слободы на Покровку. Под луной крупные соцветия снега, кружившиеся в мареве газовых фонарей на окраине, электрических – ближе к центру, в холодном свете фасадной иллюминации и в голубом пламени факелов у питейных заведений, и в тепло-желтом оконном свете, падали как бы сквозь прозрачные подсвеченные картины и сами искрились и фосфорицировали, кружась, будто божественный небесный фейерверк вспыхнул над всем городом и всем миром сразу. Местами на мостовую обрушивалась музыка из заснеженных парков и так же внезапно смолкала с поворотом за угол или с порывом ветра. Редкие ямщицкие лошадки мирно трусили, по обыкновению, празднично позвякивая бубенцами, то и дело уступая дорогу конке, трамваю, мотору или омнибусу. Вот-вот, и частный извоз вовсе сойдет на нет. Пешеход торопился. Один праздник позади, до другого считаные дни.
У Телешёвых в разгаре веселье: благотворительная лотерея собрала толпу, со сцены большой гостиной читают модных Брюсова и Блока, в курительной смех и тосты, а в зале люди в карнавальных масках водят хороводы вокруг раскрасавицы-елки такого роскошного убранства, что зальная елка на Преображенском валу сразу поблекла. На здешней голубой и пышной ели переливалось несчетное количество стеклянных трубочек-сосулек и крашеных шаров, прозрачных звездочек, солнышек, совершенно невозможных в Доме трезвости из-за своей хрупкости. Всюду свет сквозь хрусталь да огни свечей в канделябрах для пущей торжественности. Оркестр то ускорялся, то замедлял игру, давая бостон, гавот, мазурку, салонную венгерку.
Подруги быстро потеряли друг друга из виду, оттиснутые в разные стороны живым людским ручейком. Женя глазами искала брата или кого-то из Телешёвых. Венгерку сменил русский трепак, и тут Женечку, в ее-то сарафане и кокошнике, вызвали в середину, где отстучала чечетку «цыганка». Женя не худо отплясала, поставив руки в боки, сменяя ногу с пятки на носок, задорно кружась, плавно ведя плечами, словно царевна, гордо и чуть капризно. Вокруг «царевны» двое молодцев, один в гусарском наряде, другой в казачьем, пустились вприсядку. И запыхавшись от жара волнения, вспоминая танец графинечки Наташи у дяди, Женя заметила знакомые лица, обращенные к ней из круга: восхищенное брата, любопытное Филиппа и приветливое Родиона.
Вот, кажется, в суете, шуме, толчее весь праздник и состоит, если не считать трепета его подготовки. Валентин и Женя встретились со старшими девочками Телешёвыми, обнимались и поздравлялись. Заиграли падеграс и, скучая его танцевать, Женя оказалась рядом с Филиппом в большой гостиной, где слушали поэтов. Полумрак в глубине контрастировал с торжественным свечением бальной залы в раскрытые настежь двери. Поэтам хлопали и вызывали на бис. Но Женя не вникала, хотя стихи любила и много знала наизусть, ее смущало близкое присутствие Удова. Он как бы невзначай, то ладонью, то костяшками пальцев, в тесноте комнаты касался ее запястья, плеча, бедра, снова запястья. Сегодня Женя не учуяла запаха керосина, почувствовала незнакомый мужской запах, который хотелось слышать и привыкать к нему. Запах напомнил ей гофмановские капли или винный уксус. Камлотовый[19] пиджак Удова идеально сидел на нем, и вообще весь облик молодого человека выдавал не один час, отведенный на продуманный туалет. Филипп во время особо ярких аплодисментов склонял голову к Женечкиному уху, повышая голос и договаривая фразу, почти касаясь губами ее кожи и щекоча висок девушки ее же прядями, волнующимися под чужим близким дыханием. Женя краснела в полумраке над своим глупым, детским смущением – не в первый раз за ней ухаживают. Но, может быть, в первый раз так настойчиво, неприкрыто.
– Ваш брат на практике вместо землемерных работ устраивал школу софистики. Работяг представлял древними греками, – потешался Филипп.
– Да, Валя – гуманист, – Жене хотелось защищать брата. – У Валентина есть характер. Просто он его не выпячивает.
– Но так глубоко прятать тоже не стоит. И я люблю Вальку. Удивляет его привычка в каждую церквуху зайти на поклон. С ним положительно невозможно ходить пешком по Москве.
– А Тулубьев? Тот с характером? – спросила вдруг Женя.
– Даже чересчур. Иногда его уверенность и правдолюбие раздражают. С ним скучно, как с законченным домом. Одержимый. Нельзя же все время говорить о контрфорсе[20], люкарне, палладиевых окнах… В мире есть иное, Женечка: та же поэзия, авиация, подземка, синематограф. Но я и Родьку люблю. У нас настоящая мужская дружба. Ничем не разбить. Вот как у вас. Кстати, где Зося?
И снова от близкого дыхания волнение кожи. Женечке хочется потереть висок и мочку уха – так рядом его губы.
– А у вас что за характер?
– Мой характер питает меня силою, какой я сам боюсь, но с какою добиваюсь всего, чего хочу. Захотел поступить в Школу десятников – и вот в лучших учениках. Захотел обучаться на аэропланах – и вот в «Огнеславе». Мой портрет недавно в газете печатали.
Умолчала, что купила газету с портретом и достает ее из укромного места каждый вечер перед сном.
– Скоро об Удове не так заговорят. Я ведь в десятниках не останусь. Из нас один Тулубьев пойдет по десятницкому делу. Ему нравится пыль со стройки. Мне на втором году скучно стало. Полета хочется, высоты, знаменитостью быть, чтобы ходить и кивать. А тебя бы все узнавали. Вон-вон, известный пилот идет, Удов Филипп Корнеевич.
Девушка рассмеялась.
– Вы шутите?
– Отчего же? Именно так и желаю. И все на путях судьбы преодолею, добьюсь. Мне много лет снится один и тот же сон: о золотых эполетах.
Захохотал. Рядом зашикали: не даете слушать.
– Я где-то читала, человеку свойственно себя преувеличивать, – откликнулась Женя.
– Ничуть. Я так точно нет. Ну что же, идемте искать авиатрису и пропавших десятников.
Филипп увел Женю из большой гостиной. В дверях навстречу попались Петров с Тулубьевым. Зося мелькнула на повторной мазурке в паре с уланом, снова затерялась. Объявили вальс-гавот, и, к разочарованию Женечки, ее тут же пригласил Тулубьев. Чуть досадуя на нерасторопность Филиппа, Женя подала руку его другу. Еще не отдавшись танцу и вниманию нового кавалера, Женя проследила, куда обратился весь Валечка. У окна разговаривала с уланом Зося. Метким взглядом Женя заметила надрыв по шву на Зоськиной юбке, должно быть, и чулок виден при ходьбе. В своих мыслях совсем отвлеклась и забыла о партнере. А партнер вел надежно, крепко обхватив за спину и отпуская в нужный момент на расстояние руки, бережно и в то же время властно привлекая обратно к себе. Серо-холодные его глаза, сейчас смеющиеся, близко-близко встретились с ее глазами и, кажется, прочли и про досаду на Филиппа, и про чулки подруги.
– Вам идет русское.
– А вы отчего без маски?
– Даже в детстве не любил.
– Хорош ли бал в Школе десятников?
– Вполне. Выпускницы Мариинского училища приглашались.
– Воспитательницы из Хамовников? Что же, весело было?
– Не скучнее здешнего.
– Вам скучно?! Тогда зачем же вы тут?
– У нас уговор: где мои друзья, там и я.
Женя глазами искала зеленый китель брата и светлый камлотовый пиджак Филиппа, но там, где расстались, их нет. Не видно ни Зоси, ни улана у окна.
– Если кто серчает на человека, Женечка, что тот ему испортил ожидания своими поступками, то серчает на Бога. Кто как не Бог одобрил тому – другому – его поступки?
– Верно-верно. Но к чему?
Танец окончился. Тут же заиграли фигурный вальс. Нашли свободное местечко под высоченной раскидистой пальмой, танцевать расхотелось.
– А я где-то прочла, человеку свойственно себя преувеличивать.
– Вот тут правда. Свойственно. Иногда себя боюсь, в зазнайство бы не впасть.
– Ваша прямота поражает.
– Характер такой от имени. Родион-Ледолом. Ледоруб-правдолюб. Но иного и не хотел бы. Честным быть правильно.
– Честным проще. А вот лукавым тяжче.
– А брат ваш честностью своей мается. Стыдится сказать, что думает.
– Знаете, я рада вашей дружбе с братом. И отец рад. Мне Валечка хоть и кузен, а на самом деле совершенно родной, душа моя.
– Самому странно, как взрослое дело нас сдружило. Десятницкое. Валентин говорит, мы братья. Из ликийского города Патары. Родион приходился роднею апостолу Павлу, а с апостолом Петром проповедовал. Родион и Петр вместе смерть приняли. В один день и час.
Женечке кто-то закрыл глаза ладонями.
– Акациевая пудра. Зося?
Бочинская растормошила подругу.
– И что вы тут такие чинные? Все на головах ходят. В курительной стреляться собрались. Весело – страсть. Сейчас я вам своего знакомого улана представлю. За шампанским ушел. Где же брат твой? Где Удов?
– Куда ты пропала? Оставила меня одну.
Родион, казалось, снова смеялся серыми холодными глазами. Женечка приняла промелькнувшую во взгляде насмешку на счет распустившегося шва юбки и почти обиделась за подругу. Зося, порывистая и возбужденная, утянула за руку пробравшегося к ним Валентина и закружилась с ним в бостоне. Каблучки-танго ее синих замшевых туфелек, весело мелькавших под надорванным подолом, не оставляли сомнений: она сама и устроила своей юбке «разрез чересчур». Валентин упредить не успел, что из-за косолапости не танцор вовсе. Среди пальм бродил улан с двумя бокалами шампанского, тщетно разыскивая свою даму.
– Ей бы хабанеру танцевать, а не вальсы, – заулыбался Родион, глядя на кружащуюся пару одного роста: друга и Бочинскую.
Девушку в кокошнике приглашали незнакомые молодые люди. Но Тулубьев не дозволял. В ней слабо протестовало: с чего бы? Но она не противилась, сникла. Так бывает, сам праздник менее захватывает, чем его приближение. Удова они больше не встретили. Пропала и Бочинская, должно быть, уехала с уланом, оставив Валю. Веселье пошло на убыль.
Домой возвращались с братом на извозчике. Тогда по дороге и сейчас с воспоминаниями у себя в постели тревожили слова Тулубьева, сказанные при расставании в шестом часу утра в заснеженном малолюдном переулке. Друг брата, кажется, защищал ее даже от мерно падающих снеговых хлопьев.
– Черешневый снег.
– Как черешневый?
– У вас шапочка и ресницы в лепестках.
Брат стоял в трех шагах от них и наблюдал, как разворачивается пролетка из длинной очереди ждущих разъезда гостей. Куда-то в поднятый воротник ее шубки Тулубьев внезапно приглушенно выдохнул: мне кажется, нет, уверен, я влюблен в вас. Она ничего лучшего не нашла, как инстинктивно оттолкнуть муфтой: вдруг вздумает поцеловать, пусть не в губы, но и не туда, над ухом, в висок, где еще горело дыхание его друга. Отпихнула. Не ответила.
В пролетке ехали молча. Брат не расспрашивал, сам где-то витал, приоткрывая глаза на ухабах и пряча в шарф блаженную улыбку, в которую растягивались сомкнутые губы. Лицо его при том становилось по-детски беззащитным. Косая челка темно-русых волос, смешной худенький нос, как у задиры-подростка, и ямочки на щеках – такое лицо не назовешь красивым, а милее нету; открытое, обнажающее добрую душу лицо.
Несколькими часами позже, в полдень, произошла в доме на Преображенском кутерьма с неприятным типом Липким. Нет, сперва случилась зеркальная встреча в дверях с Тулубьевым, о котором, едва проснувшись, думала. Увидев его, испугалась не собственного вида со сна, не полупрозрачности капора, а вопрошающего лица напротив, ненужности возможных объяснений и своего сознания, что вот, кажется, даже снился. Потом все закрутилось, не оставив день мирным: нападение на кастеляншу и припадок с Липким, рассказ брата о своевременности появления Родиона в кухне. Дар своевременности, как сказал Валечка про Тулубьева. Теперь за стеной резкий разговор отца и старшего ординатора о полиции и жандармах.
Нужно Тулубьеву отказать от дома. Отец расстроится. И брат. Тогда просто объясниться, пусть поймет: никогда невозможно ее ответное чувство, потому что она, потому что… Не договаривая прежнее, сказала себе другое: «Отсюда и есть мой выбор: ничего не решать окончательно. Окончательно все решено без меня. Все решено за всех нас».
Все в доме нахваливали Родиона. А Женечке хотелось жалеть его. Никакого у него дара своевременности, вовсе несвоевременно он обнаружил свое чувство. Когда женщина отставляет поклонника, сохраняя свою свободу и независимость от его чувства, она слегка жалеет отставленного и выказывает ему повышенное участие. Ну что ж, она приголубит его, утешит, проявит внимание, даже несмотря на его смеющиеся глаза. Но сегодняшний герой в жалости не нуждается. Решила так и потянула из-под подушки за уголок газету. С портрета на нее смотрело улыбчивое лицо в шлеме и очках пилота.
1905. Пауза
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
Совершеннейшего выздоровления желали мне монахи. Издевка. Нет, ну, войдите в положение, пусть в крестцовом радикулите виноваты не ночные прогулки, а дворцовая промозглость. Но причиной моей психической неустойчивости послужили вовсе не сквозняки.
Во дворце я сказался больным, что являлось двойной правдой. Домашние заметили мой жалкий вид, жар, бред, порывы нестись обратно во дворец, откуда недавно вернулся едва живым. Меня принудительно уложили в постель, вызвали доктора. Прописанный покой, аптечные снадобья, облепиховый чай и время вели к благотворному исходу: через неделю я пошел на поправку, через другую стал выбираться из кровати и бродить в размышлениях по небольшой, но сухой и теплой квартирке. Внуков ко мне не допускали, боясь обеспокоить. Дочь зачитывала вслух письма от нашей крымской родни, опечаленной моим недугом. Писала пространно-подробные ответы под мою диктовку. Так я постепенно приходил в нормальное состояние, избавляясь от недуга и одновременно откладывая свое возвращение к князьям Ю.
Пауза в делах княжеского родового архива дала мне передышку – никаких видений. Настолько ясное сознание, что все перечисленные прежде истории с монахами, “несговорчивым кабинетом”, висельными письмами, снами Эжена Богарне, кристаллами яда, спортивной гирей, полыньей под мостом казались теперь химерой болезни. В здравом уме я никогда не стал бы ходить по перилам моста, поскольку боюсь высоты. Словом, выздоравливая, решил, что все те истории не приходили поочередно на протяжении нескольких месяцев, а они объявились в неделю недуга, когда я пребывал без сознания в жаре и лихорадке. Когда человек спит – вот тогда все самое главное с ним и происходит.
Прочитав несколько новостей из ежедневной газеты и не увидев ничего устрашающего о доме Ю., я успокоился, отверг самообвинения в помешательстве и настроился приступить со следующей недели к прежним обязанностям у князя. Обычные городские новости вполне примирили меня с действительностью: “Вчера вечером на Верийском спуске была попытка ограбить трамвай”; “Англичанин, купивший мумию в Каире, умер от удара, его друг сошел с ума, секретарь попал под трамвай”; “Внимание прохожих привлекает на улице громадный автомобиль-омнибус, окрашенный в желтую краску”; “В позапрошлом году в Петербурге впервые допущены на империал конок женщины”; “Несчастные случаи, когда трамвай наезжает на пьяных, учащаются в праздник вечером”; “Один хлебопек другому раскроил череп гирей и разгромил дом терпимости”.
Ну вот, и тут гиря. Должно быть, дочь читала из газет, когда я в полудреме пребывал между болезнью и здоровьем. И все смутившие мой ум фантасмагории просто мираж, навеянный реалиями городской неприкрытой жизни с ее трущобами и дворцами, где иной раз мистические события поражают роковым совпадением. Утешает одно: в доме Ю. все спокойно.
Выздоравливающий р. Б. Дормидонт».
11. Кредо абсурдум[21]
Громкие праздники отошли. В обществе «Огнеслав» готовились к весеннему показу полетов перед государем. В Школе десятников приступили к последнему семестру по второму классу выпускников. В Доме трезвости разобрали елку и приняли одиннадцать новых пациентов.
Тюри изобрел для новеньких, поступивших под Богоявление, оригинальную систему распознавания. Доктор категорически запретил нумеровать людей. Тюри предложил сообщить в Преображенскую больницу на Матросской Тишине, будто попечители Хлудовы прислали сверх одиннадцати еще десяток пациентов, а самим Хлудовым сказать, что Матросская Тишина добавила десяток. Так выгоднее вышло бы и с медикаментами, и с деньгами на обеспечение, а излишки можно пустить на прибавку к жалованью персонала. Доктор обозвал старшего ординатора махинатором. Тюри не обиделся. Арсений Акимович – гуманист, компетент, но совершенно непрактичный романтик. И на поводу у дочки ходит, балованной капризной барышни. Она с больными еще в пти-жё[22] играть зачнет, с развратниками-то и пакостниками, с нее станется. В дочери – излишняя чувствительность, в отце – излишняя щепетильность.
Старший ординатор решил не настаивать на нумерации – не тот предлог, чтоб носами биться. Доктор изучал «интересные случаи», вел дневник наблюдений, писал научные статьи для кафедры нервных и душевных болезней. Выписывал три газеты: «Русское слово», «Петербургский вестник» и «Новое время», ежевечерне прочитывая их в целях определения общих тенденций социальных явлений, поставляющих, по его мнению, в Дом трезвости типичных его клиентов.
По утрам Арсений Акимович делился вечерними новостями, которые не успевали протухнуть за ночь. Сегодня его внимания заслужили две новости: первая «Попечители старообрядческой общины Рогожской слободы обратились в городское управление с просьбой провести к Рогожскому кладбищу трамвай или конку» и вторая – «Большинство самоубийц – 32 – прибегли к яду, топились – 5, бросились под поезд и трамвай – 4, выбросились из окна – 3, зарезались – 3, застрелились – 2 и повесились – 2».
В первой новости, о чем доктор не преминул сообщить Тюри на обходе, его поразила хватка старообрядцев, каких-то восемь лет назад имевших опечатанные алтари, а ныне требующих у города прокладки рельс к своему подворью на Рогожке; во второй новости количество самоотравителей в статистике самоубийц – и за шаг до смерти человек ищет легких путей.
По статистике Тюри не мог не согласиться. Вестник регулярно публиковал сведения по суицидам, и «отравители» завидно лидировали, хотя чему тут завидовать.
Персонал увеличился на двух санитаров и двух сестер милосердия. Все опытные, в годах. Из новеньких пациентов выделялись два интересных случая, доктор, должно быть, занес их в дневник наблюдений. Один воет по ночам, другой обнажается, едва оказавшись внутри коллективного сборища: утренней зарядки или трапезы. Приходится силой одевать его, так как он успевает снять даже исподнее и выставить на всеобщее обозрение рахитичную безволосую грудь, а то и вывалить из ширинки распаянный «самоварный крантик». Остальные девять непримечательны: обыкновенные патологические психопаты на фоне запущенного алкоголизма. Тюри издавна беспокоила тема трезвости, вероятно, по причине собственных семейных перипетий, где имелась богатая родословная закоренелых пьяниц, а, возможно, и просто из любопытства к грехам человеческим, к отклонениям нормы, к уродцам из «кабинета редкостей». Если подметить, в его системе координат мир есть кунсткамера, а Создатель – собиратель аномалий и улик.
Сегодня понедельник, стало быть, по расписанию лекция Тюри.
Слушатели по привычке собрались в большой столовой: одни чтобы развлечься, другие за добавкой. На первых лекциях так и завели – подавали клубничный кисель, желе от студня или постные пампушки, чтоб «прикормить» слушателя. Потом комендант и сестра-хозяйка воспротивились: жгут лишнее по вечерам – вырастает расход продуктов, свечей, керосина, электричества. Посчитали, можно проводить лекторий раньше по часам и без прикорма, на одних захватывающих темах. К примеру, доктор читал лекцию о валянии войлока, об удаче в филателии. И ведь вышло зацепить внимание нескольких пациентов, увидать в мутных глазенках промельк разума. Поэт и Солдат кривились на «уроки школы трезвости», но следили более других за расписанием.
Нынче в столовую один из новеньких явился со своею ложкой и монотонно стучал по столу, ожидая запаздывающего ужина. Другой сомнамбулой челночил из угла в угол, не останавливаясь. Третий сквозь зубы гудел, как зуммер, внутренней голосовой вибрацией – жжжзззуууу; у такого нужно было умудриться отыскать тумблер, чтобы выключить на время ему звук. Если тумблер находили (а его место менялось из раза в раз – то за ухом, то на кадыке, то на пупке), тогда больной соглашался умолкнуть до следующего включения. Кличка Зуммер тотчас прилипла к нему сама собою. Метранпаж обучал другого новенького складывать пальцы в двоеперстие: Бог-Отец, Бог-Сын – вместе, а со святым Духом они Троица. У того новенького пальцы, узловатые и закостенелые, и вовсе не сводились, он растопыренными чертил по воздуху и строил козу Метранпажу. Поэт записывал рифмы на салфетках и рвал одну за другой в мелкие клочья, Муза не посещала.
На «былички» Тюри, помимо сгоняемых пациентов, сбегался свободный персонал. Лекции старшего ординатора бывали самыми посещаемыми. Одна кастелянша их игнорировала из злопамятства. Сегодняшние первые пятнадцать минут прошли при полном внимании разношерстой публики, хотя двери столовой то и дело отворялись, скрипя. Запоздал один из ординаторов с новым санитаром. Потом явилась дочка доктора, за нею комендант, промасливший петли из носика жестяной масленки и усевшийся в дверях. Пациенты-делирики более пятнадцати-двадцати минут не могли усидеть на месте, далее их внимание рассеивалось.
Лектор излагал, не поведя бровью на суету.
– Все живущие на Земле есть до поры невостребованные Господом. Вольноотпущенные мы. Верные грешники. Ни в чем другом такого постоянства не обнаружили, как во грехе. Люди – это улики земных грехов. А свидетель, обвинитель и судья – Время. Все происходит в потемках черепахового панциря. Я и сам грешен в питии был, пока не прибился к «чуриковцам». В Спасо-Ефимьевом суздальском монастыре встретился с особым человеком, что собрал вокруг себя братию и проповедовал трезвый образ жизни. А его за то в каземат, в сектантстве обвинили. С полгода отсидел, а за что, спрашивается? Всего-то подал заявку на создание «Общества ревнителей православия». Ну, ему тогда вериги припомнили, таскал, мол, Ваньша Чуриков вериги-то, самоуничижался? Таскал, но возносясь духом. Пьяница ведь тоже самоуничижается, губительно опрощаясь.
– Супу, супу, – заорал новенький с ложкой. – Кукареку!..
На новенького зашикали. Тюри продолжал.
– Объяснял братец Иван заблудшим, каково на их жизнь действует табакокурение и чрезмерное питие. После девятьсот пятого кровавого, принесшего жменю свобод – и почему свободы добиваются на Руси только кровью? – получили люди право на выбор вероисповедания, староверам алтари открыли запечатанные допрежь, а Чурикову узаконили его «Общество взаимной помощи». В гатчинских землях у одного обанкротившегося купца выкупил Чуриков надел. Стал с братией колонию создавать, своими руками с колоска, с гвоздя, с досочки. Животиной занимались, хлеба сеяли. Трактор вскладчину приобрели.
Сомнамбула-челночник из новеньких с грохотом уронил пустой стул и даже не заметил. Все обернулись. Новенький с ложкой, ждавший супу, закрыл лицо руками, вздрогнув от стука. Одного Тюри не сбить.
– Вот глядите, что в руке у меня?
– Сахар, – угадал кто-то.
– Вот такой кусочек давал Иван Чуриков каждому приблудившемуся к колонии, обещая горькому пьянице жизнь сладкую. К одному призывал – к трезвости. «Обет дайте». И ведь выправлялись, рядом с ним трудясь, не табашничая, не употребляя. Не зря его «великим беседником» прозвали. А после привел он братию свою к вегетарианству. То уж позже моего у них пребывания. Я долго на одном месте не засиживаюсь. Теперь слухи доходят, братцу Ивану грозят лишением причастия, коли он не раскается в своих заблуждениях. А и пусть лишат. Многие без причастия живут.
– Власть сменилась, глядите. Свергли царя, свергли! – Солдат выставил вдруг подушку вперед и задрал над головою.
Тюри протянул руку.
– Дай посмотреть? На месте царь-батюшка, в подушке. Трудиться надо, а не бузить. Праздность опаслива. Очищаться надо.
– Грех отпустишь? – напирал Солдат с подушкой.
– Я вам не поп, чтоб на солею тащить. И сам туда не ходок. Но хотя и медицине обученный, а понимаю – никакой медицины без Бога не было бы. Психиатрия самостоятельно не существует. Она есть сфера психологии, а психология говорит про душевные болезни, в каких свободы мало. Болезнь души несет ограничение. А человека даже Господь не ограничивает. Пьяница добровольно лишает себя выбора. Братец Иван Чуриков своим последователям-сопостникам возвращает через сахар и обеты свободу выбора.
– Как Христос? Расскажи про колонию, – послышался голос, и кто-то спрятался за спины впереди сидящих.
– Всякий народ к колонии прилеплялся. Вот однажды прибило к «чуриковцам» Митю Ознобишина из Козельска. Без вериг, а навроде юродивого. Скривлен руками, косолап, ходит наискось. Говорит – не разобрать сразу, пока не обвыкнешь. При нем личный переводчик Елпидифорка. Тот разбирает Митины речи враз, а иногда и приврет малость. Митя эпилептик, калека, аномалик. А в теле той аномалии такая сила необычайная. И с писателями-то он знаком, и с военными, и с думскими. К царице допущен.
– Супу, супу, – заорал новенький и застучал что есть силы по столу. Ложка погнулась. Комендант попробовал отнять ложку, новенький не отдал, но умолк. Рядом недовольно на них двоих загудели.
Тюри хрустнул пальцами и продолжил, вдохновляясь общей заинтересованностью.
– Митя Козельский часто во дворце бывал, пока его не скинуло оттудова дикое существо по кличке «Вытул», а по фамилии Распутин. В газете «Утро России» писано, отец Распутина приставал к его матери, бывшей на сносях, и требовал: «Вытуляй его, вытуляй». Отсюдова и кличка. Нынче Гришка издаля учуял Митину силу, взревновал к влиянию, хочет быть единственным «старцем» возле государев. Позапрошлым декабрем случай вышел…
– Му, муу…
– Да кому неймется? По нужде ли? Так выйди, отлей. Тогда на Ярославском подворье в комнатах архиепископа произошла заваруха. Распутина-Вытула вызвали по поводу наглости его – попом захотел стать. Хлыстовец – в попы?! Скандал. Митя Козельский плюнул в лицо «старцу». Там же якобы хотели и оскопить его за развратность. Усердствовал иеромонах Илиодор, знакомец мой по Почаевской лавре. В народе его иноком Сережей звали. Илиодор умением обладал из кликуш бесов изгонять. В своей епархии монастырь с катакомбами выстроил, крепость неодолимую возвел, тоже возвыситься хотел. А тут рядом кто-то удачнее возвышается. Вызвался помочь спесь сбить с Вытула. До крови сбили. Архиепископ наперсным крестом на колени Гришку установил, велел каяться. Тот в ногах валялся, божился непотребства прекратить и в Царское больше ни ногой. Не сдался бы – оскопили.
Вдруг тоненько, жалобно завыл Черепахов, продвигаясь ладонями вдоль стены. Тюри замолчал, присмотрелся, не приступ ли?
Комендант расстроено ухнул от дверей:
– На самом интересном-то… Уж договори страсти свои…
– Умысла гибельного на Вытула не было, проучив, с тем и отпустили с подворья. А Распутин на мостовой под окнами тут же шум и поднял, из носа юшка, порты разорваны. Кричал, мол, хулу на него возвели, на тело покушались. Газетчики и слетелись, как мухи на гумус. А из Царского села распоряжение – сослать архиепископа и иеромонаха. Но ведь добились же они своего, добились. Вопрос о рукоположении хлыстовца Гришки в попы забыт, и домой его в Сибирь возвернули. Тех двоих сослали в захолустье. А Распутин опять нынче в столице куролесит и ежедневно в газетах мелькает. Про Илиодора доскажу вам, про инока-то Сережу. Слыхивал, будто он прошлым годом, после случая со «старцем», от сана отрекся, расстригся из попов и ушел в «новую веру». Любопытно мне его «Общество Галилея», поскольку и сам я в поисках. Однако после Почаевской лавры не видались мы.
– Про Распутина бы досказал, – попросил один из ординаторов.
– Про него другим разом, отдельно. Зато вот прошедшим декабрем прочел в «Вечернем времени» о Васе-Босоножке или Василии-страннике. Тот тоже в чуриковской колонии бывал. Человек-глыба. Босиком по снегу, по хляби, по льду. Вот так вот без сапог представлен государю со всем своим мировоззрением и идеей выстроить храм в селе бесцерковном. А ведь прежде побирушкою обзывали и в каталажку упрятать хотели. У доктора нашего, Арсения Акимовича, имеется, насколько мне известно, почтовая открытка и марка с Васькиным портретом – редкая вещь. Мало их выпустили, стало быть, со временем в цене возрастет. Вася Босоногий всегда с посохом. Посох его я сам держал в руках – с пуд будет, им хоть лед колоть. Посох с навершием в виде серебряного креста с позолотой, а снизу штык. Молва шла, что сила особая в том посохе. И отбирали у него, и воровали, а посох чудодейственным образом к Васе вертался.
– Супу, супу, – заорал новенький.
– Экий ты неугомонный, – хрустнул суставами пальцев оратор, – режим соблюдать надо и лекцию кончить. Однако Вася всю Россию исходил, всюду деньги собирал на мечту – храм свой. Ему – яйцо, а он – книжицу. От дома, от семьи отказался, с женою развелся, дитя родне отдал, но не по причине пагубных страстей, а из высоких целей.
– Так выстроил? – любопытничал комендант.
– Да, два года назад выстроил-таки храм Знамения Божией Матери. Но по-прежнему ходит по обителям, лаврам, скитам – остановиться не может. От самого Василия слышал о его дружбе с Иоанном Кронштадтским.
Снова грохот, Черепахов сесть собирался, а Солдат из-под него стул выдернул и хохотал довольно. Кто-то тоже засмеялся, первая реакция человека такая: сперва смешное видит, а после чувствует чужую боль. Помогли Черепахову подняться. Пожурили Солдата. Новенький с ложкой воспользовался моментом и схватил подушку бесхозную, царя изнутри свергать. Тут Солдат смеяться перестал и бросился на обидчика. Едва развели их, как Тюри продолжил.
– Отца Иоанна Кронштадтского, молитвенника и предсказателя, приходилось видать в самой крепости Кронштадт. Люди из уст в уста передают и поныне, уж, почитай пятый год с его кончины, как отец Иоанн не единожды предсказывал сильнейшие наводнения в Петербурге. И угадывал. А бывало, и ошибался, вот как с войною. Предсказал, будто двадцать пять лет война будет длиться, а то всего лишь волнения вышли в 1905-м, хотя кровавые. Люди доверчивые видят в нем не последователя, предстоятеля, но и самого Бога Саваофа. На его богослужениях впадали в экстаз, слезами обливались, утверждали, будто протоиерей в моменты наивысшего воодушевления от пола отрывался и в воздухе зависал. Но кому понравится, когда на богослужении перебивают с хоров: «Ты Бог наш, Ты Саваоф!». Слишком умен он был для лести и чужой глупости.
– Жжжзззуууу, – зажужжал второй новенький, – Жжжзззуууу…
Звук зуммера выходил у него похожим: рядом сидящим хотелось от раздражения уши заткнуть. Но и тут Тюри справился ловчее прочих: недолго думая, нажал на сизый пористый нос, и зуммер выключился.
– На своеобычие отца Иоанна падок женский пол, признававший его своим Женихом. «Се Жених грядет в полунощи…» – обмирали перед ним дамочки. Секту поклонниц образовали, отрекались от семейных уз. «Иоаннитки» бились в истерике, клялись в вечной любви, преследовали своего идола. На исповедь к нему очередь в полгода. Глядя на то, отец Иоанн ввел общую исповедь. Вот в Андреевском соборе Кронштадта я его и повидал. Там народу набилось под тыщу, и все одновременно голосили о своих грехах. Думал, шум обрушит купола, а там ведь на колокольне десять колоколов старинных. В гвалте каждый старался перекричать другого, чтоб его исповедь долетела до Иоанна. Не до Бога. Свистопляска.
Тюри остановился. Замер, ожидая мычания или жужжания. Ни того ни другого не последовало. Перевел дыхание и договорил.
– Отец Иоанн окормлял купцов-старообрядцев Стахеевых, те за ним даже пароход присылали в столицу. Месяцев за шесть до смерти сходил он на том пароходе до Елабуги и обратно, всюду по пути следования собирал крестные ходы при неудовольствии жандармов. Помер молитвенник четыре с лишним года назад. Смертью праведника, простившего своих убийц. Даа, обладал человек даром проповеди. И задумаешься поневоле, как он это делал?
Слушатели притихли. Лишь Метранпаж громко хлюпал носом, вытирая слезы.
– Вот какие люди Русь населяют. Пусть они и не во всем чисты, с них за ихнее спросится, а нам за наше отвечать. Но каковы мечты и дела их? Масштабные. А каковы дела ваши? Мизерные да вонючие. Мелкотравчатые вы души. Что видели вы помимо полугара? Блевоту? Вы, имяреки, цените дом, в каком нынче оказалися. Будите душевные движения. Просите прощения у родных, жизнь коих загубили. Трезвитесь. Пост держите. Вспоминайте о себе хорошее. Имейте веру хоть во что, помимо бутылки и штофа. Ищите Бога. Может, и отыщете своего. Кредо абсурдум. Ну, а теперь всем мыть руки. Ограничусь отметить, повариха уж моргать мне устала.
Тюри промокнул лысину платком, заметив, в дверях на стульчике рядом с комендантом сам доктор сидит. Арсений Акимович вышел из столовой первым, за ним потянулись больные в умывальню.
Утром во вторник в расписании все лекции Тюри были вычеркнуты, а напротив ближайшей пятничной стояло имя доктора и новая заявленная тема: «О корабонимике – науке по прозвищам кораблей».
После очередного обхода молчаливый Арсений Акимович удалился к себе без упоминания вечерних газетных новостей. Тюри выждал с четверть часа, спустился со второго этажа и вкрадчиво постучал в двери на докторскую половину. Из глубины комнат едва различимо:
– Войдите!
И сам хозяин навстречу, приглашая пройти из столовой в кабинет. Привычно уселись по обе стороны стола-сенжери с обезьянками.
– Я знал, что придете. Что за запах? От вас, Тюри?
– Да, гвоздичный одеколон. Черепахов сгрыз резиновый шар для пульверизатора. Вот пришлось в ладони, и хоп – пролил малость.
– Так-так. Пульверизатор. Именно что пульверизатор. Пшик…
– Господин архонт[23], отчего сняли мои лекции?
Доктор говорил негромким голосом, но так, что сомнению твердость его решений не подлежала.
– Яркое зрелище, но вредное. У наших больных расшатанность нервной системы. А вы им анархию и нигилизм проповедуете. Блуждание по свету примером даете. Причастие отрицаете. Такие лекции им явно не на пользу. Метранпаж трясся, он ведь через жену-«иоаннитку» пострадал.
Тюри оправдывался:
– Упустил я сей факт. Хотя и старался умалить. И даже деликатно умолчал о собственной оценке персонажей.
– Кредо абсурдум, значит? Вам бы самому вперед разобраться, – совестил доктор.
– Я не чувствую ничего, – без эмоций парировал Тюри.
– Может, это ничего и есть что-то? – не сдавался доктор.
– Ваську покажите. Босоногого, – перевел разговор старший ординатор.
– Марку? Непременно, голубчик. Но позже. Теперь нужно за схемы лечения засесть. Беспокоят двое больных из последних прибывших. Их острая стадия нервирует остальных пациентов.
– Да, последний раз больные так же возбудились, когда фараоны увозили Липкого.
– Полицейская жандармерия? Даа, Липкий – наше фиаско.
– Душегуб. Какая тут наша вина…
– С двумя новенькими нужно что-то придумать, чтобы снять их состояние и приучить к режиму, вовлечь в занятия.
Доктор поднялся, заходил по кабинету. Тюри уведомил:
– На прошлом уроке дала Евгения Арсеньевна задание срисовать вазу. Все справились шустро. Лучше новых срисовали старенькие, из них удачнее всего Метранпаж. На общее удивление он стал похваляться, что один занимался словолитием[24], служил на шрифтолитейном. И умеет купюры подделывать. Надо бы усложнить задачу. Пускай банкноты рисуют.
– Деньги? Нет, это пошло. Предложите рисовать… ну, например, котов. Кот сложнее вазы. Вот, возьмите у меня гравюру. Для образца.
Доктор снял со стены картинку в рамочке.
– Покажите несколько минут и спрячьте. Проверим индивидуально у каждого короткую и долгую память.
– «Подлинный портрет кота великого князя Московии». Видал и прежде ту гравюру.
Тюри повертел картину в руках, оглядел задник. Доктор смотрел укоризненно.
– Все-то вы видали, Тюри.
– Правду, говорю. На ней, сказывают, сам царь Алексей Тишайший изображен в виде кота. Просто художник боялся царя, вот эдаким камышовым котом и изобразил. А камышовые коты, скажу я вам, опасные звери. Раза в три гораздее в холке домашней кошки. Хищные. Такой кот, любимчик боярских палат, хозяину своему воеводе Рюме Языкову глотку перегрыз. Ночью.
– Вот, замечаю, как былички свои поете, так сами меняетесь. Словно другой человек, не медик, а басенник, былинник, офеня.
Тюри завелся.
– А вот чего нету у вас, так другой картинки, какую я тоже видал. Отсылка к энтой гравюре про князя Московии. Однако называется «Мыши кота погребают», слыхали?
– Слышал, но видеть не приходилось.
– Мне довелось их видеть раз дюжину.
– А не привираете?
– Ну, приврал. С пяток видел. Бывают варьянты, где мышей до шестидесяти шести голов. По слухам, «погребение» малевали раскольники.
– Да что вы говорите?..
– Зря иронизируете. Намекали на антихриста Петра и отца его царя Алексея. Мелкая месть. Мышиный парад. Овладение кота мышами.
– Не вникал, голубчик. Мы с вами станем проверять память, внимание и способность пациентов сосредоточиться. Попробуем на рисунках, книжках и списках. Найдите у Евгении книжицы полегче, мои справочники тут не подойдут. Читайте вслух и просите пересказать. Надо понимать, насколько больной способен запечатлеть. Соберите любые предметы, составьте список, зачитайте и просите повторить. Начните с трех предметов, постепенно список увеличивайте до дюжины. Разделим семнадцать больных на четверых. Три ординатора вместе с вами и я.
– Семнадцать на четыре не делится.
– Превосходно, не делится. Тогда я беру на себя пятерых, ординаторы – по четыре. Сходится?
– Когда приступать?
– Завтра же, разумеется. И гравюру берите с собою. С кота Московии и начнем.
Замолчали. Первым продолжил Тюри.
– А что с лекциями?
– Временно я вас отстраняю. Плюсквамперфект. Не назад нужно двигаться, а вперед смотреть. Пациенты наши – заплутавшие люди, а вы их больше запутываете быличками про кликуш, юродивых, блаженных, предсказателей и провидцев. Чистой веры тут нету. Одни магические посохи.
– А где она, чистая вера?
– Меня в свое самоверство не обращайте, Тюри. Меня все устраивает в нашем приходе и катехизисе. А вот что про отца Иоанна умолчали, как он сапоги и рясу бедным отдавал, домой возвращаясь босым, – это не устраивает. Что умолчали про род его, где в священниках служили предки более трехсот пятидесяти лет, – не устраивает. А главное, претит мне ваше ерничество: вроде вы о святом, о благом, а с подвыподвертом. Опорочить, а не прославить, ведь так?
– А не ко всем вы так строги. Я вот заметил, комендант в монастырь бегает стыраверский, беспоповский. Да на Женский двор там ходит. Через Грачёвскую ограду перемахивает. И все ничего. Может, он у них там в наставниках? Или с какой монашкой грешит?
– Кто там у них простец, кто наставник, не важно. Кто поповцы, кто беспоповцы, не волнует. В Хапиловском пруду крещеные или в Иордани – без внимания. Мне больными заниматься надо, голубчик.
Замолчали оба. Снова первым подал голос Тюри.
– Отстраняете, значит? А на жалованье?
– Не повлияет.
– Решение окончательное?
– Изменению не подлежит.
– Без меня ваши лекции лопнут. Не придет народ страждущий.
– Посмотрим.
– Ни шиша. И глядеть нечего.
Трудный разговор оборвался. Держали сердце друг на друга. Наконец Тюри встал и с рамочкой под мышкой отправился в комнату Евгении Арсеньевны за литературой «для чтения на ночь». Доктор зажал фигурку обезьяны в кулаке и окликнул вдогонку.
– А что вы там деликатничали про персонажей?
Старший ординатор по инерции прошел пару шагов, остановившись в гостиной у стола с гобеленовой скатертью, громко хрустнул суставами пальцев.
– Чурикова признаю. Митька с иноком Сережей – шарлатаны. Васька Босоногий – оглашенный, филантроп. Отец Иоанн – не от мира сего, но не Саваоф. Врут все. Все на фу-фу.
– Голубчик, Тюри, а вы? Вы-то кто?
– Я-то? Самовер, из «новых людей» Чернышевского, токмо новее. Новый «новый человек».
1905. Мятеж
«Г.И.Х.С.Б.п.н.
И даже по выздоровлению, проходя мимо Петровского моста через Малую Невку, я содрогался. Но все-таки как хорош мой секретарский кабинет, этот спичечный коробок, двор-колодец внутри дворцовых комнат. Даже несмотря на лютые сквозняки, я прирос к этому месту.
Однажды, едва усевшись на скрипучий стул и приступив к оставленной на середине листа писарской копии, был вызван к князю. Неожиданно обласкан. Небывалый случай: в тот же день о моем здоровье присылала спросить княгиня. Внимание старших Ю. и вид гарцующих в спешке младших совершенно успокоил меня, и я позволил себе засидеться за полночь над работой, наверстывая. Ночью и извозчик дешевле.
Тут-то они и явились, не мешкая.
Монахи встали передо мной торжественно строго. Пришлось отложить свой чернильный “Регуляр” системы Ватермана (эту удобнейшую с капиллярной подачей ручку привез мне прошлым годом князь в подарок из Парижа). И слушать – что на этот раз? Ожидая начала рассказа, бурчал под нос о тщетности самоубеждения в недужной природе гипнотических галлюцинаций и полном несуществовании Хранителей. Монахи тут как тут, вот они – несуществующие, пожалуйте познакомиться. Ждали, пока я поправлюсь. Объявились и наблюдают, как некто Дормидонт силится унять разочарование. Я почихал в платок для виду, мол, недомогаю. Но монахи не дрогнули.
Дождавшись моей готовности, велели взять зонт – откуда зимою взять зонт?! Но зонт мой, черный с щербатой ручкой и одной поломанной спицей, тут же необъяснимо обнаружился в углу возле сундука-комода. Повели вновь под белые монастырские стены на высоком берегу Сторожи. Теперь здесь не видать биваков французов; все благостно, как на буколических пейзажных картинках. Пасторальная благодать рассеялась в миг, едва мы, склонясь, прошли под низкими сводами монастырских ворот на подворье.
Здесь творилось невообразимое. Волосы на голове зашевелились, и больно стянуло кожу затылка. Мы как бы видели три образа разом, но не плоских, какие бывают на парсуне или иконах, а в объеме жизни. Три события, три сцены, вероятно, разделенных по времени, но для наших глаз видимые одновременно и не пересекавшиеся. Самое кровавое и, должно быть, произошедшее последним – это карательная акция усмирения. Но кого усмиряли?
Ржали кони с всадниками, кружившие у Стрелецких палат, и бесседельные. Конские копыта разбрызгивали красные капли луж, незадолго до того прошла гроза и битва. Дождь накрапывал, но о зонте я забыл под впечатлением от увиденного. По двору разбросаны тряпичные истуканы: вялые, ватные, безжизненные тела людей. Одежда, комканое тряпье – единственно настоящее, что осталось от недавно живого человека. Миг от живого до мертвого. Оступился и нет тебя.
Несколько человек со стянутыми за спины руками ждали участи у стены трапезной. Военные в портупеях и с массивными пистолетами в руках громко командовали, возбужденные сечей. Слышалось слово: мятеж.
Вторая картина – несколько человек у Провиантской башни палками и топорами забивают троих вояк: одного в кожаной куртке, кожаных шароварах и кожаной фуражке со звездочкою и двух других проще одетых, но тоже в военном. Я впервые тогда видел обтянутого с головы до ног кожаной амуницией человека. Человек походил на зверя, на кинокефала, на кентавра, отделившего свое тело от тела лошади. Впрочем, те – с топорами и палками тоже походили на зверей, хоть и в цивильном. По виду они из местных прихожан. Монахи попрятались. Всюду разбрызгано, как звездное крошево, светящееся солнцем зерно. У подклета Троицкой надвратной церкви мешки с зерном, вывороченные, предъявленные из тьмы на свет как улики, как утаенное, подлежащее добровольной выдаче. Видимо, монахи доброй волею спрятанное не отдали. Да и должны ли были?
Картина третья, самая дальняя во времени, – внутри храма Рождества Богородицы вскрытая рака с мощами святого. Не с того ли все последующее и началось? В раке разворошенные золоченые покрывала, кости ключицы и череп – о, снова тупая боль в моем затылке – сохранившийся нетленным, со знакомыми чертами. Мы нагибаемся ближе. И я в ужасе узнаю, отпрянув назад. Каково вам такое: вместе с хозяином того черепа вглядываться в его собственные мощи?! Усопший и живой – живой ли? – в двух образах, в двух ипостасях. И кто из них двоих более призрак?!
Как видите, непостижимыми событиями продолжились мои мемуары о будущем. Зонтик я потерял. И сбегал с монастырского подворья с небывалою прежде прытью. Дождь унялся. Пропали кони, пленники, экзекуторы. Объявились монахи, они плакали. Под ногами попадались злаки, тысячи втоптанных в землю зерен-солнц, а над ними высоко-высоко зависало в своем ничто одно беспристрастное горячее солнце. Сохли лужи, оставляя кровь на траве. А над монастырскими стенами разорялся в две тысячи пудов Большой Благовестный колокол с неразгаданной до сих пор тайнописью на стенках. Казалось, оглянусь, так увижу, как он падает с колокольни, бьется вдребезги, языком своим вонзаяся в землю. Нет-нет, с меня довольно. Не оглядываться. Не пятиться с Воскресения обратно в Среду. С восстания духа в предательство. Нет-нет, с меня такого довольно.
Р. б. и узник монахов Дормидонт».
12. «У Мартьяныча»
С четкой понятностью подступила картина ближайших дней: вот как все у них будет. И разрастающаяся нежность погнала к ее дому. Родион не мог удержаться на месте, помчался видеть ее. Предпочел трамвай, так быстрее с Крестовоздвиженского добраться на Преображенский Камер-Коллежский. Сколько он терзался своим неудачным признанием, с месяц?.. Больше? Вот весна подступила. Не жалел о сказанном, нет, потому как сказал на духу, что чувствовал в минуту трепета божественного снега – окропившего город и их двоих. Но девушка оттолкнула, вскочила в подоспевшую пролетку.
На несколько следующих дней он будто занедужил, будто сдался: неприятен? Или напугал? Меховая муфта как щит, мех как шипы. Подступил к черте разрыва, даже не сблизившись. Во дни смятения учился неистово зло, словно наверстывал упущенное, а упущенного и не было. Обгонял по программе товарищей, горячо говорил о будущем с профессором Даламановым, увлеченно философствовал с Валькой, жарко спорил и перебрасывался соображениями о профессии с Филиппом. Но на самом деле сутки напролет оставался наедине с Женей. Ей открывался в осознании архитектуры как дела жизни. Ее знакомил с современным городским стилем, будто она тут приезжая. С ней дышал.
Женя не знает, как стала ему дорога. Он привыкал к ней. С ней было так, как не бывало с другими. Она – загвоздка, сложнее, чем кажется. Чувства ее не на поверхности. Иногда даже видно, как идет внутренняя работа души, мысли: вдруг затуманивается посреди разговора взгляд, она будто улетает в другое пространство и с трудом возвращается к собеседнику, заметив чужое изумление на свое секундное отсутствие. А отвлечь ее мог хоть блик, хоть елочная иголка, хоть пылинка в луче, звук, нота, тень.
И вот внезапно в воскресенье сорвался с места, решился ехать в дом доктора и рассказать девушке про них двоих. Поделиться снами, извиниться за неловкость первого объяснения. Но и просто хотелось видеть ее. Он ведь, как гимназистик, несколько вечеров в те два месяца кружил возле Дома трезвости, стараясь не попасть на глаза доктору или Вальке. Думал, случайно столкнутся с Женей, тогда он скажет, проезжал мимо или провожал Валентина. Но ни разу не столкнулись. Одним вечером даже под окнами ее бродил, не видными с мостовой, выходившими в сад на монастырскую стену. Но и тени силуэта не удостоился. А как по стене флигеля пробежал фонарик коменданта на вечернем обходе, так поспешил бочком-бочком прочь, ворота запрут, каменного забора не перепрыгнуть. И снова что-то мучительно-сладостное щемило внутри, тащило в непогоду из дому, настойчиво вылезало из-под смущения, дразнило, как мальчишку, стеснявшегося собственного возбуждения. Не что-то, а любовь – с прямотою себе же и отвечал.
Теперь трамвай тащился, как назло. А когда Родион все-таки добрался до Преображенского, купил возле афишной тумбы букетик тепличных фиалок, оказалось, напрасно спешил. В докторской половине никого не застал. Запертые двери: ни письма, ни записки. Кастелянша, впившись зрачками-буравчиками в лицо гостя, сообщила, как самодовольно сообщают вездесущие и всезнающие люди, что дохтур в жандармерии разбирается по поводу обрестованного сталовера, что надысь убил Ивана Грозного. А племянник дохтура на почтамте. А дочка дохтурская вчерась укатила в пролетке с антрепренером и не возвращалася на ночевку. Все враздробь, что за дом такой.
Ступени крыльца вели в две стороны: влево – в сад у монастырской стены, голый и снегу не скинувший, а вправо – к дорожке до уличных ворот. Куда податься: перепутье.
Вернулся в дом. Кастелянша в гостиной продолжает начищать зубным порошком парадные чайные ложки. Внизу тихо, со второго этажа раздаются глухие звуки. А тут за столом песенка вьется неожиданно тоненьким, не воинственным голосом:
- «Добродушный святой старец
- В гости странничков зовет
- Вы пойдите, отдохните
- Под покровом у меня
- Вечер, сумерки настали
- У Содомских у ворот
- Добродушный святой старец
- В гости странничков зовет…»
Родион нарушил песенку, кашлянув.
– Ой, переполохалась, че надо-ти?.. Старшой ординатор у себя. И ловриды по палатам. На евоном дежурстве не особо разбредаются, мазурики.
– С каким антрепренером уехала?
– Одному Богу весть. Ищи ее таперича по всему свету. Тот лошадь чуть в стороне держал. А тут она бочком-бочком, знает, комендант вскорости воротчики-то на запор. Тот ей букетик в руки, как кулек пряников копеешных… и свистнул по-разбойничьи… Кони с места. Чистый антрепренер. Но лица не разглядеть, темнело. Ищи таперича по всему свету.
– Следили?
– Самую малость. Я до своих в Фигурный отпросилася. И углядела, как не остановиться-то? Дохтур цельный день нынче хмурился, пока в участок не уехал. И правда, аномаликов им мало, в добавку привели обрестованного. Надо ж Ивана-царя убить… Ой, конец свету приходит, нынешний год – 1913-й – распоследний, Календарёв говорит…
– Зачем так больных называете? Аномалики…
– Дык лысай черт их так прозывает – старшой ординатор. Да и вообще они – козельё.
– Любите это дело – ругаться?
– Люблю я варенье кулубничное. А тебя дохтур поминал намедни: где мол, Тулубьев запропастился, советоваться, мол, надо.
– Подслушивали?
– Самую малость. На межделях.
– А по какой надобности советоваться?
– Недослушала. Ладно иди, что тута карасин жгешь зазря. Вони жгуть. Ты жжешь.
На краю стола подвядали фиалки. Родион со ступеней сбежал направо. Но остановил старухин голос с крыльца:
– Стой, Родивон Романыч…
Вернулся, будто за последним словом. Старуха в пуховый платок кутается.
– Прости безглавую. Записку тебе оставили.
– Господи… Давайте же!
– Коль явится, говорит, так отдай. А я-то про антрепренера, про сталовера обрестованного…
Старуха старалась заглянуть в клочок бумаги, развернутый гостем прямо тут на крыльце в ярком квадрате окна гостиной. Прочитавший скомкал записку в кулаке, поблагодарил и быстрым шагом ушел к остановочному павильону трамвая. Кастелянша поежилась, окинула сад придирчивым взглядом – ничегошеньки с утра не осело: вода под настом стоит. Когда уж весна-то? Всякая весна – Великая. Ни одну Пасху не пропустит. Поежилась да спешно ушла в тепло. А записочку она прочла загодя, разобрала по слогам. И писано там было стройным почерком: «Ждем у “Мартьяныча”. Апостол Петр». Ну, кто ж «Мартьяныча»-то в Москве не знает, известный вертеп. Да апостол Петр к чему тут?
К «Мартьянычу» Филипп, как закопёрщик, прибыл первым. Столик на троих в полуподвале на Верхних торговых рядах заказал заранее, жаль, кабинет достался окнами не на Красную площадь, а в Ветошный переулок. Сейчас, развалясь, принял позу адвоката, выигравшего дело по золотым приискам. Здесь ему нравилось больше, чем в ресторациях на Никольской или в Охотном ряду. Малиновая бархатистость диванов, малинового стекла штофы, мягкий свет. Но все же флер запустения, некая небрежность заметна. Траченый бархат, отбитая горловина, духота против прошлой свежести проветриваемых помещений. Смена владельца с рачительного на равнодушного зачастую ведет к краху даже самое успешное заведение. Известный факт, создававший более печется о своем детище, чем получивший готовое. Официанты – прощелыги, конечно, непременно обведут вокруг пальца, да где не обведут… Нынешний половой, как две капли похожий на своих напарников, обслуживающих кабинеты слева и справа, смазлив и самоуверен: поклон его всего лишь полупоклон, полууступка, и нос чего-то морщит, обнюхивает. Керосин учуял? А Филиппу хотелось за те чаевые, какие он с друзьями может оставить тут, иметь больше к себе внимания и восторга. Но половой, похоже, физиономист, в глазах чертяки юлят и насмешечка на губах гуляет, вот-вот обронит, господин студеозиус, чего изволите-с.
– Братец, испить бы. Душно тут у вас… – закапризничал Филипп.
– Минеральная швейцарская, газовая с сиропом из Антверпена, квас малиновый, квас имбирный, квас с хреном, морс рябиновый, сельтерская первый сорт… Что пожелаете-с?
– Сельтерской…
– Сию минут-с.
– Нет, стой. Содовой.
– Из Антверпена?
– Просто содовой.
– Как скажете-с.
– Пироги есть?
– Как не быть-с… Свежайшие. С капустой, с требухой, картошкой, грибами, с зеленым луком, щавелем, с вязигой, с морошкой, голубикой, ежевикою. С перепелиными яйцами. И высший сорт от шеф-повара – с семгой. Вам с требухой?
– С семгой давай. С собой завернешь, на вынос.
Филипп скинул пиджак, расстегнул ворот белоснежной рубашки, втянул носом одеколон у манжета с фальш-запонкой. Неужто несет керосином? Откинулся на мягкую спинку и уставился в дверной проем. Все три официанта высокие, поджарые, словно балетные мальчики, кажется, раз, и на пуанты встанут, если бы мужчины носили пуанты. Светлого шелка рубахи обвязаны длинными, до мысков, черными фартуками. Передвигаются в юфтевых сапогах легко и бесшумно, движения плавные, будто заученные па выписывают. Огромные серебристые подносы держат высоко над головою и споро пробираются между рядами столиков. Перемещения их походят на танцевальные движения ансамбля, где у каждого «солиста» своя роль. Филипп просил не притворять до времени кабинетные двери, боялся упустить Петрова с Тулубьевым.
Можно было, забавляясь и оставаясь невидимым, из глубины наблюдать за подвыпившей публикой, неуверенной в движениях, громкой в голосе, соревнующейся друг перед другом: у кого больше счет окажется. Пудреные щеки, потные лбы, мокрые усы, сальные улыбки, полуобъятия вожделения, шепоток в ушко, жеманство и гривуазность – вся прелесть человеческой гнусности налицо. Как дики ему эти рожи, как они смешны ему эти анатомические уродцы. Разговора в какофонии не разобрать, но точно говорят не о воздушных перелетах, не о прогремевших Бородинских торжествах, не о новой трамвайной ветке и даже не о хлеб-соль, что царь недавно от староверов принял – немыслимый прежде жест замирения. Да и что бы им о том говорить, когда всякий думает лишь о собственной значимости и успехе, о личной выгоде. Раньше тут публика респектабельнее окормлялась. Да раньше и цены тутошние кусались. Филипп всего один раз и бывал при прежнем хозяине-то, при самом Мартьяныче. Тогда в подростках водил его глава семейства – Гаврила Макеич. А отец – Корней Гаврилыч, должно быть, никогда в подобные заведения и не заглядывал, где ему, ни размаха дедова, ни амбиций. Сам Филипп, как пить дать, в Гаврилу Макеича, не в отца, не в мать – тапком прибитую мышь.
Петров и Тулубьев ожидают, их созвали отметить окончание Школы. Более прочего выпускников волнует будущее. Нынешней припозднившейся весною окончили курс, сдали зачеты. Вскорости их распределят по московским стройкам на практику. А летом останется сдать выпускной экзамен и лети своей траекторией. Но ничуть-ничуть, не одно окончание курса причиною сегодняшнего похода в ресторан. Финичек приготовил им сногсшибательную новость. Не Финичек, а прямо-таки Финист Ясный сокол. И довольный собою доедал третью порцию гусиного паштета и попивал третью бутылку содовой, рассудив, что та дешевле сельтерской будет. Хотя содовая слишком теплая. И хотелось попенять половому, но, глядя на самодовольною рожу «физиономиста», решимости не хватило. Сделал вид, будто всем доволен. И плевать, что официант выражением лица не угостил.
Петров пришел раньше Тулубьева, близоруко оглядывался в зале. Филипп вышел встретить, проводил в кабинет смутившегося обстановкой Валентина. За столиками в центре вопили все громче, сорвав пальмовую ветвь в кадке и приставляя ее поочередно к головам сидящих дам, как перья к шляпкам.
Валентин только что с почты, мать снова прислала денег и подробное письмо о делах партенитского имения. Звала сына на каникулы к морю, интересовалась племянницей и сводным братом. Нынешним летом ожидался первый урожай от новой плантации фетяски сорта «Храм Соломона». После маменькиного письма обсуждали Валькины «долги» по физике и теории геодезии. Филипп божился помочь, как разделается со своими заботами. И загадочно пояснил, что надвигаются на него большие хлопоты.
Родион застал друзей за поеданием курника. Заказали кулебяку, мясную солянку, почки жареные; курник нашли слишком жирным, повторять не стали. Заспорили по выпивке. Вальке хотелось красного вина, Филиппу – шампанского, подобающе моменту. Водку настаивал подать Тулубьев.
– С чего шампанское? – мимоходом спросил Родион. – Водкой обойдемся. Не по деньгам нам Верхние ряды.
Принесли водки.
– Я ни при чем, мне Красная площадь для гонора не требуется, – отмежевался захмелевший после первой же стопки Валечка.
Филипп и не собирался оправдываться, такое место ему сейчас по душе: шумное, многолюдное, где твой успех как бы на виду у всех.
– Экие вы оба, здесь сейчас дешевле выйдет, чем в «Яре», «Стрельне» или «Золотом якоре». Посидим шикарно, а заплатим задешево.
– С чего бы то? Об рекламную тумбу ударился? – бурчал Родион.
– Тулубьев, ваш сарказм нынче прощается по случаю отличного моего настроения. Туточки хозяин поменялся. Больше года, поди, как Мартьяныча собственный сын пристрелил. Слышали?
– Слышали, – тут же откликнулся Валя, – то ли из ружья, то ли из пистолета. Дядя говорил, мальчишка теперь на Матросской Тишине в лечебнице под надзором.
– Ну, да… тот самый случай. Но все-таки из арбалета. У них арбалет на ковре висел рядом с семейными ятаганами.
– И ковер видали, и ятаган щупали? – Родион слухам не верил.
– Тулубьев, ну вот те крест, сам слышал про арбалет. А нынче старшие сыновья в управляющих. И дело отцово держат не так и не то. Фонтан в Лазоревом зале, где даллия плавала, сухим стоит. Никаких гирлянд из цветов. Витражи на простые стекла заменили, зачем спрашивается. Паштет гнусный.
– Курник жирный, – подхватил Валя.
– Правильно, Апостол, курник жирный. А рожи у официантов – плутовские. Но тут дешевле выйдет. Ну, за нас? За триумвират Удов – Петров – Тулубьев! За нерушимую дружбу! За наш верный союз!
– За нас! За союз! – воскликнул Валентин.
– За нас! – поддержал Родион.
Водка холодила, не в пример содовой. Кулебяку доставил половой, доложив: почки жарятся, солянка вот-вот будет готова.
– Э… в кулебяке до двенадцати слоев мяса должно быть, а тут и шести нет. Я тут, можно сказать, завсегдатай. Отлично кухню ихнюю знаю. Дурить стали. Предлагаю, господа, выпить за нас, десятников. Может, это не так и почетно, как за кавалергардов с золотыми эполетами, а все же и мы без пяти минут готовые спецы.
Стеклянные стопочки хрустнули, но не дали звону богемского хрусталя.
– Ну, кто готовый специалист, а кто и нет, – грустно выдал Тулубьев.
– На курс архитектуры останешься?
– Останусь, Валечка. У Даламанова добро испросил, раньше класса экстерном сдам. Параллельно с практикой по десятницкому делу.
– А справишься?
– Справлюсь. Чувствую в себе злую силу… неистовую…
Родион рассмеялся. По груди шло тепло, уходил озноб непогоды, расстройство невстречей. Сейчас, должно быть, и руки ее стал бы просить у Арсения Акимовича, так сосет под грудиной, да вот незадача: ни невесты, ни благословляющего.
Вслед его смеху рассмеялись и друзья.
– Вот и я ощущаю в себе что-то подобное… Как ты сказал, неистовую силу? Да, да, но не злую. Я – добрый, в отличие от вас, господин без пяти минут архитектор. Филипп Удов не может быть злым. Я имею шарм и анатомически ладно скроен, порода такая. Меня природа создала совершенным, большим и добрым. Я – кондиция и даже сочувствую тем, кто не красив. Как живется им?.. Трудно живут, добиваются. А мне часто на блюдечке достается.
– Сомнительное очарование, опасное, – хмыкнул Родион.
– Однако развязался у тебя язык. Ты и вправду, Удов, ладно скроен, залюбуешься: так все в тебе гармонично. Заразительно обаятелен. Румянец вон во всю щеку. А у Тулубьева ямочка на подбородке – признак твердости характера. У меня же бледное лицо и безвольный подбородок, я не умею шармировать[25]. Ты говоришь то, что и сам я про вас думаю. Вам обоим учеба просто достается. У меня же долги… по этой… Филипка помочь обещал. Хотя он большей частью в «Огнеславе» обретается.
– И грезит о золотых эполетах. Разве десятником не престижно быть? – встрепенулся Тулубьев. – По моему разумению, как дело делаешь – вот что важно. Понятно, что за десятником закрепилась дурная слава. И горласт, и разухабист, и нетрезв, и матерится знатно. А мне кажется, можно в работнике видеть равного человека, а не батрака. Отказаться от дурных правил собирать мзду в собственный карман. Мол, не дал десятнику трехрублевочку, так и наряда не будет тебе впредь. Поборы это неправедные. Десятник горазд обещать в трактире, а, протрезвев, норовит обмануть, потому как знает – на его стороне сила: дать, не дать работу поденщику и сезоннику.
