Колдуны
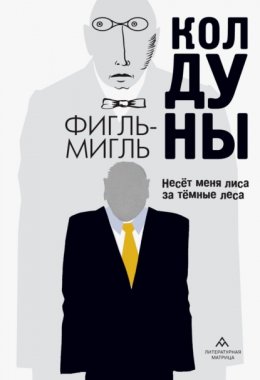
© ООО «Литературная матрица», 2024
© ООО «Литературная матрица», макет, 2024
© А. Веселов, оформление, 2024
«Победоносцев!» Я ни слова. «Победоносцев, вставай!» Молчу. «Обер-прокурор! Действительный тайный советник! Член Государственного совета! Сенатор!» Нет, о нет. Дудки. «Константин Петрович! Россия гибнет!» Да что, говорю, и не такие царства погибали. Однако встал.
Из зеркала на меня смотрел взъерошенный русый юноша, сероглазый, курносый, с лицом приятным, но незначительным и без того добродушия, которое заставляет мириться и с пустыми, недалёкими людьми. Насколько показывало зеркало, на нём не было даже исподнего. Мы находились в уборной, чистой, опрятной, но невообразимо, кукольно крошечной. Все предметы, которые я никогда не видал собранными вместе, были здесь стиснуты, как корзины в кладовой прасола: ванна, watercloset, поставец, полотенца на стальной рогуле. Назначение их я опознавал, вид был непривычен.
Откуда-то я знал, что молодого человека зовут Васей.
Я обдумал, как взяться за дело, и прямо и просто сказал:
«Вася! Меня зовут Константин Петрович. Я твой внутренний голос».
– …Не понял.
«Внутренний голос. Даймон, как у Сократа».
– Чего?
«Я Победоносцев».
– Кто?
Вот как, подумал я. Всё великое земное разлетается, как дым.
«Константин Петрович Победоносцев. Надежда тёмных сил. Кошмар русской жизни. Проводник обскурантизма, стеснения, лжи. Угнетатель правды и свободы. Злой гений и палач общественности. Серый кардинал. Мозг реакции. Бюрократический вампир. Никон в вицмундире. Кощей православия. Торквемада. Великий Инквизитор. Русский герцог Альба. Истинный нигилист; отчаянный фанатик. Враг всякого движения вперёд, гаситель всякого света; с юных лет мумия. Казённый и деревянный. Иезуит, поповская кровь, скопец, импотент, старая девушка. Нелепый мираж. Сумасшедший. Лампадоносцев, Бедоносцев, Доносцев, Мельхиор, Копроним. Чёрный колдун, паук, вурдалак, летучая мышь, бледный как покойник. Тайный правитель России».
– …Я знал, что не надо с этими таблетками связываться. «Попробуй, попробуй пару штук под вискарик!» Да, блядь, попробовал. «Копро…» что?
«Копроним по-гречески означает “соименный навозу”. Это прозвище византийского императора-иконоборца Константина Пятого».
Прозвище пустил Тертий, который мнил себя первым на Руси церковником. Что Тертию Филиппову, выблядку ржевского почтмейстера, даже Московский университет кончившему с грехом пополам, знать о византийской истории! «Нечестивейший Константин, предтеча антихриста» был властитель, который за пределами империи успешно боролся с арабами и болгарами, а внутри – с греческой узостью и политическими притязаниями монахов; поощрял переселение славян в Малую Азию, поставил на место монастыри.
– Ёб, что со мной…
«Вася, как не стыдно? Где у тебя мыло? Так… возьми стаканчик. Наболтай раствору. Молодец. Теперь прополощи рот».
– Как же это я буду рот мылом полоскать?
«Да вот как говорил грязное слово, так и полощи».
– Ага, сейчас. Разбежался. Ой-ой-ой! Больно!
«Всякий раз, как ты меня ослушаешься, у тебя будет мучительно болеть голова. Вот так».
– А-а-а!!! Перестаньте, Константин Петрович! Полощу, полощу! Бэ-э-у!
«Жаль, что меня нет в пространстве. Ты бы смог убедиться».
– Вас вообще нет. Вы наркотическая галлюцинация.
«Можешь не разговаривать со мною вслух. Я и мысли прекрасно слышу».
– Все?
«А ты уже злоумышляешь?»
Я не мог читать его мысли, те, которые он не обращал ко мне. Уже потом оказалось, что в попытках обмануть он неуклюж, забывчив, не умеет разом держать в уме ложь вчерашнюю и новую, хитрит бесцельно, по инерции ленивой души, или ради неважной, мгновенной и почти всегда мнимой выгоды. Отчасти это перекрывалось нахальством, упорством, уверенностью в своём праве лгать. Его легко было вывести на чистую воду и трудно – заставить сознаться.
Как и он сам, я не видел его лица без зеркала, но зеркалом становились запинки, увёртки, излишний напор. И не только со мной. Даже люди, с которыми он был хорош, как я слишком быстро имел случай узнать, страдали от его – не знаю другого слова – бесстыдства.
«Где ты служишь, Вася?»
– Я не служу. Я работаю.
Некстати мне вспомнилось удивление старика Бекетова на слова о том, что министры завалены работой: Да что они там работают? Дрова, что ли, рубят в кабинете своём?
«Да? И в каком министерстве?»
– Уж сразу в министерстве! Все министерства в Москве. А я так, в районной администрации.
«Что, даже не в канцелярии генерал-губернатора? …Подожди, что значит в Москве?»
– То и значит. Вы что, с луны свалились? Не слышали, что главные органы государственного управления находятся в столице? А туда же: я тайный правитель России! я, бля, Константин этот самый! Не нужно, я же стараюсь! Нет!!!
«Берись за мыло».
Случившееся было для Васи потрясением, но и для меня тоже. Я рассчитывал на хотя бы губернатора, министра. Я не рассчитывал попасть в дрязги с испорченным мальчишкой. И уж тем более – очутиться в Петербурге, который без своих министерств, и Государственного совета, и Государственной думы, и, полагаю, двора, и, стало быть, гвардии, и бог весть чего ещё прежним Петербургом быть не мог.
Сердцу моему отчасти было сладко. Ненависти к творению Петра я никогда не скрывал. Петербург есть местопребывание двора, чиновников, войска и иностранцев. Не один я, все мы, московские, не терпели этого города, из которого выходит всё зло на Россию. Бездушный, безлюбый, суетный, город этикета и эгоизма, город полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармского ража – и в укор ему милая, тёплая Москва, где всё родное и намоленное, эти церкви, монастыри, сады, луга, кривые улички, помещичьи усадьбы; Москва моего младенчества, не слыхавшая о полноценном водопроводе, газовых фонарях и порядочных тротуарах, ещё в чём-то фамусовская, ещё дворянская, ещё полная преданий александровской эпохи и войны, хлебосольная, невинно-самодовольная, простодушная, живущая на покое, домом и барином; и здесь же обломки екатерининского века, богатая руда оригиналов-самородков; город штатский, подраспущенный, капризный, не привыкший к дисциплине; в Москве просторно; и Москва, куда я вернулся в сорок шестом молодым правоведом, публичные лекции в строгановском университете, «Москвитянин» Шевырёва и Погодина, молодой кружок славянофилов, их клич Да здравствует Москва и да погибнет Петербург; Хомяков, диалектический ратоборец; очень рад, что нашёл поприще бесконечное для своего игривого ума; Чаадаев, красивый идол строптивых душ и слабых жён, битва его с Вигелем за первенство среди московских умников и почётное место; семисотлетие Москвы, когда были запрещены любые публичные чествования; скандальное убийство Луизы Симон-Деманш; и Москва пореформенная, купеческая, всё громче заявляющая о своих правах, Москва Каткова, Москва протянувших свои щупальца раскольников, Москва фабрикантов, коммерческих банков, торгово-промышленных съездов и экономической оппозиции, которая закончила прямой поддержкой пресненских мятежей девятьсот пятого года. Да, вот чем закончилось.
Вася между тем воспользовался затишьем. Стараясь не привлекать моего внимания, он поел и оделся (в таком порядке), подхватил портфель (ох, не берёт мой Вася бумаг на дом), таясь, позвякал ключами и так крался вниз по лестнице, словно взаправду верил, что меня можно оставить за запертой дверью.
Во дворе (не двор, но и не улица, не разберёшь что; очень много деревьев, кусты, цветники, лето в цветении, июнь или июль, ни одного дровяного сарая) он расправил плечи и задышал свободнее. Тут-то я его и огорошил.
«Это где же мы? Потише, голубчик, ты так без головы останешься».
– На Охте.
«И не говори со мной вслух, это производит неправильное впечатление».
– Может, как раз правильное? Может быть, я с ума схожу?
«Нет, Вася. Ты просыпаешься. Перед тобою великое поприще. Подумай о России».
– Опять? Константин Петрович, я жить хочу, а не Россию спасать.
«Ну полно, что за ребячество. Ни тебя, ни меня никто не спрашивает».
– Но почему я?
Действительно, с чего бы это. Я его уже напугал – и чего добьюсь, прибавив к страху оскорбление. Вот скажу я ему: Вася, я смущён и озадачен не меньше твоего. Ты человек маленький, ничтожный и дурно воспитанный; вдобавок мне с тобой уже скучно. Его это, вероятно, обидит, как обидела Макара Девушкина гоголевская «Шинель». Щекотливость маленьких и ничтожных, столь восхваляемая нашей безумной литературой, есть свидетельство не каких-либо тонких чувств, которых вовсе не в этой полуобразованной и жеманной среде нужно искать, а одного малодушия.
«Этого я не знаю».
– Да что вы вообще знаете.
«Ничего, что было после 1907 года».
– …Это же больше ста лет!
«Сто лет только звучит страшно».
Эти расстояния невелики. Мой отец дружил с Каченовским и хорошо знал Мерзлякова; Каченовский родился, когда ещё были живы Вольтер и Руссо, Мерзляков мальчиком в Перми видел людей, помнивших самосожжения; я сам, если глядеть в другую сторону, жил при четырёх императорах; на моих глазах появились железные дороги, электричество, автомобили, дамы-велосипедистки и телефоны.
«Эти расстояния невелики. При мне изобрели телефон, а мой отец хорошо знал Мерзлякова».
– …
«Как же это вы Мерзлякова забыли? Знаешь песню “Среди долины ровныя”?»
– Нет.
- Среди долины ровныя,
- На гладкой высоте
- Цветёт, растёт высокий дуб
- В могучей красоте.
- Одних я сам пугаюся,
- Другой бежит меня.
- Все други, все приятели
- До чёрного лишь дня!
– Нет, Константин Петрович, пожалуйста, не пойте. И помолчите хоть немного, мы уже пришли.
Я-то могу помолчать, говорил Лев Тихомиров, да сам вопрос не замолчит.
Мне не понравилось.
Швейцара не было; рассыльных не было; атмосферы хорошей канцелярии не было; а увидев Васин закуток, я оторопел.
– Вот. Мой кабинет.
«Это, Вася, не кабинет, а какая-то французская каморка».
Я любил наши огромные, скучные, голые кабинеты с репсовой мебелью и письменными столами размером в добрый бильярд. За которыми, да, мы именно что работали, по двенадцать – четырнадцать часов в день; потяжелее порой, чем мужики. Трудолюбие было едва ли не самым распространённым качеством среди министров Александра Третьего. Граф Дмитрий Андреевич Толстой не мог усидеть спокойно, пока на его столе оставалась хотя бы одна непрочитанная бумага; Бунге вообще неизвестно когда спал – и Вышнеградский, и Витте после него; огненный стул русского министра финансов со времён Канкрина не был синекурой. Вышнеградский поехал с дежурным докладом в Гатчину на другой день после удара, потому что считал это своим долгом; Витте тогда исхитрился предупредить государя, и государь Александр Александрович весь доклад промолчал, я ни одного слова не говорил, чтобы его ещё больше не нервировать, чтобы он был покоен. Он сделал доклад и ушёл, и когда уходил, немножко шатался. Плеве, при его исключительных познаниях и памяти, работал каторжно, без отдыха, вникал во всякую погрешность или неточность. Да что там! Даже в предыдущее царствование Дмитрий Милютин набрасывал резолюции так подробно, что их оставалось только перебелить, а Валуев, пока был министром внутренних дел, лично состоял в переписке со всеми губернаторами.
Бедный мой Вася задатков министра в себе не имел. Какое-то время он сидел за своим столиком, глядя в стену, потом привёл в действие некое устройство и стал глядеть в него. Я тоже глянул.
Мне ли не узнать входящие-исходящие, в каком бы то ни было новом странном обличье, чёрную магию приказного дела!
И приказного слога, приходится добавить. Не на пустом месте возник знаменитый постулат «трудно так рассказать, а написать легко». Мои товарищи-правоведы, свежие после выпуска, с ужасом обнаруживали, что у них нет средств выбиться из этой колеи, не употреблять заученных форм в бумагах и лгать безбожно; белоручка Герцен зло смеялся над чернильными душами, чернильными гадюками; сколько раз я сам видел, как всякую ревизию погребали под собой кипы неисполненных или неправильно исполненных бумаг.
«Помочь?»
Вася подскочил:
– Да не мешайте вы мне!
«Ты всё равно ничего не делаешь».
– Я думаю!
«Думать отныне буду я».
– О судьбах родины? – поинтересовался он довольно ехидно.
«А как, по-твоему, это должно выглядеть? Ну, где здесь начало, где конец? Что за гаражи?»
Вася застонал и зажмурился:
– Нет, это невыносимо! Если ещё и вы! С этими блядскими гаражами!
«Вася!»
– Что «Вася»?! Здесь мыла нет, садист проклятый! Ой! Нет, не надо! Помогите!
«Тише, успокойся. Сбегутся сейчас».
– За что вы меня тираните, Константин Петрович? Что я вам сделал?
«Успокойся, говорю. Попей водички. Где у тебя?»
– Это идти надо. – Он встал. – Может, и правда. – Сам себе, с надеждой. – Хлопну кофейку, в голове и прояснится… Если что, так и в дурке люди живут.
По звуку голосов я предположил, что комната полна народу, причём дело у них прямо идёт к рукопашной, увидел же цветы в горшках, диван и чайный столик – ни одной живой души. Голоса не унимались.
«Вася, ну-ка обернись».
На стене висела… висело нечто. Сперва я принял это за картину, потом – за раскрашенную фотографию, потом обнаружил, что фотография говорит и движется и именно люди на ней производят весь шум. Должен сказать, далеко им было до иных заседаний в Комитете министров, когда генералы и тайные советники начинали переругиваться и говорить друг другу глупые дерзости. Хороши наши ребята, только слава их дурна.
Всех наконец перекричал плотный буйный армянин, из речей которого я понял, что восточный вопрос и через сто лет остался где был.
Я ещё послушал и сказал Васе, вертевшему в руках белую чашку:
«Не иначе в него граф Игнатьев вселился».
Николай Павлович Игнатьев провёл свою служебную жизнь под девизом «Знай наших!». В Китае он обдурил лорда Элджина; русским послом в Константинополе выезжал в Порту при всём параде, в коляске, запряжённой четвёркой, с конвоем; свита в полной форме в двенадцати экипажах, ординарец-болгарин в роскошном восточном костюме, огромного роста, увешанные оружием черногорцы на охране посольского дворца; сам этот дворец, видный далеко с моря, и над ним русский двуглавый орёл, широко простирающий крылья над городом; а чуть стемнеет, туда же пробираются под покровом темноты тёмные люди, авантюристы, агенты, проходимцы, политические интриганы; Солсбери сказал Игнатьеву за обедом: говорят, вы ужасный человек, у вас множество шпионов по всему Востоку; ответ Игнатьева: у меня действительно много помощников из числа борцов за свободу; русский посол всё всегда знал первым и лучше многих, никогда не жалел собственных денег, никогда не бегал ответственности; инструкций мне не нужно, но их и никогда не дождёшься; неколебимо верил в свою звезду; неустанно трудился; первый трезво взглянул на братушек; автор, как-никак, Сан-Стефанского мира (урегулировал дело на английский манер, поставив всех пред свершившимся фактом); и он сам, некрасивый, маленький, с большим широким лицом, рядом с деревянной своей Екатериной Леонидовной, солидарной с ним, впрочем, в тщеславии и честолюбии; она – любезная, с каменным сердцем, он – смешной, живой, враль; бельмо на глазу у Горчакова. Валуев говорил: князь Горчаков болен отчасти подагрою, отчасти Игнатьевым. Иван Аксаков противопоставлял его Бисмарку.
Там, в Константинополе, Николая Павловича называли москов-паша и вице-султан, а здесь, в Петербурге, – брехун-пашой и королём лжи. Турецкие министры его откровенно боялись, а старая бандерша генеральша Богданович величала уродом и «фокусником», и сам Богданович, уличённый мошенник, распутник и вор, рыльце во всех пушках, в какие могло попасть, не упускал случая высмеять; и как здесь же в восемьдесят первом году все за ним, не переставая смеяться, бегали. Да, была у графа Игнатьева склонность: лгал, как птица поёт, собака лает, без малейшей нужды и расчёта, даже во вред себе; человек, сплетённый из интриги, прожектёр, болтун, Ноздрёв, российский Тартарен, и всё же очень умный, очень русский человек, не из чистого металла, даже и весь из лигатуры, но звенело, звенело в нём серебро русского инстинкта, и кто из знавших забудет очарование его живой речи, меткость словечек, юмор!.. Его безумная затея с Земским собором много попортила мне кровь; но что он не удержался в министрах – не моя вина и не моя заслуга. Государь, хотя и вынужден был отправить его в отставку, дал разрешение подавать записки, и Николай Павлович ещё какое-то время куролесил. Потом он вдался в финансовые авантюры, столь же фантастические, как его политические прожекты, и жизнь кончил полунищим – единственный член Госсовета, на чьё жалованье наложили арест.
«Пусть это будет тебе уроком, Вася. Свои страсти нужно держать в узде».
– Константин Петрович! На… простите… на… простите… на черта мне всё это знать?
«Чёрта не поминай».
– Да что ж вы придираетесь! Как мне тогда вообще говорить?
«Вежливо, по существу. И вовсе тебе не обязательно говорить, пока я не спрашиваю».
– …А можно мне, наконец, выпить кофе? Или так и будем в телевизор пялиться? Не выношу уродов.
«Кто они?»
– Политологи, то-сё. Депутаты думские.
«…А ты в каком чине, Вася, чтобы кофе в присутствии пить?»
– Чего?
«Титулярный советник, не больше».
– Чего?
«Ладно, пей».
– Соизволили! Премного благодарен!!!
Вася сердито застучал посудой, довольно безобразной. Кофе он не молол и не варил, кипяток взял из – назовём это так – титана. Праведный гнев во всех его движениях мало-помалу сменился угрюмой назидательностью.
«Ну и что ты дуешься?»
– А то, что я не хочу вам подчиняться!
За какие грехи ты мне достался, такой глупый, подумал я.
«Подчинение подчинению рознь. Можно подчиняться как раб, вместе трусливый и негодующий. Или монах – со смирением и верой. Солдат, офицер – »
– Или собака жучка!
– Васька! Ты чего там под нос бормочешь?
Вася неохотно обернулся на звонкий девичий голос.
– Ещё и ты.
– И тебе здравствуй.
Всё, что я успел сегодня увидеть по дороге в управу и в ней самой, подготовило меня к встрече с Екатериной Шаховской только отчасти. Стриженые женщины, простоволосые женщины, размалёванные женщины, женщины в тесных мужских панталонах, женщины с такими подолами, что стыдно взглянуть, женщины, отдающие распоряжения, были теперь повсюду. Шаховская была и стриженая, и растрёпанная, и в невообразимых штанах, но повеяло от неё амазонками, великими императрицами прошлого, а не той эмансипе, которая так пугала князя Одоевского. Эмансипированная женщина, стриженая, в синих очках, неопрятная в одежде, отвергающая употребление гребня и мыла и живущая в гражданском супружестве с таким же отталкивающим субъектом мужеского пола или с несколькими из таковых. И бедный князь добавлял: «Да от них должно вонять нестерпимо».
От этой, по крайней мере, пахло приятно, каким-то слабым одеколоном. И милое скуластое лицо портил только прямой неженский взгляд; весёлые, наглые и безжалостные глаза. У генерала Скобелева были такие.
– Шаховская, шла бы ты своей дорогой. Нет у меня комментариев для прессы.
– Как жаль. Твои комментарии – любимое лакомство моих читателей. Как ты там про гаражи сказал? «Администрация не желает идти под суд из-за чьей-то гнилой картошки».
– А что ещё я мог сказать? Я юрист или кто? Гаражи стоят на законных основаниях. Устранить законные основания может только политическая воля. Эти идиоты, инициативные граждане, требуют политической воли от меня? Да? Чего б им самим тогда не подогнать втихаря бульдозер и снести всё, что не нравится?
– Нет, в таком смысле они не идиоты.
– А, так это, видимо, я идиот!!!
«Вася, Вася, – сказал и я, – тише, успокойся. Кричишь, как уличная. Разберёмся мы с этими гаражами. Надо разобраться. Я помогу».
– Не надо, Константин Петрович, – сдавленно сказал Вася и затряс головой. – Я не вынесу.
Шаховская посмотрела на него с неожиданным сочувствием.
– Мне тоже с утра не по себе. – Она помолчала, словно прислушиваясь, сморщила нос. – Нет, это ни к чему. Нет, это я не тебе. Скажи мне, Василий, где сейчас Фома?
– А я знаю? У себя или по району скачет. Тётки из КДЦ недавно смеялись: с утра едва дверь откроют, а он уже стоит на пороге и проверяет. Э, об этом писать не вздумай.
– Фома уехал в Смольный.
– Но он сейчас не ездит в Смольный. В смысле, только на совещания.
– Вот именно. Ни с того ни с сего. И это открывает простор для домыслов.
– Не хочу я никаких твоих домыслов! Дай мне спокойно жить!
– Скучный ты, Васнецов, как репа. Не хочешь блестящей борьбы и пламенных порывов. Родился мелким служащим. Им и помрёшь.
– Да! И прекрасно! Зато в глубокой старости.
– Ты уже в глубокой старости.
И опять она ненадолго застыла, сердито хмурясь. Ага, голубушка, подумал я. Интересно, кто там у тебя? Генерал Фадеев, авантюрист? Иван Аксаков, лже-рыцарь? Ренегат Тихомиров? Жалкий, если нужно ограничиться одним словом, князь Мещерский? Блестящий негодяй Сергей Татищев? Не приведи боже Катков? Никого из них я не желал себе в помощники.
Я ничего не знал о новом веке, но решил не форсировать. Что такое КДЦ, кого Вася вульгарно называет «тётками», кто есть Фома и при чём тут Смольный институт – всё со временем прояснится. Характер человека всегда важнее обстановки, в которой этот человек действует.
– Что же ты не спросишь, что мне надо от Фомы?
– Ничего не хочу знать.
В характере Васи я уже начинал разбираться.
«Зато я хочу», – сказал я.
Но и Шаховская привыкла игнорировать Васины хотения.
– Боюсь, стыжусь, исчезаю, – невозмутимо сказала она. – Слушай внимательно. Пришла мне мысль взять вашу заунывную газетку в свои умелые руки. Вдохнуть в неё новые… ну, что-нибудь вдохнём. Борьбу и порывы. Типа «где ж луч, где заря, где варвары». Их нет! А без варваров что делать?
– …Нашу газетку? Это в которой объявления про субботники и встречи ветеранов?
– Видишь, сколько всего не хватает. Например, передовиц.
– Ой, ну представляю, что Фома скажет. Мало, что он от твоего блога на стенку лезет?
– Да, журналистские расследования – мой конёк. Но теперь я хочу писать передовицы.
– …А от меня что нужно?
– Ничего. Ты – пробный камень, на котором я оттачиваю приёмы обращения с бюрократией. …Про варваров не буду ему говорить. Не оценит.
– Как будто он оценит всё остальное.
– Медленно думаешь. Про Смольный я кому говорила?
– Его туда возьмут так и так. Рано или поздно.
– Держу пари, он решил, что лучше рано. И не «так и так», а с фанфарами.
– И с твоей помощью?
– Не язви. Власти необходима правильная поддержка прессы.
Дурочка ты моя, подумал я, да кто ж тебе такое сказал? Мы ли не нахлебались от этой «правильной поддержки» и было ли в мире хоть одно правительство, не помечтавшее хоть раз о полном истреблении печати, равно дружественной и враждебной.
Печать! Кулачное право образованных народов! Пусть лают на нас, им же хуже, бросил император Николай Первый, когда ему предложили отвечать на ругательства заграничных журналистов. Кроме того, что считаю сие ниже своего достоинства, но и пользы не предвижу; мы будем говорить одну истину, на нас же лгут заведомо, потому неравен бой… Через двадцать лет объявился Катков и сказал: нет, отчего же, давайте попробуем. Я не отрицаю его великой заслуги перед Россией во время Польского восстания, когда не только общество растерялось, но сама власть искала идейного руководства; зато же потом этот бесконечно самолюбивый, властный, обуреваемый страстями человек превратился в какого-то буйнопомешанного, опьянённого собственным влиянием, увидел в себе священного руководителя общественным мнением, осмелился написать новому царю: в моей газете не просто отражались дела, в ней многие дела делались; возомнил себя единственным защитником трона и Кабинетом министров в одном лице; «одобрял» или «не одобрял» нашу политику, не понимая, что в газетном фельетоне неуместно давать советы монарху о наилучшем усовершенствовании правительственного механизма; и при всём том ловкий, наглый делец, выжига, интриган, неблагодарный, с гадкой улыбкой, не гнушавшийся слыть приятелем таких лиц, как Цион или генерал Богданович. Хорош столп государственности! За одно то, что он впутался со своими интригами, пытаясь разрушить российско-германский союз, его следовало повесить.
А другие? Иван Аксаков с «Речью»? Вово́ Мещерский с «Гражданином»? От косноязычных разъяснений «Правительственного вестника» было меньше вреда, чем от этих независимых союзников власти, и они же ещё и обижались. Аксаков и его сторонники сделали всё, чтобы втянуть нас в бессмысленную войну, и не успокоились после, науськивая графа Игнатьева подать его чудовищный проект, и ещё потом, в связи с грязными болгарскими делами, а когда у царя лопнуло терпение, на всех углах стали кричать, что пострадали только за то, что пытались помочь правительству. Конечно, Иван Аксаков был всё-таки человек с опытом государственной службы и не жил в таких фантазмах, как покойный его безумный брат – маскарадный мниморусский костюм, широкая татарская рожа, кулак в арбуз, тосты да возгласы; вряд ли, кроме «долой», знавший какое другое слово. И даже Иван Аксаков уповал на «общественность», тогда как вся наша общественность была – заговорщики из Яхт-клуба в противостоянии мудрецам из Царёвококшайска. Да разве, говорил государь, газетные толки – общественное мнение? И всё это в эпоху господства журналистики, которая знание и труд заменяла задором и верхоглядством; лавочек под фирмою журналов; мирно-революционных газет; посреди лживых речей о правде, скверных слов и скверного молчания; редакций, пропитанных духом хамской фронды, кружковой нетерпимостью, личными счётами и поверх всего – произволом, когда вашу мысль фильтруют сквозь мозги нескольких идиотов; совладать с подобной клоакой! влиять! Разве что Бисмарк, этот великий мастер фальсификации, умел, даже и виртуозно, управляться с прессой, потому что знал ей цену до грошика и добродушно, если такое слово применимо к Бисмарку, презирал.
– Я не могу! Не могу! Кому всё это надо!
«Вася, не вслух. А надо это в первую очередь тебе».
Мы уже вернулись в свой кабинетик. Вася поплотнее прикрыл дверь.
«Мне не может быть надо, если я знаю, что не надо! Никакому нормальному человеку! Бисмарки, насморки… Ох бля… то есть боже мой…»
«Понятно. Что ж, давай займёмся твоими гаражами. Поехали посмотрим».
«Зачем? Вот у меня всё в компьютере».
Я уже вдоволь налюбовался пишущей машиной двадцать первого века, орфографией двадцать первого века и всё той же извечной мелкочиновничьей неспособностью грамотно составить бумагу.
«У тебя и год назад всё было в компьютере. Сам говоришь, не сильно воз сдвинулся».
«Да никогда он не сдвинется! Они будут писать и писать. Нам, в прокуратуру с жалобой на нас, губернатору, царю… Идиоты, отвечаю!»
«…Я правильно тебя, Вася, понял? В России сейчас есть царь?»
«…Ну такой, неформальный».
«А формально он кто?»
«Президент».
«Пожизненный?»
«Трудно судить. Он же ещё не умер. …Константин Петрович? А вы, может, новая разработка ФСБ? В тестовом режиме? Ну типа для выявления пятой колонны и чтобы нейтрализовать превентивно? Так я абсолютно патриот. Выбора́ там, георгиевская ленточка, никаких демонстраций. Крым наш! «Фейсбук»[1] – фашистская организация».
«…Нет. Что бы ты ни имел в виду, я не чья-то разработка. Безобразное слово, тебе не кажется?»
«Не безобразнее другого, что они вытворяют. Ой, бля, боже, я не это хотел сказать. Клянусь, клянусь, со всем уважением!»
«Вася, мы должны доверять друг другу».
«Ага. Конечно. Вот разработка именно так бы и сказала. Ну почему, почему я?!»
Посмотреть на гаражи мы, разумеется, поехали. В маршрутке Вася вынул из кармана очередное устройство и уткнулся в него. Я не стал ему досаждать, хотя и предпочёл бы глядеть по сторонам. Не то чтобы мне хотелось. Сколько помню, я не бывал на Охте, а если и бывал, только на похоронах. Так и представляю её: стороной кладбищ, огородов и фабрик.
Ржаво-грязные, крашеного железа гаражи, похожие на жестяные банки, были втиснуты между обшарпанными, похожими на пятиэтажные каменные бараки домами. На сером асфальтовом пятачке перед ними стоял неказистый автомобиль. Двое инородцев неторопливо выгружали серые мешки.
«Ну вот. Прибыли. Поглядели. Много увидели?»
«Кое-что. Не иди туда. Встань поодаль. Да-да, чтоб тебя не видели».
Подъехала ещё одна машина, больше отвечающая моему представлению о роскоши. Из неё вышел господин в серой паре.
Так появляется злодей в нашей пьесе.
Он оказался ещё молодым, отлично одетым, невысоким, улыбчивым, с бесхитростными (будет время их разглядеть) глазами. Опасные глаза: то серые, то серо-жёлтые, всегда смеющиеся.
Ах ты ухарь-купец, подумал я. Разбойник с большой дороги.
«Вася, спрячься получше. Не высовывайся».
«А то б я сам не допёр!»
«Знаешь, кто это?»
«Нет, но ведь всё видно».
«Не могу не согласиться».
За спиной, в глаза и газетными обиняками меня честили за любовь к авантюристам – несчастную «слабость», чуть ли не сродни падкости князя Мещерского на гвардейских барабанщиков. Да, я ценил в людях огневую жилку – и в ком же из них ошибся? В Скобелеве? Герой Миша, Белый Генерал, блестящий, храбрый, лихой; понимал людей и умел их использовать; роковой человек – умный, хитрый и отважный до безумия, но совершенно без убеждений; по Петербургу гуляла кличка Первый Консул; после его московского триумфа генерал-губернатор Долгоруков говорил, что видел Бонапарта, возвращающегося из Египта. Государь, это правда, терпеть его не мог ещё с тех пор, как наследником наблюдал в действующей армии под Плевной; отдавая ему полную справедливость, я всё-таки считаю его как человека дрянь и скотиной, какой он был всегда; сколькими тысячами дорогих русских жизней он жертвовал только для того, чтобы про него говорили! Везде хотел играть первую роль, везде интриговал, любезничал с корреспондентами, чтобы они про него писали – что-что, а это вполне удалось, превозносили Скобелева до небес и в наших газетах, и в иностранных. Что же с того? Есть люди, пороки которых приносят больше пользы, чем у иных – добродетели. Пытался я объяснить, что в смутное время вот таких, безнравственных, но способных не только говорить, но и действовать, нужно, погасив в себе личное нерасположение, привлекать на свою сторону, – и отступил. Государь не мог. Честность и простота, за которые так любили человека, вредили самодержцу; и не зря он поставил в свой рабочий кабинет в Гатчине бюст Павла Первого.
Или, может быть, я не разглядел Баранова? Герой «Весты» – не то подвиг, не то буффонада, – человек замечательных способностей и энергии, неутомимый, на ногах и при деле с утра до ночи; герой дня, которого не переставал разбирать, ругать и судить весь Петербург; умный, находчивый, моя правая рука в учреждении Добровольного флота, уже тогда хорошо знакомый Александру Александровичу; да, отставной флотский, не управлявший ничем крупнее канцелярии Гурко, в неделю обратился в столичного градоначальника – и прекрасно действовал, невзирая на объявившихся врагов, толки и ярлык «трагикомического шарлатана», и мог преуспеть, если бы не отчаянная вражда Николая Павловича Игнатьева, новоиспечённого министра, принесшая в итоге вред им обоим. А что из Баранова вырос отличный губернатор, распорядительный и любимый населением, видно по тому, как ловко он, единственный, управился с эпидемией холеры в Нижнем Новгороде. При этом, не желавшее ждать честолюбие, наклонность к интригам и фокусам; краснобай, нетвёрдых правил; а как он – с чего, собственно, и началась карьера – вышел в отставку! Великий князь Константин Николаевич, не привыкший думать в своём Морском министерстве, бестактно отозвался о каком-то барановском сочинении. Великий князь: Такую статью мог написать только подлец. Баранов: Ваше императорское высочество, я не отвечаю на оскорбления только двум категориям лиц: французским кокоткам и великим князьям.
С Ашиновым, признаю, промахнулся. Герой крупного и непечатного красноречия; полузверь Ашинов и безграмотный монах Паисий; скоты, настоящая банда; государь почти сожалел, что французы их не побили хорошенько; газеты захлёбывались жёлчью; но что нелепого было в первоначальной идее? Бисмарк её нам подкидывал; Баранов предлагал захват берегов Таджурского залива. «Новая Москва», русская колония на африканском побережье Красного моря; смогли бы они там укрепиться, оказались бы чуть другими – пусть теми же скотами, но хотя бы смелыми – людьми, кто бы посмеялся в этом случае? Был, между прочим, 1889 год, державы почти открыто схлестнулись в Африке, Гордон и его отряд уже погибли в Хартуме, вырезанные дервишами, «великий старец» Гладстон превратился в «убийцу Гордона», Англия всё глубже запускала когти в Египет, увязала в трениях, на грани войны, с Францией; Солсбери пришлось откупаться от кайзера. В самой Абиссинии шла война на два фронта, с дервишским Суданом и оккупационными войсками Италии, старый император погиб, новый принял Виктора Машкова, ещё даже не поручика, пробравшегося в глубь страны на свой страх и риск – только через три года он повезёт Менелику Второму, более-менее официально, ответные подарки русского царя, триста пятьдесят винтовок, которые кривыми и косыми путями покупали чуть ли не в Голландии, до того МИД боялся что-либо сделать открыто: два министерства приседали и отмахивались, иностранных дел и военное, Гирс и Ванновский, который отдал бы Машкова под суд, будь его воля. Пять лет им понадобилось, чтобы решиться установить с Абиссинией дипломатические отношения и отправить миссию в Аддис-Абебу; когда экспедиция полковника Артамонова накануне и во время Фашодского кризиса блуждала, первые белые в этих местах, первые белые, переплывшие Белый Нил, по дебрям Африки, момент уже был упущен – без порта, без угольной базы, при положительной враждебности не терявших времени даром французов. Так и уплыло из рук – единственное независимое государство на континенте, и единственное христианское… да, христиане… двадцать лет назад придворный знахарь лечил негуса, скармливая ему, в буквальном смысле, Библию, но тот умер на Первой книге Царств.
Вольно́ было гнусному Щедрину хохотать вместе со своими читателями над странствующим полководцем Полканом Редедей и делать вид, что сдуру, из прекрасного чувства полетел Ростислав Фадеев в Египет в семьдесят пятом, но разве Щедрин один был такой? И зубоскал Суворин шутил, что Фадеев, после поражения в полемике с Юрием Самариным, даже в Африку съездил, чтобы проветриться. С тех самых пор, когда генерал Черняев взял Ташкент и господа министры во главе с Валуевым смеялись: никто не знает почему и для чего, укоренилась привычка презирать дальние завоевания. Не вкусна говядина! Для чего? А вот для того, чтобы в следующий раз наши эскадры не получили, как это произошло в семьдесят седьмом году с эскадрой Бутакова, требование покинуть американские порты под предлогом нейтралитета США в Русско-турецкой войне. «Разлетелись надежды наши на заатлантических наших друзей», – сказал тогда Дмитрий Милютин. Не понимаю, чего он ожидал. В международных отношениях державы дают добровольно только то, что мы в состоянии взять и без их соизволения. И красные пропагандисты, и помешанный на правах и значении родового дворянства Валуев, и благонамеренные либералы, и Дмитрий Алексеевич Милютин, сам, впрочем, благонамереннейший либерал, твердили, что империя больше нуждается в честных тружениках, чем Ермаках и Хабаровых, как будто это какая-то панацея была, честный труженик.
«…Константин Петрович… Может быть, они и правы? У нас уже были военные базы во всяких там… Абиссиния – это где?»
«Ну как же, Вася… Страна эфиопов, земля Офирская… Помнишь, корабельщики Хирама привезли Соломону золото из Офира и великое множество красного дерева и драгоценных камней? Не помнишь? Ты что, совсем Писания не знаешь? …Кстати, кто сейчас в Синоде обер-прокурор?»
«Я про Синод не знаю тоже ничего. Совсем».
«Церковью кто руководит?»
«Патриарх».
«Патриарх. Вот как».
«Вам опять не в дугу?»
«Много радости это патриаршество России принесло: Никона да раскол!»
«Без подробностей, пожалуйста».
«Хорошо. Что это он делает?»
«Говорит по телефону».
Ашинов не одного меня обвёл вокруг пальца. Ивана Аксакова и Каткова – в Москве, великого князя Владимира Александровича, Игнатьева и Суворина – в Петербурге; Баранов за него хлопотал, правые во Франции – дважды! – приняли с восторгом; все попались, журналисты, идеологи и царедворцы, все с детской радостью верили нахальному аферисту, в его решимость и секретные станицы в горах Курдистана; жизненно всем был нужен головорез, кучка флибустьеров, а правительство в стороне и ни при чём; кто виноват, что головорез оказался Хлестаковым, как это было предугадать, как с первого орлиного взгляда определить, полезный перед тобой авантюрист или дрянь, тряпка, изолгавшийся и ни на что не годный проходимец, бестолково и ненужно погубивший тех, за кого должен был отвечать, когда французская эскадра расстреляла из корабельных орудий «Новую Москву». Двадцать раненых, шесть убитых – и пятеро из этих шести дети и беременные женщины. Французы отказались помочь раненым, обращались со сдавшимися как с пиратами, грабили откровенно; ничего этого не было бы, если б государь и Николай Карлович Гирс думали о русском престиже, а не о перспективах франко-русского союза, такого же противоестественного, кстати сказать, как православный молебен в синагоге. Не вступились! Позволили французскому правительству поступать по своему усмотрению! (Что те и сделали, sub rosa жалуясь на давление англичан, но, уверен, от себя и с превеликим удовольствием. Для сравнения: в Фашоде французский отряд и Китченер разошлись с поклонами после совместного чаепития и исполнения «Марсельезы» английским оркестром. Ни один солдат не был ранен, не то что убит.) Нам, доложил министр, ничего не известно о заключении будто бы означенным лицом соглашения с местным туземным начальником. Лишь после этого французское правительство повело себя так, словно экспедиция высадилась в окрестностях Ниццы, а не в весьма сомнительном протекторате, о существовании которого и не все туземные вожди были осведомлены.
Ах, государь, государь! Ашинов был трус, скот и пройдоха, Ашинов впутал нас в ненужные сложности, но с ним были двести человек русских подданных и русский флаг.
«Константин Петрович?»
«Смотри, Вася, внимательно. Этот человек – роковой».
Ловкий, светлоглазый, и ведь ничего зловещего: поговорил, в последний раз огляделся, сам себе кивнул, сел в свой автомобиль и отбыл.
Но я почти не удивился, когда, вернувшись в присутствие, мы встретили его снова, ещё на лестнице. Улыбающийся злодей шёл вниз, об руку со свежим толстым господином с повадкой молодого генерала. Увидев их, Вася встал как вкопанный.
Они все теперь являлись на службу в партикулярном платье, и Табель о рангах, как я понял, отошла в область преданий – кабалистический язык нашей Табели о рангах! – шитьё… петлицы… пуговицы… ничего! При мне вся служащая Россия была затянута в мундир, от гимназиста до сенатора, и как же над этим смеялись, как ненавидели. Но в чём ещё было искать спасения? Только порядок, дисциплина, жизнь в мундире, жизнь начищенная, отглаженная, с протоколом на всякий чих, с формой на каждый случай – для племени безвольного, распущенного, самодурного, без принципов и с огромной фантазией, чтобы подсобрать дряблое тело, стянуть, выпрямить, дать осанку, смысл, красоту, достоинство…
– Здравствуйте, Евгений Петрович…
– Васнецов! Где ты бродишь, когда нужен? – недовольно сказал толстый господин, Васин – теперь уже не было сомнения – принципал. – Вот, Аркаша, – поворачиваясь к злодею, – с кем работаю. Кадры! А ты спрашиваешь, почему бумаги не пришли. Потому что всё сам! сам! Скоро и газоны стричь буду!
Сердце в Васе трепыхалось, как птичка, и уставился он, как и следовало ожидать, не на своего начальника, а на ухмыляющегося злодея.
«Вася, – сказал я, – не бойся, стой ровно. Не смотри на него. Смотри на генерала. Он у тебя генерал? Как его? Евгений Петрович?»
– Ну? – бушевал Евгений Петрович. – Что? Что с тобой вообще такое? Посмотри-ка на палец. – Он подвигал перед Васей пухлым чистеньким пальцем. – Покажи глаза. Прекрасные глаза. Я читаю в них желание работать. И ты будешь работать. Будешь. Иди покажи Аркадию Ивановичу документацию по «Берегу».
– По «Берегу»?
– По «Бе-ре-гу», – терпеливо и кротко повторил Евгений Петрович. – Я рад, что ты наконец расслышал. – Всё более терпеливо, всё более кротко. – И прости меня, Васенька, если вдруг нарушаю иные твои планы. Что-то, гхм-м, приоритетное. Средь бела дня! В рабочее время!!!
Мученик, подумал я. Страстотерпец. Трудится за семерых, ни от кого не получая благодарности, изнемогает, никем не оценён и не понят – и это, разумеется, не его вина, что бумаги в беспорядке, подчинённые лживы, ленивы и в высшей степени неспособны, курьеры ободраны, канцеляристы засалены и сторож беспробудно пьян. Он действительно убивается.
– Но…
«Вася, не спорь», – сказал я.
– Васнецов, что тебе опять непонятно? – сказал Евгений Петрович.
– Идём же, Василий, – сказал злодей, одним плавным движением и разворачивая Васю, и подталкивая. – Не бойся меня, маленький, – добавил он уже в коридоре. – Я тебя не съем. А если и съем, ты даже не почувствуешь.
– Зачем меня есть? Я ничего не сделал.
– Таких-то, сам знаешь, и едят.
Мягкий, вкрадчивый голос, кошачья точность движений, элегантность во всём, словах и одежде; обаяния – хоть лохань подставляй. Вася шёл в полуобмороке, а я только и мог ему шептать, как встревоженной лошади: «Тише, тише, всё хорошо».
«Берег» оказался безобидным товариществом, берущим у казны подряды на благоустройство. Неприметные, опрятные, трусливые, такие не пускаются во все тяжкие и дорожат своим маленьким хлебным местом.
Вася доставал договоры, отвечал на вопросы и наконец не выдержал:
– Это же «Берег»! Они же, типа, образцово-показательные! Губернатор на объезде не нашёл, к чему придраться. Да что губернатор, Фомин не находит! Что можно из них выжать?
– Ах вот какой вы здесь прилагаете критерий. Но я не собираюсь что-либо выжимать. Не отрицаю, возможности есть. Невеликие, но есть. Благоустройство… Может быть, они наркотики по клумбам прячут? Может такое быть? Сомнительно. А что несомненно? Несомненно то, что случиться при необходимости может всё что угодно. Здесь. И не здесь. И в дальних странах. Из-за какой-то, как ты говоришь, герани обыкновенной. – Злодей говорил и, не отрываясь, листал и рассматривал. – И знаешь, Василий, лучше тебе не думать, что и по какой причине я собираюсь делать. Брось эти мысли, Вася! Тяжело с ними будет жить. – Он обернулся на шорох без стука распахнувшейся двери. – Входите, барышня, входите.
Шаховская, которая ворвалась было в комнату, отпрянула и застыла на месте.
– Прошу прощения. Я потом зайду.
– Не потом, – сказал Аркадий Иванович, – а прямо сейчас. Я никогда не откладываю развлечений. В отличие от работы, «потом» в этом случае может и не быть. Будем знакомиться.
– Я не развлечение. Я новый редактор «Вестей района». Екатерина Шаховская.
– Гм. Прозвучало как «Правительственный вестник». По меньшей мере.
– С чего-то надо начинать, – хладнокровно сказала Шаховская. – Вы вот и сами… – Она с насмешливым вопросом огляделась. – Кстати, дадите интервью?
– Не дам. Я предпочитаю действовать за кулисами.
– Я полезных интриг разоблачать не буду. Поддержка со стороны прессы, а?
– Меня не нужно поддерживать, я не падаю.
Что ж ты такое? думал я. В чинах, раз уж пришёл и распоряжаешься; а если не в чинах, то в полномочиях. Особые поручения; ревизор; восходящая звезда Министерства внутренних дел. …Из правоведов? «Всякие самомнящие правоведы», – говорил о нас Болеслав Маркевич. И Витте мне как-то сказал со смехом: правоведы, лицеисты и инженеры путей сообщения держатся друг за друга, как евреи в своём кагале. Витте, человек весьма и весьма неглупый и, скажем так, своеобразный, умел быть откровенным, к тому же ему вообще нравилось со мной разговаривать. А вот Иван Аксаков, сделавший себе пугало из петербургской казёнщины, к концу жизни возненавидел и Училище, и «правоведский тип», и нас, былых однокашников.
– Ну, Екатерина Шаховская, редактор? И ты, мой Василий? Не молчите в благоговении. Помните, что Талейран сказал? «Язык дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли». Не то чтобы я не был польщён. Но разве в ваших интересах, чтобы я знал, о чём вы сейчас так дружно думаете?
Талейран!
«Воплощённая ложь, живое клятвопреступление, нераскаянный Иуда»; «опытный христопродавец»; кузен Анри и юрисконсульт в шифрах Нессельроде, шпионивший для Александра Первого при правлении Наполеона и, вероятно, после (Наполеон у Нессельроде был Терентий Петрович, Александр Первый – Луиза, сам он – танцор, а положение дел во Франции – английское земледелие); «мы побеждаем! – кто же именно? – это я вам скажу завтра»; «прежде всего – не быть бедным»; «князь Талейран оттого так богат, что он всегда продавал тех, кто его покупал»; «неужели князь Талейран умер? интересно, теперь-то зачем ему это понадобилось?»; «не существует монархии без дворянства»; о Шатобриане: г-н Шатобриан не продаётся, потому что никто не даст цену, которую он за себя заламывает; «никогда не усердствуйте»; «никогда не тороплюсь, но всегда буду вовремя»; 18 брюмера на вопрос, что он делает: ничего не делаю, жду; узнав о смерти Наполеона: больше не событие, всего лишь новость; об убийстве герцога Энгиенского: «Есть из-за чего делать столько шума. Заговорщик схвачен на границе, его привозят в Париж, расстреливают. Что же в этом экстраординарного?» О Наполеоне: как жаль, что столь великий человек так плохо воспитан. Их отношения с Наполеоном никогда не были дружбой, хотя порою напоминали брачные узы. У него не было друзей. Он был ангельски красив; книги, собаки и женщины сопровождали его всю жизнь. На моей памяти никто и думать не думал о Талейране, все отчаянно искали русского Бисмарка.
Вволю накуражившись, злодей отбыл, оставив по себе запах одеколона и смятение.
Шаховская смотрит на Васю, Вася – на Шаховскую.
– Кто это вообще такой? – говорит он почти шёпотом.
– Ну, я сделала пару звонков…
– Узнала что-нибудь?
– Почти ничего. – Шаховская присела на край стола; непозволительно. – Что само по себе странно. Может быть, боятся; может быть, не хотят говорить. Или сказать нечего. – Она покрутила рукой в воздухе. – Аркадий Иванович Шпербер, спецпредставитель.
– При полпредстве? Да при чём же здесь мы?
– Совсем ни при чём. …Его погоняло – Небрат.
– Как?
– Вот и я о том же. Девяностые какие-то, если мы правильно их себе представляем. Бандитизм и беззаветные отморозки. Небрат! Это даже для бандита как-то слишком.
– …Он не может быть из девяностых. Ему лет тридцать.
– Тридцать пять. И ты заметил, как он одет? У него цветок в петличке! С вашей, между прочим, клумбы. И галстук ручной работы.
– Розовый, – с отвращением сказал Вася.
– Да. И где-нибудь в шкафу, надеюсь, расшитый розовыми бутончиками жилет. Я люблю пидорстайл.
– Ты думаешь, он – ?
– Нет. Я думаю, ему плевать, что о нём думают. Эффектный парень. Талейран, ёлки-палки! Алкивиад, если понимаешь, о чём я. И Константину Николаевичу понравился.
– Кому?
Шаховская нахмурилась:
– Никому. Ты не знаешь.
«Зато я, похоже, знаю, – с горечью сказал я. – Вася, спроси у неё немедленно: это Леонтьев?»
– И не подумаю! – сказал Вася возмущённо и, разумеется, вслух.
Шаховская посмотрела на него ещё более хмуро:
– Ну-ка немедленно колись.
Шаховская была права: не видел я у него цветка, когда Аркадий Шпербер стоял и смотрел, затаённо улыбаясь, на гаражи; бледно-розовую петунию он сорвал с нашей клумбы. И этот простенький, грошовый цветочек, сорванный мимоходом, случайно, небрежно, бросался в глаза сильнее тщательно выбранной оранжерейной диковины, орхидеи или розы, был более зловещим и ярким, вызов и дерзость его переполняли. Спаси, Господи, люди Твоя.
– Да чего?
– Васька!
– Я ничего не сделал! Я не виноват! И я не сумасшедший!
– …Голос в голове, правильно? Из прошлого?
– Ну. Подожди, а как ты догадалась?
«У неё тоже», – сказал я.
Без Царя и трети земель. Вместо Российской Империи – Российская Федерация. Вместо Зимнего – Кремль. Вместо русского народа – новая орда. Опускаю частности. Постреляли, поубивали – всё как следует, честь честью.
Если бы после восьмидесяти лет жизни в России я ещё мог чему-либо удивляться, то удивился бы дьявольской точности, с которой сбылись, стократно, разумеется, раздавшись, мои страхи. И лихой человек пошёл гулять по ледяной пустыне, и революционный ураган очистил атмосферу, даже с излишком. Надеялись же бараньи головы, что у нас такая вещь, как революция, пройдёт церемониальным шагом, чинно помавая красными флагами.
«Вася! Просыпайся, к обедне опоздаем».
«Угу».
«Вася!»
«…»
Пророк Божий Наум, наставь младенца на ум. Каждый день Вася просыпался с отчаянной надеждой, что всё случившееся – дурной сон. Морок. Наваждение. Результат неосторожного обращения с веществами.
На всё необъяснимое, чудесное слабые люди (и Вася был слаб, умом и характером) сперва реагируют истерически, потом, не зная, что думать, перестают думать вовсе. В первом ошеломлении он едва не бросился к докторам, но Шаховская его остановила.
– Васнецов, ты больной? – сказала она. – Ты понимаешь, что они сделают, если узнают, что у тебя голоса? Это же немедленно на учёт. Прощайте, права! прощай, госслужба! А взорвут опять где-нибудь? Тебе твой Победоносцев ещё не предлагал подложить бомбу под губернатора? Нет? И как ты будешь доказывать, что нет?
– …Есть же и непсихиатрические причины. Вдруг у меня опухоль в мозгу? Вдруг это реально болезнь?
– Конечно, это болезнь. Но есть и худшие болезни, и более отвратительное здоровье. Придётся рискнуть.
Шаховская, коли на то пошло, беспокоила меня больше, чем Вася, а Константин Николаевич Леонтьев – больше, чем Шаховская. Я догадывался, что эта парочка прекрасно поладила, но надолго ли? Оба слишком яркие, своевольные, готовые вспыхнуть как порох, привыкшие задавать тон и верховодить; добавить к тому все капризы Константина Николаевича, несносную прихотливость его пристрастий и всё то тёмное, пагубное, что лежало в его душе на никому не видных глубинах; добавить неуправляемую, наглую уверенность Шаховской в собственных уме и таланте – что разговор, то спор; что спор, то ссора. И бешеное, у обоих, воображение: получив чахнущую районную газетёнку, они уже видели себя составляющими editorial для «Таймс».
Пошла стряпня, рукава встряхня.
(Смешно сказать – и не в укор бедняжкам, – но «русским Times» негласно титуловали презренную и вредную газету «Голос», о которой не один Дмитрий Андреевич Толстой не мог говорить спокойно, тот самый «Голос», продажный проповедник чего угодно, в шестидесятые проводивший нигилистические тенденции и польскую интригу, в семидесятые вдохновляемый клевретами князя Горчакова, в 1883-м на полгода закрытый распоряжением министра; всегда наглый, оппозиционный, глумящийся и, увы, с двадцатью пятью тысячами тиража против четырёх тысяч подписчиков у «Московских ведомостей» Каткова.)
– Неужели если уж газета местная, то, печатая в ней, не имеешь той ценности, которая возбуждает или сочувствие, или полемику?
– Мало тебе в «Телеграме» полемики, Шаховская?
– Это не полемика, Васнецов. Это унылое перегавкивание. В качестве модератора я предпочитаю перегавкивание бодрое. Константин Николаевич, да подождите вы!
– Он тоже делает так, что у тебя голова болит? – заинтересованно спросил Вася.
– Голова? Нет, что ты. Он перестаёт со мной разговаривать.
– …Слушай, а нельзя нам как-нибудь поменяться?
– Ещё чего! …Кстати, Константин Петрович, Константин Николаевич просит вам передать, что мелкая пресса и плохие писатели – мерило важное. Если уж и они вас знают, значит, ваши идеи в ходу. А не знают – не в ходу. А ещё он говорит: ах, так Великий Инквизитор всё-таки встал из гроба. И смеётся.
Ах вот как! Очень хорошо. «Вася, – говорю, – передай Константину Николаевичу, что, если он собирается дать ход своим прежним идеям, я сделаю всё, чтобы они остались под спудом, где им самое место. И пусть помнит, что это его разнузданная проповедь красоты и сложности привела к положению, при котором не осталось ни того ни другого».
«Константин Петрович, а вы не могли бы общаться друг с другом как-нибудь телепатически?»
«Что значит телепатически?»
Несколько таких бесед – и Вася стал бояться Шаховской как огня. Он и всегда, со студенческих лет, видел в ней, с робким отвращением, кого-то, кто был умнее, образованнее и с неизмеримо сильнейшей волей, но настоящий страх – быть впутанным, втянутым – пришёл лишь сейчас. «Может быть, обойдётся? – проныл он, сам себе не веря, пока собирался (наконец-то) в церковь. – Поговорит и успокоится?»
«Нет, она будет действовать. Это для нас и опасно».
«Куда действовать? Губернатора свергать? У неё нет, этих самых, ресурсов».
Ах, Вася! «Эти самые» появляются, стоит только начать. Не ресурсы здесь главное. Чтобы действовать, нужно взять чью-то сторону. Сторону, а не какое-то абстрактное «благо России» или даже «прогресс» против «мракобесия». Нужно сказать себе: я хочу то и то, а это и эти мне мешают, следовательно, тех я буду поддерживать, а этих устраню. Возьмём, например, графа Валуева. Какими бы нелепыми ни были его идеи, он живо разобрался, где искать помощи – и с чем воевать. Почему он так возненавидел общину и называл её «социалистической заразой»? Потому что в пореформенное время она стала препятствием для возрождения дворянства; вовсе не из-за того, что и нигилисты, и славянофилы сделали её своей общей святыней.
«Вот только про Валуева теперь не надо!»
«Отчего же? Это интересно и поучительно».
Я Валуева видел в славе его и унижении; всесильный министр, министр на европейский лад, le doyen консервативного конклава, председатель Комитета министров, высокий, видный, строго торжественный, любезный, в заграничных бакенбардах даже и тогда, когда они везде вышли из моды, – и сломленный затворник, одинокий и забытый теми, кто перед ним пресмыкался; я чувствую своё бессилие и признаю своё унижение; отец, переживший двоих сыновей и сведённый в могилу третьим, обожаемым; так и умер, заморил себя голодом, уничтоженный, ославленный, на развалинах толком не построенного, и хоронить себя распорядился в простом сюртуке, не нести ордена за гробом, не выставлять их в церкви.
Краснопевцев, г-н Виляев, пустой и ничтожный фразёр, мастер пустозвонной фразы, поседевший в практике громких речей; спесивый; просвещённый консерватор, любитель немецкой поэзии и Вальтер Скотта; флюгер, направляемый ветром придворным; петербургер; угодливый, глубоко равнодушный и помпезный; блестяще (но не в университете, растившая его бабушка заявила, что не позволит, чтобы её Петруша сидел на одной скамейке неизвестно с кем) образованный; во всех его русских писаниях находили какую-то изысканную безграмотность изложения, словно фраза сперва изящно складывалась в голове по-французски или по-английски, а потом перелагалась mot à mot, сильно теряя в щеголеватости. Враг нигилистов, враг славянофилов, главный, если не единственный идеолог сильного аристократического элемента, вечно погружённый в фантазии о крупном дворянском землевладении, воображавший какую-то Англию в башкирских степях, – это о нём Ростислав Фадеев говорил: «Теперь уже поздно строить пэрские карточные домики, которые упадут от первого толчка», – человек, который таял перед титулами, который продвигал титулованных даже во вред службе; Валуев имел великий талант окружать себя как можно хуже; и постоянно оказывавшийся пострадавшим при столкновении с наличными нашими аристократами, как было в истории с Петром Шуваловым, как было в прогремевшей после сенатской ревизии восьмидесятого года истории с башкирскими землями, когда Валуев был министр государственных имуществ и оказался кругом виноват, – что примечательно, себе он не взял ничего, он и умер-то нищим, он только хотел услужить сановным и знатным, одурманенный своей идефикс о русском пэрстве, оплоте порядка и государственности; как он пытался разжечь дворянский гонор, расшевелить сословие, которое в 1861 году уже само себе читало отходную; и ни в ком, ни в ком – любви и сочувствия, простой благодарности; насмешки, презрение, гнев… Иван Аксаков до самой смерти считал Валуева своим главным персональным врагом, и один ли он такой был.
Это правда, меня он очень не любил, смеялся над моими речами в Госсовете, средневековым языком. И его плебейские руки делали обычные комические жесты! И людям, более расположенным если не ко мне, то к идеям, которые я представлял, трудно было переварить моё происхождение. Большие русские баре более или менее благодушно презирали меня так же, как их отцы и деды презирали Сперанского, словно и не чистейшая русская кровь течёт в священнических родах. Русский китаец! Китайско-приказная дикость! Отчасти поэтому, откушав досыта, я поддержал графа Игнатьева с его идеей мужицкого Царя в противоположность дворянскому Царю Валуева, Шувалова, Дмитрия Андреевича Толстого, Татищева и им подобных – да ведь и сам Александр Третий никогда не брезгал ни мужиком, ни поповичем.
«В чём здесь поучительность, Константин Петрович?»
«Хотя бы в том, что государственный деятель должен понимать, что для каждого дела ему потребны союзники. Он берёт, что есть, прилаживает, как может, он не может пальцем проковырять дыру в каменной стене, ему необходим пусть невзрачный и ржавый, но инструмент – и если он оглядится, если он всего лишь внимательно посмотрит по сторонам, то найдёт нужное не в ящичке со столовым серебром, а в сарае».
Валуев был умный человек с инстинктом государственности, но без чутья на людей, и он демонстративно презирал всё, на что падал его неблагосклонный взор: и меня, и Лорис-Меликова, и славян «базарного образца», и Каткова, которого сравнивал с избалованным барской любовью дворовым, – и странно ли, что всегда оставался в одиночестве, горько на это жалуясь, даже в самые трезвые свои минуты: и перед войной с турками, которой он не желал, и когда выступил против чаемого Милютиным сближения с Францией в ущерб проверенному союзу с немцами.
«…Константин Петрович, вы не собираетесь делать государственного деятеля из меня?»
«А чего ты боишься? Это будет путь, а не плюновение дьявола: проснулся – и уже министр. Стой, погляди в зеркало. Как ты в храм оделся, горе луковое?»
«Нормальные джинсы, что вы сразу как моя мама. Очень нужно съехать от родителей, чтобы… Нет-нет-нет!»
«Вася, я ещё ничего не сделал. Это тебя черти крючат».
«Да, попробуй тут разберись, черти или вы. Вот эти надену, хорошо? Без дырок. Консервативненько».
По мне, то и это было на один салтык, но я промолчал. О, на каких кошачьих лапках нужно ходить, когда затеваешь борьбу с духом времени, как легко показаться смешным, ограниченным, безнадежно устарелым, как легко проиграть, выйдя на честный бой с открытым забралом, что сталось с теми, кто вышел, – легли костьми на костях…
«Вася, не вот это, а ботинки. И почисти их. Я понимаю, что без прислуги тяжело, но как-то ведь вы живёте, посмотри на Шпербера».
«Вы знаете, сколько это вообще стоит, быть таким, как Шпербер?»
«Быть опрятным – всегда по карману. И что это за очки на тебе?»
«Ray Ban. Хорошие очки, правда?»
«Но ты прекрасно видишь без очков».
«Это солнцезащитные».
«Когда разговариваешь с людьми, снимай».
«Это как раз очень удобно, когда разговариваешь. Глаз не видно».
«Всё равно снимай. Прятать глаза невежливо. И потом, в зелёных очках нигилисты ходят».
«…Но мои-то не зелёные».
Неряшливость, вот было слово для двадцать первого века. В одежде, поведении и языке тоже – достаточно сказать, что петербургского губернатора журналисты называли, полагая это синонимом, градоначальником, и лучше не описывать, как говорила публика: весь мир, казалось, превратился в одну разбитную бабёнку. Так и заканчиваются игры публики с простонародьем.
Ближайшая к дому, она же единственная, церковь оказалась кладбищенской. Ничего не осталось: ни Святодуховской на Большой Охте, ни Георгиевской, ни трёх единоверческих; ни той Охты, куда ходил – я помню его как новинку – паром; исчезли луга, церкви, кладбища, фабрички по берегам речек, и если Охта, чуждая мне тогда и неведомая настолько, что я не мог скорбеть по утраченному, так изменилась, что же произошло со всем остальным?
И нет, меня не освежила молитва в тесной и запущенной церковке, хотя я молился горячо, и Вася стоял спокойно, уж не знаю, о чём думая. Я не стал ему досаждать. Голос убедительнее моего, может быть, ясный, может быть, далёкий и еле различимый, вместе со словами службы или поверх них, требовал его внимания.
– Сегодня воскресенье, – сказал Вася, едва выйдя на улицу.
«Да, я заметил. Обернись, перекрестись и поклонись».
«Так вот, Константин Петрович, вы не могли бы немного поспать? Или удалиться в чертоги разума?»
«Я и без того в чертогах разума. А что такое?»
«У меня свидание».
«У тебя есть невеста? Буду рад познакомиться».
«Нет, Константин Петрович, не невеста, а девушка».
«…Ты ездишь к девкам? Как же тебе не стыдно?»
«Нет! Она не девка. Ну, в вашем смысле».
«Ты что, её соблазнил? Вася, нужно жениться».
«О бля, бля, боже, как с вами трудно! Нет, я не хотел! Больше не буду! Забудьте! Друзей-то повидать можно? Константин Петрович, я с катушек того. Рехнусь, если без отдыха».
«Конечно, повидай друзей. Отдохни».
«Без вас».
«Почему без меня?»
«Вас это шокирует».
«Что же вы такого ужасного делаете?»
«Пьём, кричим, материмся. Скачем по столам», – добавил Вася с надеждой.
«И всё?»
«Не говорите, что вам этого мало».
«Ну вот если бы это столы у вас скакали… Запомни, Вася: столоверчения я не потерплю».
«Если б я ещё знал, что это такое…»
«И не нужно тебе знать».
«Как насчёт того, что незнание не освобождает от ответственности?»
«Я и забыл, ты же правовед».
Слышал я незадолго до смерти историю о правоведах: напились компанией до положения риз, попали на Удельную и начали бесчинствовать. Заводила обнажил шпагу и член и, размахивая тем и другим, ходил по станции и мочился. Его арестовали и повезли в участок, он с помощью товарищей отбился, вернулся на станцию, избил начальника станции, и в итоге потасовки сам был избит до потери сознания.
«…Не думал, что до революции так весело жили».
«Их всех выкинули из Училища, можешь не сомневаться».
«Да, и могу представить, как вы радовались. Послушаешь вас, Константин Петрович, так прямо хочется – вот назло – самому по Удельной бегать, со шпагой и этим самым. Наперевес».
«Видишь, сам смеёшься. А что до “назло”, так и починовнее тебя господа отличались, как глупые мальчишки; и сами не хотели, а бесчинствовали. Ущерб это в человеческой душе, Вася. Не будешь же ты уподобляться животному?»
«А вот и буду! буду! И бесчинствовать! Поеду сейчас на Думскую и стёкла в кабаках побью!»
Этим планам не суждено было сбыться.
Вася уже сворачивал в проулок, ведущий к дому, уже шагнул на протоптанную через газон дорожку – я даже не успел его одёрнуть, я редко выходил победителем из борьбы за сохранность зелёных насаждений, – и после этого всё произошло очень быстро: звуки борьбы и крики где-то над головою, тяжёлое падение дёргающегося тела; и вот Вася, отскочивший, отшатнувшийся, одурело рассматривает брызги крови на своих руках и одежде. Когда он повернулся с явным намерением убежать, я не дал ему это сделать. Уже собирались зеваки, уже снимали происходящее на мобильные телефоны, уже появился, как из-под земли, патруль. Нет, бежать было поздно. А взять себя в руки – не мешало бы.
Когда пришло время объясняться с молодым, но уже ко всему безразличным полицейским следователем (и этот без мундира), Вася смог только повторять: я просто шёл, шёл мимо. И вдруг вот нате.
– Но вы видели? Сам момент?
– Я не смотрел вверх. Я смотрел под ноги.
– Логично.
– Я ничего не видел.
– И ничего, я так понимаю, не слышали.
– Вы так говорите «ничего», как будто это «чего»! Не слышал! Я шёл… из церкви, со службы, и думал… о божественном.
«Вася, не заврись», – сказал я.
– Вы ходите в церковь? – сказал следователь. – Это хорошо.
– Да, я вообще положительный.
– …
Васе не понравилась пауза, и он нервно продолжил:
– А это просто какой-то наркоман. Случайно выпал из окошка. Они так делают, наркоманы.
– …
– Потому что нормальный самоубийца не будет выбрасываться с четвёртого этажа.
– Да, верно. А с чего вы взяли, что с четвёртого?
– …Дом-то четырёхэтажный.
– Но наркоман, по вашей логике, и со второго мог упасть.
– Со второго он бы вряд ли убился.
– Не повезёт – так и палец в жопе сломишь, – сказал следователь. – Но да, рассуждаете логично. Люблю людей, у которых всё чёрно-белое. По крайней мере, знаешь, на каком ты свете. Распишитесь.
И нас отпустили.
День, с утра тусклый и серенький, разыгрался, просветлел – и в солнечном свете заметнее, ощутимее стало безлюдье этих странных дворов Охты. Хотя, подумал я, стоило произойти несчастному случаю, люди мгновенно откуда-то появились. Несчастному случаю. Да.
«Вася, почему ты сказал неправду?»
«Не понимаю, о чём вы».
«А ты понимаешь, что я вижу то же самое, что и ты? Твоими глазами?»
«Я смотрел вниз!»
«А потом услышал крик и посмотрел вверх. Рефлекторно».
«Это был не крик. Не было никакого крика».
«Приглушённый и короткий. Назовём это сдавленный вопль. Так почему?»
«Потому что он не выпал. Потому что его выбросили».
«Да. Вот и мне так показалось».
«А вам не показалось, что его сбросили прямо на нас? То есть на меня? Ну а что, одним броском – двух зайцев. Даже трёх. Константин Петрович, а с вами что будет, если я умру? Вы только представьте: минутой бы позже…»
«Может быть, хоть это научит тебя ходить где положено».
«Все там ходят, так удобнее!»
«Вижу, что все. Оттоптались, как скот на водопое. Я продолжаю не понимать, зачем ты ввёл полицию в заблуждение».
«Потому что за этим могут стоять люди, которые страшнее любой полиции. Может быть, Шпербер меня всё-таки увидел – тогда, у гаражей».
«Интересно, что он там хранит».
«Нет! Не интересно! Что человек с погонялом Небрат может хранить в таких гаражах? Кокаин! Взрывчатку! Компромат на губернатора! За что мне всё это!»
«Вот полиция этим и займётся».
«Ой, да можно подумать, много вы знаете о полиции».
«Много. Я их всех знал. Начиная со старшего Трепова».
Фёдор Фёдорович Трепов, последний, до реформы, обер-полицеймейстер и первый градоначальник Санкт-Петербурга, Федька-вор, наживший миллионы и обеспечивший всех своих – девятерых – детей, «краснорожий фельдфебель», «полицейский ярыга», обер-офицерский сын (я не верю в «визит прусского принца»), жертва Веры Засулич, а ещё больше – дела Веры Засулич; человек анекдотически безграмотный и некультурный, в литературе признававший только «Полицейские ведомости»; и вместе с тем – человек большого природного ума, весь – энергия, движение, искренняя забота о своём полицейском деле, о пользах города и его благоустройстве, наделённый практической сметкой хлопотун, хорошо умевший и выбирать, и держать в узде подчинённых; существенное улучшение городского водопровода, канализация, Литейный мост, Морской канал, облицовка гранитом Адмиралтейской набережной, Александровский сад, паспортный режим, первая в России антиалкогольная кампания и благообразный вид народных гуляний – всё Трепов; порою кажется, что и знаменитое «есчо», и солдафонство, грубость ухваток, они все на войне – в 1877-м – а я тут сиди и соблюдай порядок, когда всё распущено; и в ответ на вопрос, почему не составит записок из своей долгой службы: «Я не письменный человек», – всё это своего рода рисовка, намеренное преувеличение, потаённая и не по воспитанию злая шутка: прикрылся медведь свиной харей и всем с удовольствием её показывает.
Того же покроя был полковник Власовский, московский обер-полицеймейстер при генерал-губернаторстве великого князя Сергея Александровича. Александр Александрович Власовский сумел за несколько лет преобразить московскую полицию, обуздать московских извозчиков, принудить домовладельцев провести ассенизаторские работы и заслужить от московского обывателя характеристику «Власовский антихрист, поэтому не спит и будоражит всю Москву».
Со сказочной быстротой носился он по городу, зимою – в санях, летом – в небольшой пролётке, рядом – чиновник из канцелярии с карандашиком и паскудской книжкой наготове – ах, эта прославленная паскудская книжка Власовского, куда для последующего наложения штрафов на месте вносились все виновные в нарушении правил дворники, извозчики, городовые, околоточные и любой замеченный беспорядок или намёк на незаконные поборы. (Вот так же и граф Пален, примерно в те же годы назначенный в министры юстиции, при объезде судебных округов всегда имел при себе памятную книжку, прозванную «книгою живота», куда вносил фамилии приглянувшихся чиновников – и не приглянувшихся тоже, под жирным крестом, превращая «книгу живота» в синодик.)
Виртуоз, полицейский эстет своего рода; человек из низов, без родства и связей, хитрый и пронырливый, клеврет великого князя; хам, всё свободное время – в кутежах и ресторанах; но – человек на своём месте, быстрый, толковый, въедливый, мастер распоряжаться; и вот на такого человека возложили весь позор Ходынки, виноваты в которой были Воронцов-Дашков по своей неспособности и великий князь – по злобе и мелочности. Долго Сергей Александрович ждал случая сделать Воронцову-Дашкову пакость, и коронационные торжества случай предоставили. Этот человек, которому Александр Третий когда-то послал телеграмму «прекрати разыгрывать Царя», человек, на просьбу Власовского о распоряжениях ответивший: «Пусть справляется Воронцов-Дашков!» – усердно вырыл яму себе самому, отныне и впредь великому князю Ходынскому.
Власовский дважды, сразу же после катастрофы и после отъезда Государя из Москвы, подавал в отставку – считаю более достойным признать себя формально виновным и уйти со службы самому, чем быть несправедливо уволенным помимо своей воли, – и оба раза великий князь его отговаривал, уверяя, что во всём виновато ответственное за гулянье Министерство Двора, а не московский обер-полицеймейстер и, следовательно, московский генерал-губернатор, его начальник, – отговаривал, улещивал, прямо запрещал и в итоге предал самым низким образом. Власовского бросили на съедение, никто за него не вступился – потому что в Москве он был чужой, пришлый, не из общества, – ошельмованный, уволенный без прошения, по царской резолюции, он рассыпался на части и очень быстро, несмотря на богатырское здоровье, умер, не дожив до шестидесяти. Кстати сказать, преемником его был второй сын Трепова Дмитрий.
А Департамент полиции? При директорстве Плеве и за ним Петра Дурново?
Плеве. Когда меня спросили, кого назначить в министры, Сипягина или Плеве, я ответил: назначайте кого хотите, один – дурак, другой – подлец. (Назначили Горемыкина.) Сказал ли я так, чтобы отвязаться? Был ли Плеве подлецом? Был ли он трагической фигурой? Трагический подлец, допустим, вариация на темы Шейлока? Те, кого он к себе подпускал, его любили, но он не подпускал никого, разве что (не всех) женщин. Подчинённые его боялись и чтили, и он считал нужным держать подчинённых в страхе, хотя людей, огрызавшихся на его едкие шутки, безусловно предпочитал людям подобострастным. Те, кто имел в себе силу к самостоянью, его всегда уважали.
Бархатный, барственный, вельможно-красивый – а происхождения самого тёмного, хотя и шептали, что Плеве незаконный сын одного из польских магнатов, – с видом человека постоянно утомлённого, чувствующего своё превосходство и таланты, для которых не нашлось применения; бархатный, а под этим бархатом – стальная воля; пренебрежение и даже презрение к вещам и людям; чарующий, но страшный человек; сфинкс, отменно вежливый, невозмутимо спокойный, никогда не повышавший голоса, не способный проронить в разговоре ни одного лишнего слова, – и все в один голос: ренегат и нерусский, пролаза, карьерист, со всеми в одинаково хороших отношениях, умел ужиться с такими разными министрами, как Лорис, Игнатьев, граф Толстой и Иван Дурново; министры сменяли друг друга, а Плеве всё был на своём месте; «от Плеве никогда не слышали его мнения, он вечно уклоняется от ответа»; Витте: «А каковы в действительности мнения и убеждения Плеве, об этом никто не знает, полагаю, что и сам Плеве этого не знает»; Суворин: «Так я и не понял, что он такое, консерватор или либерал; он и то и другое», – о да! конечно! Это самое главное – либерал человек или консерватор! эти господа всегда мастерят человека из его мнения о конституции, их требование своего мнения всегда оказывается требованием мнения политического. – Мнением Плеве были постоянная забота о сотрудниках («если хочешь, чтобы лошадь работала, её нужно кормить»), глубокое понимание нужд государства («сперва порядок, затем свобода») и то, что на службу порядку он поставил всё, что имел: ум, огромный опыт, исключительные познания и память, исключительную работоспособность, инстинкт и навыки государственника. И при этом – денежно безукоризненно честный, расчётливый, но не скупой, без цели составить себе крупное состояние – сорок тысяч оставил семье после всех лет службы и крохотное бездоходное имение, всё равно что дачу, в Костромской губернии. После гибели Плеве (что ещё от него осталось – лужа крови, обрывки вицмундира и нетронутый министерский портфель с докладами) князь Мещерский тотчас окатил его помоями. Для князя Мещерского это было в порядке вещей.
А Дурново! Пётр Николаевич Дурново, Квазимодо, маленький, сухой, весь из мускулов и нервов человечек, главный, если не единственный укротитель революции 1905 года, спасший династию и общественный порядок, министр внутренних дел, как зверь травимый и революционными боевиками, и Думой, и Витте; одиозная для общественности личность, человек более чем незаурядный, много умнее и Витте, и Столыпина и, кроме ясного ума, одарённый также сильною волей, угрозы его всегда приводились в исполнение, решительностью и талантом администратора, образцово ставивший любое дело, которое ему поручалось: и полицейское ведомство, и комиссии сената, куда его с трудом пристроили после скандала 1894 года, в котором были замешаны бразильский поверенный в делах, ресурсы полиции и неверная любовница Дурново, – резолюция Александра Третьего: «Убрать эту свинью в двадцать четыре часа», – и когда Плеве, став министром внутренних дел, не пожелал оставить ему Департамент полиции и дал в самостоятельное заведование Главное управление почт и телеграфов, – везде он, человек порядка, натура глубоко государственная, что было, наверное, его единственным убеждением, вносил целостность, дисциплину, систему, доступные казне улучшения. Всё в нём – властолюбие, быстрота понимания, беспринципность, неразборчивость в средствах, личное мужество и мужество независимого мнения, независимость суждений, хладнокровие, искренняя любовь к России, отсутствие мелочной мстительности – в другую эпоху создало бы Цезаря, в другой стране – Бисмарка… днём с огнём искали русского Бисмарка, а они были, пренебрегаемые, под рукою – Юрий Самарин, Дурново… И с безошибочным инстинктом либеральная толпа возненавидела его так, как не удостаивался даже Плеве, а нелиберальная – и тоже, увы, толпа, тоже чернь – умела только шутить: под счастливой звездой, дескать, родился Дурново, что после всех сделанных им репрессий и арестов целым и невредимым уходит из МВД.
«Константин Петрович, – сказал Вася как-то очень устало, – это всё начальство. Вы и сами не мелким винтиком перед ними стояли».
«Что ты хочешь этим сказать?»
«А то, что министра, если б меня к нему подпустили, я бы, может, и не боялся. Но вот такого… как это по-вашему? городового?.. очень даже боюсь».
«Вася, не говори глупостей. Во-первых, это был не городовой. Во-вторых, что тебе городовой сделает?»
«Всё что захочет. – Вася пожал плечами. – Они теперь с фантазией».
И ведь оказался прав: когда в следующий раз мы встретились с господином Вражкиным, следователь смотрел холодно и строго.
Сценой был залитый утренним солнцем скверик присутствия, действующими лицами, помимо Вражкина, Аркадий Шпербер и Шаховская. Все трое в некоторой оторопи разглядывали аккуратную, чёрным по кремовому надпись на стене:
РЕВОЛЮЦИЯ УЖЕ ЗДЕСЬ.
АДРЕС ТЫ ЗНАЕШЬ.
– Вот мы и с праздником, – задумчиво сказал Шпербер. – Всё как в Европе. И что насчёт адреса?
Торопящиеся на службу чиновники не рисковали остановиться, и Вася тоже прошмыгнул бы мимо, но именно в эту минуту обернувшийся следователь увидел его, узнал и смерил взглядом.
– Это не для вас ли послание?
– Для меня? Я-то тут при чём?
– Ой, нет, – сказала Шаховская. – Это же Васнецов.
– Вижу, – с ударением сказал Вражкин. – Тот самый. Свидетель по делу. Пока что.
– Не теряешь времени, мой Василий. Кого пришил? – Шпербер одобрительно кивнул затрясшемуся Васе и обратился к следователю: – Не цепляйся, Лёва, к надежде русской бюрократии. Зачем ему революция? Он не хочет жить как в Европе и коммунизма-анархизма не хочет тоже. Но самое главное – не хочет проблем на вверенном ему участке государственного строительства. Предложи ему выбирать между отсутствием проблем сейчас и будущим величием России в пакете с немедленными мелкими проблемами – что он, по-твоему, выберет? Что и называется стабильность.
Он говорил чуть быстрее и чуть веселее, чем следовало, но что такого было в чьей-то глупой выходке, чтобы породить это нервное возбуждение? Аркадий Иванович Шпербер не производил впечатление человека, который обдумывает всё, что пишут на заборах. Если только за сто лет роль заборов в общественной жизни не изменилась.
– Вы не все возможности перечислили, Аркадий Иванович, – сказала Шаховская. – Почему только анархисты? Это может быть консервативная революция.
– Шаховская! Редактор! Даже слов таких вслух не произноси! Во сне не думай! Консервативная революция! Эрнст Юнгер! Карл Шмитт!
– …Фон Заломон…
– О да! Убийство Ратенау – это то, чего нам сегодня остро не хватает.
– Наши Ратенау уже все на пенсии, – невозмутимо заметила Шаховская. – Кто дожил. А вы, значит, боитесь тайного канцлера? Правильно боитесь. Разговоры о будущей великой России – одно, а её неподвластное вам зарождение – совсем другое.
– Очень поэтично, – признал Шпербер. – Поднимется тайный канцлер из недр глубинного, так сказать, народа и первым делом повесит Аркадия Небрата на хорошо освещённом столбе. После чего, понятное дело, всё мгновенно наладится. Мягкий передел собственности, смена элит, честные выбора` и сопутствующие потери. У Лёвы нашего прибавится возможностей и работы. Ничего, Лёва, как-нибудь. Тайный канцлер всё-таки, а не пугачёвщина. Да?
– Мог бы я сказать…
– Скажи, не щади мои чувства.
Вася уныло и нерешительно переминался, ждал, пока его отпустят. Отвлечённая беседа с упоминанием ничего не говорящих ему (да и мне тоже) имён надежде русской бюрократии очень быстро наскучила.
Эти трое, столь несхожие, понимали друг друга с полувзгляда; даже если они будут врагами, преисполнятся ненависти, это останется: умение понимать, общие шутки. Все они умнее, способнее моего Васи, у них ясные безжалостные глаза, умные головы, крепкие нервы – и каменные сердца, полагаю; если такие захотят, то сделают. Неожиданно ленивый, лживый, недалёкий Вася стал мне очень дорог.
А потом Шпербер встряхивает головой и отдаёт распоряжение в пространство:
– Стену отмыть. Фомину доложить. Умы публики смущать не будем. Да, Шаховская, редактор? Не будем?
И Шаховская легко соглашается.
Бисмарк! Великий, грозный Отто Бисмарк! Железный Канцлер! Бисмарк, обер-скот, говорил Александр Третий. (Александр Третий языка не придерживал. Краснопевцев и г-н Виляев о Валуеве; поганый Шувалов; скотина Рейтерн; свинья Головнин. Но всё это за глаза и на бумаге: при личном объяснении государь совестился, конфузился, мечтал провалиться сквозь землю; никогда не умел распекать, даже если и требовалось.) И ещё: «От Бисмарка можно всего ожидать».
Вильгельм Первый: «Трудно быть кайзером при Бисмарке». Внук Вильгельма Первого, Вильгельм Второй: «Как же трудно с ним ладить! Мне всегда приходится уступать, а ведь я требую так мало». «И министры-то уже не мои, а князя Бисмарка». Огромная популярность. «Ссора с Бисмарком будет иметь те же последствия, что и приказ стрелять в толпу». Великий интриган, великий мастер фальсификации, создатель Германии – прочно, солидно, надолго, a la Собакевич, и при этом чисто по-немецки; создатель Германии, заставивший Тютчева вспомнить легенду о пробуждении Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьём выходящим из его пещеры; der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich; его искусная наглость, его демонизм, бесовская, необъяснимая власть над людьми и событиями – и как он, должно быть, внутренне хохотал, когда сам себя называл «честный маклер».
И свирепая, беспощадная, систематическая последовательность, с которой он травил своих врагов – взять хоть графа Арнима; и свирепая неблагодарность к былым друзьям и соратникам, общее с Катковым, если закрыть глаза на разницу в размерах, умение использовать, высосать и отбросить – сколько раз старик-император за спиной у своего канцлера потихоньку утешал обиженных. И особая жадность: жаден, корыстолюбив, но за одни деньги даже не мигнул бы. И столь дорогая сердцу Константина Николаевича Леонтьева поэзия жизни: смелость, физическая сила, огромный рост, дуэли, шрам на щеке, бутылка мозельского в завершение завтрака, Евангелие и французские романы; студента, который в него стрелял, взял за шиворот и сам отвёл в полицию. Ему было хорошо в России, он год прожил прусским посланником в Петербурге, полюбил слово «ничего» и, говорят, научился солить грибы.
И словечки его, оставшиеся в исторической памяти фразы: записывали за ним все, в первую очередь – люди, неспособные оценить глубину этих острот. «С плохими чиновниками не помогут и хорошие законы». «Великие вопросы решаются не парламентскими резолюциями, а железом и кровью». «Слова – не солдаты, речи – не батальоны». «Дворцы – это опасные питомники вирусов, сквозняков и властных женщин». «Последовательны только ослы». «Самое опасное для дипломата – иметь иллюзии». «Европейская карта Африки». «Кошмар коалиций». «Любая политика лучше политики колебаний». «Уж если быть революции, так лучше мы её возбудим сами, чем станем её жертвами». «Вся моя жизнь была игрой с высокими ставками на чужие деньги». О рвении канцелярий: «Административный понос». Об общественной жизни: «Интриги баб, архиепископов и учёных». О столкновениях: «Очистительный элемент». Об овации, которой его провожал Берлин после отставки: «Похороны по первому разряду». О Дизраэли: «Der alte Jude, das ist der Mann». О нашем Горчакове: «Его тщеславие и зависть ко мне были сильнее его патриотизма». (Последнее, увы, сущая правда: канцлер Горчаков, пустивший словцо «бисмаркизировать», этот государственный полумуж, нарцисс чернильницы, «позорящая Россию развалина» Берлинского конгресса, в почёте без уважения, Горчаков, с его тщеславием, непотизмом и громкими фразами, завидовал Бисмарку люто; вся его маленькая душа изошла на эту зависть, вытеснившую сперва госпожу Акинфееву, а после и любые соображения высшего порядка, буде таковые у него оставались.)
Русского Бисмарка искали-искали и наконец, притомившись, решили назначить в бисмарки Сергея Юльевича Витте.
Витте был именно тем наглым выскочкой, каким его все считали, но. Вот именно, следует огромных размеров но. Парвеню и вундеркинд, не просто грубый, не просто неотёсанный и сквернослов, но весь какой-то разухабистый, с каким-то похабством приёмов; какая-то домашняя – да и в приличном-то доме не терпимая – распущенность, расхристанность, пряный альковный дух. Буйный, несдержанный, страстный; и при огромной самонадеянности, при огромном и нескрываемом презрении к людям (искренне благоговел он только перед двумя: Александром Третьим и своим дядей Ростиславом Фадеевым) – готовность унижаться перед кем угодно, лишь бы добиться своего.
Задорный тон, гнусавый тенорок, ужасный южнорусский акцент; совершенно без манер: в заседаниях Витте сидел развалившись, оба локтя на стол, в заседаниях Витте говорил всё, что приходило в голову; встречи Витте с путейцами в Тарифном комитете завершались скандалом: С таким нахалом мы отказываемся заседать. – С такими идиотами я не могу работать. Сила, напор, мощь; слепая стихия, которая «прёт», «ломит»; и ни следа нравственной брезгливости – взять нахрапом, терроризировать там, где не сработали лесть или подкуп; не смущаясь предлагать деньги и должности и не стыдиться, получив (но редко! как редко!) отказ и отповедь. В окружении своём предпочитал людей не первой нравственности как таких, с которыми проще иметь дело. И оборотная сторона его беспринципности: в Витте не было мелкого самолюбия, тупого упрямства в отстаивании своего; его можно было переубедить, образумить. И циклопическое, торжествующее бескультурье – вероятно, он даже «Птички Божией» Пушкина не читал никогда и заснул бы над первой же страницей любой серьёзной книги.
Политический хамелеон, хитрый, вероломный и умный, весь – ложь и фальшь; фальшивил, подлаживался к течениям, угождал и нашим и вашим (и это оттолкнуло от него всех); звериная ненависть к Плеве, не зря он взял к себе в министерство «Серенького» Колышко, которого Плеве считал вором; властолюбие – но сам подал в отставку в апреле 1906 года, накануне открытия Государственной думы, чутьём, звериным носом унюхав проигранное сражение; этого не простил ему Николай Второй («мои министры не уходят, я их увольняю»), этим оскорбился Суворин («это почти равняется тому, что главнокомандующий уезжает с поля сражения накануне генеральной битвы – буквально накануне»), это высмеяли газеты («доведя правительственный корабль до Сциллы и Харибды, С. Ю. Витте временно устраняется от кормила правления, дабы грядущие ужасы не обрушились на его голову»). Нужно понимать характер Витте, он был не из тех, кто римским солдатом умирает на позабытом посту; но видя выход, видя хотя бы проблеск надежды, он напрягал все силы, пускал в ход всех своих демонов – Портсмутский мир тому лучшее доказательство, два старейших посла, Муравьёв в Риме и Нелидов в Париже – Нелидов, ещё Сан-Стефанский мир подписывавший вместе с Игнатьевым, – отказались возглавить делегацию, сказались больными, а Витте поехал и победил. Золотой рубль, винная монополия, Транссибирская магистраль, интерес к Северному морскому пути, победа в таможенной войне с Германией, попытка перевести капиталы царской семьи из лондонского банка в Россию; никто не станет отрицать его заслуг, но Витте, весь в настоящем, равнодушный к прошлому и с бухгалтерским планом на будущее, человек, который при животном инстинкте жизни, нутряном чувстве её потребностей был исторически слеп, потому что считался только с текущим балансом, человек, у которого за всю карьеру даже мысли не мелькнуло, что есть нечто поважнее бюджета, – такого человека не назовёшь государственным деятелем даже притом, что сам по себе он был государственник, стремившийся к обеспечению величия и силы государства как целого.
«…И что?»
«А то, что и Бисмарк, и Витте, и все мы, государственные люди, были на виду. А искать тайного канцлера в недрах народа – глупая, опасная и безответственная затея. В этих недрах, кроме лихих людей, отродясь ничего не водилось».
«Константин Петрович, это Шаховская ищет, а не я».
Передовая статья Шаховской о консервативной революции не только не наделала чаемого авторами шума, но и прошла незамеченной. Те, кто её всё же прочёл, оказались не теми, кому она предназначалась. Прочли да пустили заворачивать селёдку по лавкам (если бы в новой России ещё оставались лавки и бочковая селёдка). Их тупое безразличие спасло Шаховскую от всего – гнева начальства и кары, – кроме унижения. Её шипучие, сыплющие бенгальским огнём фразы и прогорели ярко, колко и вотще, как бенгальский огонь, во тьме, в глухой и затхлой пустоте за забором; собачью будку скорее бы они могли заинтересовать, чем охтинского обывателя.
И поделом! Нельзя заклинать духов крови и почвы, будить тайные, тёмные силы после того, как сотни лет ушли на то, чтобы загнать их под спуд. Ещё и со словом революция среди заклятий! отказываясь понимать, что существительное, особенно такое, всегда перевесит эпитет. Задолго до всех этих чтимых Шаховской немцев о «революционном консерватизме» говорил и писал генерал Фадеев, обожаемый дядя С. Ю. Витте, и что же? Очень быстро заткнули генералу Фадееву рот, в придачу высмеяв: прав не прав, а зря сунулся, – как зря сунулся после него Лев Тихомиров с «Монархической государственностью».
Бисмарк потому и Бисмарк, что не из каких-то недр явился, а из прусского юнкерства.
«А что-то вы говорили про императора в пещере…»
«Да. Говорил. Но, Вася, это совсем другое. Пещера тайная, а не император.
- Der alte Barbarossa,
- Der Keiser Friederich,
- Im unterirdschen Schlosse
- Halt er verzaubert sich.
- Er ist niemals gestorben,
- Er lebt darin noch jetzt…[2]
Это Фридрих Рюккерт. Прекрасный поэт. Ты знаешь по-немецки?»
«Нет! И учить не буду!»
Надписи продолжили появляться (иногда они предлагали делать революцию, иногда – купить лауданум), но людей из окон больше не выбрасывали. Дело о гаражах в очередной раз ушло под сукно. Аркадий Шпербер таинственно появлялся и пропадал. Я изучал двадцать первый век: он вырастал постепенно вокруг высокими безобразными домами, и башнями Москвы на горизонте, и, на западе, всё чётче проступающими очертаниями новой, бессильной Европы – дальше, за Европой, тяжёлым боевым кораблём выплывала из атлантического тумана сверкающая громада Соединённых Американских Штатов. Огромный мир волшебно рос, ветвился, в мозаику складывался из заголовков новостей в Васином смартфоне и крикливой ругани там же; более бесчувственный мир, и более трусливый, и скаредный; полнился сиянием июньских листвы и воды, игры света – и вот это было тем, что не изменилось и, не связанное напрямую с прошлым, делало его частью общего всем временам времени.
Я осваивался и в Васином мирке, где под покровом суеты не происходило вообще ничего, и все (при наличии) страсти, весь (уж какой был) жар сердец прилагались к дрязгам и пустякам. Директором юридического отдела и непосредственным Васиным начальством была скорее особа, нежели дама, немолодая (что не только ею игнорировалось) и бесплодно энергичная. Подчинённые – Вася и две бесцветные барышни – находились с этой Ольгой Павловной в трагическом разладе. Они, по её мнению, не хотели. Фомин тоже жаловался, что, кроме него, никто ничего не хочет, и напоказ засучивал рукава – всё сам, сам! – на заурядный объезд бросался как в штыковую атаку. Ольга Павловна знала лучше. Она ничего не делала сама, но говорила за всех. Всё, что делалось в строгом соответствии с её указаниями, приводило к ошибке, и, видя ошибку, Ольга Павловна искренне не видела её авторства. Ну что опять такое! говорила она. Когда же вы научитесь делать как сказано! Что значит «так и сделали»? Я им говорю одно, делают они прямо противоположное, а потом смотрят мне в глаза и заявляют, что я сама виновата! Сперва праведное негодование её душило, после – жалость к себе и мысль о том, как несправедливы и неблагодарны люди; каждый раз это было мучение для себя и других, но для других всё же больше; счастье ещё, что беспрестанной работой отдел не томили, и как-то они справлялись, молча делая по-своему либо не делая вообще. Прекрасно я понимал, почему Вася лжёт и изворачивается, вместо того чтобы искать у начальницы помощи, когда следователь Вражкин начал тягать его на допросы.
Лев Александрович Вражкин, молодой человек не многим старше Васи и Шаховской, возненавидел Васю с первого взгляда. (На тот же первый взгляд более подходящим словом было бы «невзлюбил» – ненависть как-то не вязалась с этим хладнокровным и видимо чуждым страстей юношей, – и всё же ненавистью это было с самого начала.) Словно бы сразу, как глянул, позавидовал – но чему? Вася не был писаный красавец, или щёголь и daredevil в стиле Шпербера, или персона – и это Вражкин при первой их встрече распоряжался и приказывал, а Вася дрожал, склоняя голову; и Вражкин же, при встречах последующих, находил всё новые способы уколоть, зацепить, обидеть – не меняя удивительно ровного голоса, не отводя взгляда. Взгляд этот был исполнен вдумчивого презрения, и Вражкин завидовал, не переставая презирать.
«Ну что ему от меня надо? Сколько нужно бумаг на одного самоубийцу?»
«Вася, он не хуже тебя знает, что это было убийство».
«Тогда пусть так и скажет, что я вру».
«Нет, зачем же. Он выжидает. Нюхает воздух. Не решил ещё, на какой ноге будет танцевать. У него нет прямого приказа, понимаешь? Допустим, заставит он тебя сказать правду, а после выяснится, что такая правда начальству не годится. Этот молодой человек сделает прекрасную карьеру».
«Но мне-то что делать?»
«Теперь уже ничего. Стой на своём. В крайнем случае пойдёшь к Шперберу, упадёшь в ноги…»
«К Шперберу?»
«Вася, Вася. Ты совсем не слышишь, что вокруг говорят. Покойный-то – генеральный директор “Берега”. Кто у тебя совсем недавно документацию на товарищество “Берег” запрашивал?»
«…Да, верно. Как-то не обратил внимания. Константин Петрович, мы ведь не будем убийство расследовать?»
«Не хотелось бы. У нас ни навыков, ни полномочий…»
«И Вражкин на меня взъелся. Может быть, он знает? Ну, про вас?»
«Откуда ему знать, если ты не говорил?»
«Шаховская проболталась».
«Вот это вряд ли».
Шаховская быстро оправилась и вновь порадовала пенсионеров и дворников-инородцев рассуждениями о первой декаде Тита Ливия. Не получилось бухнуться с неба на землю и открыть всем глаза (речами, статьями, романами, лекциями, чем придётся, тем и открыть) – проточим камень прилежной водою. («Мы будем брать количеством с теми, кому качество недоступно».) Шпербер смеялся над нею в глаза, Фомин, связанный с отцом Шаховской нерушимыми узами тайных неблаговидных сделок, отечески кряхтел, чиновники администрации смотрели как на привилегированную сумасшедшую (и это значит: разные чувства вызывают привилегированные сумасшедшие у маленьких и по большей части неумных людей). Вася, если Шаховской взбредало в голову полировать на нём свои силлогизмы, кричал: «Отстань, ты нас всех похоронишь!»
«Трух, трух, а инде и рысью, – сказал я ему. – Не нужно бояться, ничего у неё не выйдет. Как не вышло у Константина Николаевича в “Варшавском дневнике”».
«Почему?»
«Для газеты нужен успех; участие публики, если не сочувствие, то озлобление. А такое равнодушие ничем не пробить. Вот ты, когда читаешь – »
«Это вы читаете, Константин Петрович, а я так, глазами двигаю».
«Вот именно. И не ты один».
«Вам оно и на руку», – догадливо сказал Вася.
«Я в самом деле не люблю идеологов и не доверяю инициативе снизу, – признал я. – Никакой».
«Да? Тогда давайте вы мне продиктуете заключение».
Не знаю, как так вышло, но по мере того, как я осваивался в теперешнем Своде законов, Вася сваливал на меня всё больше своей работы: уже не совет спрашивал, а нахально просил продиктовать. Я был заинтригован и не заметил, как втянулся.
Нормативным актам двадцать первого века, кособоким и небрежно составленным, соответствовал стиль рядовой документации – а тому было прискорбно далеко не только до образцовых бумаг Государственной канцелярии и шоколадного слога Госсовета. Под пером (под, увы, пальцами) Васи и его коллег, ближних и дальних, русский язык представал искалеченным, ободранным, недостаточным и в то же время – рыхлым, где – рахит, где – водянка; развинченные суставы, бессмысленный осовелый взгляд. И, вновь увы, был это не природный уродец, а гомункулюс, выпестованный плод всё тех же подьячих-алхимиков. Неспособность одних, лукавый ум другого, староприказные увёртки – всё смешивалось в их ужасном котле и шло в дело.
Не сразу мне удалось показать, какой ловкой, поджарой и, главное, понятной может быть официальная бумага.
Никаких длинных периодов. Много точек. Мало запятых. Богатство содержания в немногих словах. Краткая, но сильная аргументация. Неуклонно логичное развитие мысли. Подбор слов простых, но строгих – ничего выспреннего, ничего смешного.
«Посмотрим, что Ольга Павловна на это скажет», – злорадно сказал Вася.
«Прекрасно я знаю, что она скажет. Справки учинить никак невозможно, делать по заведённому».
«Ну, не этими словами…»
Дело спас Фомин, случайно и с удовольствием прочитавший вперёд Ольги Павловны наш отчёт. «Понятно, как будто сам писал», – милостиво сказал он. «Я Фоме в фавориты не хочу!» – сказал Вася. «Вы его не слушайте, Константин Петрович, – сказала Шаховская. – Фома уйдёт на повышение в Смольный, заберёт нас с собою: плохо, что ли. Будем полноценный журнал издавать». «Мы? – сказал Вася. – Мы?!» – «Кто-то же должен давать советы практической политики».
Закончив писать (под диктовку), Вася ощутил, что славно поработал и должен отдохнуть. Мы отправились обедать.
В итальянском заведении, любимом мелкочиновным людом, за угловым столиком сидели Шаховская и Лев Вражкин.
– Ты, Лёва, не человек, – говорила Шаховская в ярости, – ты карьерный автомат. Я не понимаю, зачем тебе карьера вообще. Ты же развлекаться не умеешь и вряд ли хочешь. Не пьёшь!
– Не пью.
– Не куришь!
– Не курю.
– Ни во что не играешь!
– Совсем ни во что.
– За девочками не бегаешь!
– Куда мне.
– Может, хотя бы за мальчиками? – С неуверенной надеждой.
– Нет, Шаховская, и не за мальчиками тоже.
– Сериалы и те не смотришь!
– Да. Вот получу генеральский мундир, вобью в стенку гвоздик, повешу на распялочке и на него буду смотреть, любоваться.
– Правильно. Ни на что другое ты к тому времени не будешь способен.
– Я буду молодым генералом. – Вражкин наконец увидел пробиравшегося к свободному месту Васю. – А вам здесь что нужно, свидетель?
– Обедать он пришёл, – сердито сказала Шаховская. – Садись, Васнецов. Дело есть.
– Давай потом, – пролепетал Вася.
– Потом ты струсишь, а Лёва передумает.
– Я уже струсил.
– Надо ли уточнять, что я уже передумал?
Что-то неуловимо изменилось в Лёве Вражкине. Это не был вид человека, у которого ноют зубы, живот или душа. Не мог я и сказать, что он выглядел растерянным: молодой следователь, как и всегда, держался с нарочитой деревянностью. Если такого деревянного мог охватить гнев, то гнев это был – тяжёлый, задавленный гнев, густая чёрная отрава. Люди во власти такого гнева бьются головой об стену, если не могут убить обидчика.
Гнев Вражкина, я видел, был вызван не Шаховской и не Васей и не на них направлен; они, напротив, своим присутствием давали облегчение, передышку; он говорил с ними, как будто без охоты возился с детьми: скучна ему их песчаная крепость, но эта скука много предпочтительнее того, что ждёт за углом во взрослой жизни.
– Лёва, ты не мог передумать, потому что не успел согласиться.
– Не смешно.
– Я думаю, она не шутит, – вставил Вася.
– Когда такие, как вы, начинают думать, становится страшно.
Вася обиделся. От обиды и сознания, что разговор за итальянским пирогом не может быть по-настоящему официальным, он осмелел.
– Конечно. С корочками-то легко быть самым умным.
– Вам, свидетель, не помогут ни корочки, ни горбушки.
– Перестань ты называть его свидетелем, – сказала Шаховская, – а то мне свидетели Иеговы[3] сразу мерещатся. И вообще отцепись. Как вы будете помогать мне соединёнными усилиями, если двух слов не можете сказать друг другу?
– А мы будем?
– Ты не бросишь на произвол судеб девочку, которая так беззаветно любила тебя с семи до одиннадцати лет. Лёва – мой родственник, – объяснила она Васе.
– Очень дальний, – уточнил Вражкин.
– Это тебя не освобождает.
Дикий план Екатерины Шаховской сделал бы честь девочке семи – одиннадцати лет – скорее даже мальчику, сбежавшему из гимназии на поиски индейцев. Каким-то («я журналист, у меня есть источники») образом отыскав предполагаемых авторов революционной пачкотни на стенах, она намеревалась проникнуть в их организацию, буде таковая имеется.
– Проникать буду я. Вы окажете техподдержку.
– На стрёме стоять? – спросил Вася.
Вражкин презрительно фыркнул.
– Удивительно мне, Шаховская, что именно ты открываешь в себе талант полицейской ищейки.
– Дискурс фильтруй! Я же не буду их закладывать.
– Ты всерьёз думаешь, что тебе это удастся? Что ты смеёшься, ненормальная?
– Меня радует, что ты до сих пор не встал и не ушёл.
– Ещё послушаю. Будет что начальству доложить.
– Ничего ты никому не доложишь. Сиди, Вася, не дёргайся. Лёва наш начертил себе давно План и прекрасно знает, что начальство его тоже себе начертило. От тебя разве ждут, что ты сунешься с каким-нибудь громким раскрытием? Ты сам от себя этого ждёшь? Ты хочешь потихоньку, полегоньку – и в Следственный комитет, а с громким раскрытием можно так обжопиться, что или заставят уйти, или до пенсии прокукуешь на районе. Риск, Вася, – это то, чего Лев Александрович органически не приемлет.
– Ну, знаешь, я с риском тоже как-то не очень, – скромно сказал Вася.
– У тебя это объяснимая и простительная в моих глазах трусость. Уж какой уродился. А у него – расчёт из числа подлых. Аккуратненько всё в голове посчитает, личную дорожную карту накропает и сидит, смотрит, как другие шеи сворачивают. Себе и друг другу.
– Наглядное обучение стоит слишком дорого. В нём ставится на карту само существование страны.
Вражкин сказал это с ненавистью и через силу. Шаховская и Вася переглянулись. В изумлении: настолько чуждый Вражкину дух веял в этих словах (может, в официальном заседании, подчиняясь приказу, и прочёл бы он по бумажке нечто подобное).
Ничего удивительного: это и были не его слова, а Льва Тихомирова.
Вот, значит, как! Наконец я понял и причину Лёвиного гнева, и почему это был судорожный, безысходный гнев бессилия.
Лев Александрович Тихомиров был революционером крайнего направления и таким, сделав полный разворот в убеждениях, остался. Также был он и остался теоретиком и кабинетным деятелем, из-за чего в консервативных слоях Петербурга на него глядели с большой опаской: в правом лагере было много умников, но мало, если вообще они были, идеологов, и теоретизировать там не любили. (У левых – всё в точности наоборот.) Не говорю уже о том, что многие в обращение Тихомирова не верили и считали, что его нужно не амнистировать, а повесить.
Теоретик, просвещённый энциклопедист, профессорский ум – глубокий, холодный, бесстрастный ко всему сущему, с единственным устремлением: к истине. И публицист: яркий, язвительный, нечитаемый теми, на кого мог бы воздействовать. А философ – для взрослых, медленное, трудное чтение, недоступное русскому интеллигенту, не дисциплинированному ни в своём поведении, ни в мысли, неспособному оценить эту медлительную обдуманность, эту точность предвидения.
Но темперамент его был бойца и фанатика; Тихомирова переполняла ярость. (Даже и в старости – красные глаза, дыбом стоящая седая грива.) Не знающий границ гнев и гордость, не допускающая прекословий, бешеное самолюбие, которое постоянно оскорблялось тем, что его игнорируют; по вреду, который я приносил, можно всё-таки ждать, что я сумею быть и полезным – если этого хочу действительно; проволновался, бедный, всю жизнь, искренне хотел своего дела, своего поста, искренне не понимал, почему нет такой канцелярии, куда его пустили бы; в глазах одних – бывший атаман шайки политических убийц, для других – отступник, ренегат, чуть ли не продажный… это он-то, идейный человек! Никого ради амнистии не выдавший, никому из прежних друзей не навредивший; собственно, это было условием, которое Тихомиров – хватило же дерзости – поставил правительству при возвращении в Россию.
Ломали головы над загадочностью его действий; в чём тут загадка? Лев Тихомиров всегда хотел одного: сильной и социально справедливой государственной власти. Через народные массы выйдут новые поколения на простор, в ширь расцвета народной энергии и духа, или через царя, было для него не так важно, тем более что в его монархизме идея царская не только не исключала народного представительства, но оказывалась без него невозможной.
Настоящим чёрным зверем Тихомирова был парламентаризм, власть политических партий, возведённая в систему гражданская война, когда депутаты стоят против избирателей и друг против друга, правящее сословие перестаёт быть авторитетным, его презирают, даже если боятся, а народу, ослеплённому, оглушённому и одураченному, остаётся каторжная жизнь в разбойничьем притоне. На ремесло представительства нужна бойкость речи, пронырливость, способность к интриге, неглубокие убеждения, на агитацию – искусство морочить толпу, льстить ей и угрожать, гипнотизировать шумом, треском, внезапными ложными сообщениями, для господства партий – игнорирование духа и способностей страны, её гения, – с тем общим результатом, что гибнут все лучшие люди всех направлений.
Лучшим он считал себя всегда, а теперь ещё и гибнущим; горькое чувство уже не просто личной гибели, но роковой утраты чего-то ценного, необходимого для России отравляло его жизнь. Я говорил ему, утешая, что Россия проживёт без любого из нас, что миллионы пришли и ушли, следов не осталось… полно вам, Лев Александрович… И Лев Александрович ответил: но я-то всю жизнь воображал, будто принадлежу не к миллионам, а к сотням, более или менее «избранным»…
И смех и грех! И ведь он был не рядовой человек, мозг Исполнительного комитета, больше четырёх лет в одиночном заключении – товарищи его, двадцатилетние враги империи, сходили с ума, кончали с собой и просто умирали; допросов он ждал как праздника, чтобы пройти по коридору, наслаждаясь после тюремной одежды и мягких туфель прежним, свободным стуком своих каблуков; старался держать себя именно так, как подобает в звании врага существующего строя; четыре года в эмиграции за ним охотился глава заграничной агентуры Департамента полиции Рачковский, открытой слежкой и фокусами, психологией, затравил до истерики, до бешенства – и чуть было не добился своего, и привёз бы Тихомирова в Россию «без каких-либо договоров с ним, условий или ограничений, а просто как государственного преступника», да тот подал прошение… зря Рачковский – этого тоже можно понять, четыре года трудов, интриг, охоты, всё впустую, – хитроумный Пётр Иванович Рачковский, авантюрист в генеральском мундире, ровесник Тихомирова, сам с революционным движением и предательством – ещё каким! роль внедрённого агента принял и сыграл, и как раз в те годы, когда Тихомиров сидел в крепости, – в анамнезе, невозмутимый творец «произвола русских секретных служб в столице независимого демократического государства», креатор «дела бомбистов», посредник для французских политиков и инвесторов, сросшийся с французскими политическими кругами и французской полицией, водивший дружбу с Папюсом и мартинистами, приглядывавший за княгиней Юрьевской, запятнанный гибелью ревизора, присланного в Париж по его душу, уволенный Плеве за злоупотребления, пригретый Витте и под конец карьеры еле унёсший ноги из истории с Гапоном; зря он утверждал, что это всего лишь очередная выходка, что Тихомиров хочет создать себе новое политическое положение взамен утраченного, Тихомирову в те дни было уже всё равно, он не мог, он задыхался в миазмах эмигрантского мирка, говорливого, бурливого, где революционный идиот был не отличим от ловкого полицейского агента: надоели, осточертели до отвращения, я жаждал быть один, с чем-нибудь реальным – лесом, буржуа, лошадьми и коровами, с чем угодно, только подальше от этих фраз и от этих людей.
А что считал он для себя возможным занять общественное положение Каткова (только что умер Катков, и вышел срок двенадцатилетней аренды «Московских ведомостей», и бились претенденты на новую аренду – в печати, за кулисами, в частном совещании на квартире Михаила Островского и в заседаниях министров) – так ведь и стал Тихомиров редактором знаменитой газеты, правда, спустя годы, когда «Московские ведомости» уже дышали на ладан.
Тихомиров и Константин Леонтьев не случайно сошлись; роднила их, в частности, неприязнь к бюрократии, канцелярско-полицейскому способу править народом (есть ли способы иные?) – даже притом, что Леонтьев, сам чиновник из рук вон, находил в чиновничьей службе нужную ему поэзию и совершенно правильно её определял: порядок, послушание и точность.
О да, оба не отказывались служить, были бы горды служить, позволь им делать это на собственный лад, в красивом коронном мундире и (ради поэзии) орденах, в голубой ленте (с неба те, что ли, падают?), и всё по-своему, всё как им кажется правильным, потому что они умнее, способнее (я не спорю), им лучше видно (вот что сомнительно); они объявляли бюрократию необходимой и полезной, но неприязни это не уменьшало.
Леонтьеву посчастливилось рано умереть, но и Тихомиров, и я застали первую революцию – а Тихомиров, полагаю, и последующие; полюбовался, голубчик, на гений жизни, удачи, таланта, так не вовремя отлетевший от русской государственности; что толку честить за это петербургских бюрократов! Бюрократы всегда такие, какие есть в наличии, и гений администратора заключается в том, чтобы использовать их, не исправляя, самые их пороки и слабости превращать в рычаги; воры, распутники, негодяи, за которыми нужно смотреть в оба, принесли меньше вреда, чем беспомощное ничтожество на ответственном месте. И ещё хотел человек давать советы министрам! Кому-кому, а уж министру нужно хорошо знать это болото с крокодилами.
– Что с тобой, Лёвушка? – спросила меж тем Шаховская. – Книжку не ту прочёл?
– Я в полном порядке.
Я знал, что он ни за что не признается – ни Шаховской при Васе, ни Шаховской наедине в тёмном углу, никому из друзей (нет у него верных друзей, не может их быть), ни случайному собутыльнику в кабаке под утро (не пьёт он ночами).
Двадцать семь лет прожил Вражкин, видя в сердечных излияниях прямой вред, и думать не думал, что возникнет у него необходимость – желание! – открыть душу. Не имея навыка говорить без опаски и оглядки, не имея опыта дружбы – откуда тому взяться, если сызмальства смотришь на людей, вычисляя, кто из них будет полезен, кто может со временем пригодиться. И вот невесть откуда объявляется внутренний голос, с которым не совладать, на который некому пожаловаться; он не умолкает, поучает, чего-то требует… интересно мне чего.
А сам-то Тихомиров! Ничего не было общего у Льва Александровича Тихомирова с лощёным карьеристом Львом Александровичем Вражкиным, и не думал я, что Вражкин, даже перепуганный и в растерянности, окажется Тихомирову по зубам.
Бомбистка в душе и по всем ухваткам, Шаховская недолго собиралась с силами. Трёх дней не прошло, как встреча с революционерами была назначена. Я ожидал, что нас завлекут куда-нибудь в трущобы – потайные каморки, грязные комнатки, тонкие истеричные голоса, – но выбранным местом оказалось респектабельное заведение с десятью видами кофе и дорогим бильярдом. (Тертий Филиппов приходит мне на память всякий раз при виде бильярдного стола. Как он играл! маркёров обыгрывал. Мало кто ненавидел меня, как он, и, глядя на бильярд, я тотчас вспоминаю эту ненависть, розовое жизнерадостное лицо херувима, шелестящий змеиный смешок.)
Мы пришли загодя. («Придёте пораньше. Оглядитесь там». Шаховская даже не приказывала, но повелевала.) Расположились в укромном углу с хорошим обзором. Вася затравленно озирался, и я чувствовал, как пугает его то, что он видит: движение в полутьме, красивые улыбающиеся официанты в длинных передниках, скользящие неспокойные взгляды, во всём что-то пряное – нет, скорее намёк на что-то пряное… и другие тончайшие намёки витали в воздухе. В круге тёплого света чётко прорисовывались голова и руки (в перстнях) склонившегося над бильярдом человека. Нанеся удар (удачный), он распрямился и посмотрел Васе в глаза: плотный, вертлявый, нарядный человек с усиками и бородой, как говорили у нас в Москве, алажён-франсэ.
– Хватит, – прошипел Вражкин. Вместо кофе он заказал зелёный чай и деревянными, как всё у него, но точными движениями передвигал по столу белые чайник и чашку. – Свидетель, хватит уже ёрзать. Вы привлекаете внимание.
– Я не виноват, что извращенцы на меня западают, – прошипел Вася в ответ. – И перестаньте называть меня свидетелем. Шаховская ведь просила.
– Шаховской сейчас не до того. Да не пяльтесь вы так!
Только что вошедшая Шаховская неторопливо и надменно оглядела присутствующих. Почти все её проигнорировали. «Алажён-франсэ» положил кий и с ещё большей неторопливостью к ней приблизился. Они обменялись словами, но не рукопожатием. После чего сели на небольшой диван у окна и погрузились в беседу. Теперь на них косились не только Вася и Вражкин.
– О нет, – сказал Вася, – о боже. Это что, пидорский клуб какой-то? Это вот этот хочет консервативной революции? Лёва, а вон та парочка? Видите?
– Я не слепой, – невозмутимо сказал Вражкин. – И я категорически отказываюсь быть для вас Лёвой.
– Это ж эта, конспирация. Как мне обращаться-то? Гражданин следователь?
– Лев Александрович. Так трудно выговорить?
– …Тогда я хочу быть Василием Андреевичем.
«Правильно, Вася, – сказал я. – Не давай ему потачки. Он нервничает не меньше твоего. Ты заметил, как хмурится? Это Тихомиров ему сейчас что-то говорит».
Вася уже овладел искусством беседовать со мною мысленно, но я не мог поручиться, что все эти мысли не отражаются у него на лице. Конечно, дома мы упражнялись перед зеркалом, но возлагать на это какие-либо надежды было неблагоразумно.
Вражкин, впрочем, был слишком поглощён своими заботами, чтобы приглядываться.
– Васнецов, ну какой из вас Василий Андреевич? – рассеянно бросил он.
– Нормальный. Смотрите, он ей что-то даёт. Визитку?
– Идиот, мы не должны смотреть одновременно.
– Я не идиот! Вот, я смотрю на чайник… на чайник… Достаточно?.. Бля, боже, опять он на меня уставился. И подмигивает!
– Да тише вы!!! Сидите спокойно.
– Ага. Я бы поглядел, как вы будете спокойно сидеть под такими авансами.
– Откуда вам знать, под какими авансами я сидел?
– При всём уважении, – начал Вася. Его тон давал понять, что уважением здесь и не пахнет. Шевеление на диване его отвлекло. – Ой, ну вроде всё, она уходит. Пошли?
– Не сразу же. Надо переждать.
С каждой из десяти минут, возложенных на алтарь конспирации, всё яснее становилось, что у Васи и Вражкина нет ничего общего. Так в гимназическом или училищном классе случается, что двое за все годы обучения не обменяются ни единым словом. Это не вражда – они будут разговаривать, если учитель посадит их за одну парту, и не откажутся от участия в общей игре. Но общих интересов у них нет, и сказать друг другу нечего. С огромным облегчением они замолчали.
Неподалёку был Таврический сад, и встретиться там договорились заранее. Я не узнал ни одного дерева. Что важнее, я не узнал парка. Шаховская с отсутствующим видом сидела на скамье в тени старого дуба. (Я не вспомнил его молодым дубком.) Вася плюхнулся рядом. Вражкин остался стоять.
– Ну? Что он сказал?
– Сказал: «Зовите меня Бисмарк».
– Как?!
– Это прозвище. Можно даже сказать, партийная кличка.
– И в какой же партии?
– Они ещё думают. Не решили, нужна ли партия вообще. Не лучше ли будет широкая внепартийная коалиция. В наших условиях.
– Какие предусмотрительные «они», – холодно сказал Вражкин. – Имена-то у «них» имеются? Или всё такое, бисмарки да эйленбурги?
– Не знаешь, так молчи. Про Эйленбурга он где-то услышал! Ну при чём здесь Эйленбург?
Надеюсь, что так, подумал я. Фили Эйленбург, граф Трубадур, последовательно военный, дипломат, композитор, культуртрегер и во всём дилетант, политик-любитель, которому удалось однако свалить Бисмарка, вагнерианец, спирит, враг католической церкви, «незабвенный друг» графа Гобино, наперсник и ментор Вильгельма Второго, вечно толкавший и тянувший его в какие-то расписные челны рыцарских романов, был нам совсем не ко двору.
– Не меньше «при чём», чем драгоценные твои фон Заломон и Юнгер.
Недавно Шаховская и Аркадий Шпербер опять говорили в присутствии Васи о консервативной революции, и Шпербер (он рассердился, чего прежде с ним не случалось) сказал про общество, о котором мы ещё ничего не знали: «Я понимаю, какие картинки витают там перед мысленным взором. Элегантные, остроумные и дерзкие люди посреди остатков былой роскоши замышляют переворот. Как можно поверить, что они выдержат сравнение с теми, настоящими, у которых за плечами была большая война, а перед глазами – Веймарская республика? Боевые офицеры, учёные и авантюристы, и о каждом можно написать приключенческий роман! Приключения тебе понадобились? Есть армия, есть Сирия, есть ЧВК Вагнера… Ну возьмёт Вагнер к себе такого болтуна?» – «Мы не знаем, болтуны они или нет и где побывали, – ответила Шаховская. – А во-вторых, даже у клоунов порою кое-что выходит». После чего Небрат заявил, что скорее небо упадёт в Неву, чем Екатерина Шаховская, редактор, согласится ассоциировать себя с клоунами, и разговор завершился. И всё же ему удалось произвести впечатление.
– Может, и есть у них боевые офицеры, – сказала она теперь. Ей не хотелось бросать полюбившуюся игрушку. – Есть люди хоть где-то. Не может быть, чтобы вообще никого нигде не было.
«Как труден выбор людей!» – говорил Александр Третий. И сам себе: «Но есть люди». Подумав: «Они найдутся». Бедный, бедный.
– Он дал мне контакты. Наобещал с три короба. В «Эльзевире» в среду с каким-то писателем встреча, они все там будут. Вась, хоть ты-то не молчи.
– У меня нет этих самых, слов.
– Да, ты вообще незапасливый.
– Слова есть у меня, – сказал Вражкин, поглядев на часы в телефоне. – Слова есть, а выходных не так много. Полсубботы псу под хвост. Ну, пошутили – и хватит. Всего хорошего.
– Так что, в «Эльзевир» не пойдёшь?
Не удостоив Шаховскую ответом, а Васе даже не кивнув, Вражкин повернулся и зашагал прочь.
– Ты мне никогда не говорила, что у тебя такие родственники, – осуждающе сказал Вася.
– Ну, если я про всех своих родственников начну рассказывать…
– А у тебя их много?
Шаховская пожала плечами:
– Комплект, как у всех.
– У меня нет комплекта.
– Что тут сказать, Васнецов? От души завидую. Хочешь, я в «Эльзевире» скажу, что ты мой двоюродный брат?
– Сильно мне это поможет. – Вася поёрзал. – Опять пидорский кабак и писатель такой же? Не пойду.
– Темнота ты сельская. Это книжный магазин.
– И где гарантия, что в книжном магазине меня не прижмут за шкафчиком?
– Ходить по книжным магазинам надо почаще. Тогда бы знал, как беспочвенны твои надежды. Вот и Константин Николаевич смеётся…
– Смеётся и всё?
– Планы строит…
– Хорошо тебе с ним? – неожиданно спросил Вася.
– О да! – Шаховская расплылась в улыбке. – Я ведь была в полном, – она щёлкнула пальцами, – интеллектуальном вакууме. Ты меня вряд ли поймёшь, – замявшись и досадуя на себя за это, – не хочу обидеть, но ты действительно вряд ли поймёшь. Это как жить среди людей, которые не знают твоего родного языка… не знают даже, что такой язык вообще есть. Ты их худо-бедно понимаешь и сам можешь что-нибудь вымучить, но твоё настоящее наречие – на нём ни с кем, никогда, и уже начинаешь всех подряд ненавидеть просто за то, что ты мучишься, а они – нет, пока до тебя не доходит, что это и есть сумасшествие. И вдруг! Как в сказке!
– Скрипнула дверь. Тебе парень нужен, а не голос в голове.
– Ты мне себя, что ли, предлагаешь?
– Упаси боже, – с чувством сказал Вася.
Шаховская фыркнула.
– Тогда шагай. Ступай, Васнецов, человек без вдохновения и устремлений. Оставь нас здесь, под дубом.
– Катя, очнись. Просто очнись, да?
– Нет!
Мы и ушли. По дороге домой Вася завернул в лавочку за хлебом и, убирая в карман сдачу, едва не налетел на плотного нарядного господина, заступившего ему дорогу.
– Привет. Не пора ли познакомиться?
– Бисмарк, – непроизвольно сказал Вася, делая шаг назад.
– Он самый. Вижу, мою персону успели обсудить.
– Я не то хотел сказать —
– Разумеется, то. Ах, дети, дети. Что за игры. Боялись, что я обижу вашу подружку? Следовало понять, что мои интересы лежат в другом направлении.
«Вася, молчи. Пусть сам говорит».
– Я так и понял. Чего надо?
– Хотел пригласить на прогулку по рекам и каналам. Приятная компания, отличные напитки…
Вася круто развернулся и пошёл прочь.
– Не прощаюсь! – крикнул Бисмарк. Почудилось или нет, но было слышно, как он тихо смеётся.
Я никогда не видел живых революционеров в их, так сказать, естественном milieu. (Тихомиров не в счёт, хотя его-то как раз мне всегда было нетрудно представить с бомбой в кармане.) Я не посещал судебные процессы. (Ноги моей там не было!) Меня выслеживали, но я не замечал. Я жил с убийцами Александра Второго в одном городе – да мало ли убийц всегда было и есть среди людей, с которыми мы ходим по одним и тем же улицам и даже в одно и то же время, – и они были для меня существами из другого мира, если существовали вообще. Но ведь и они смотрели, не видя, видя в лучшем случае куклу с ярлычком «офицер», «сановник» (а мои тогда куклы? «нигилист», «студент»…).
Вася меж тем бушевал.
«И вот этот гадёныш топал за нами всю дорогу и никто ухом не повёл! Не оглянулись ни разу!»
«Естественно. Кому из вас приходило в голову, что за ним могут следить?»
«Должно было прийти, раз уж впутались! Конспираторы! Ну Шаховская, удружила! И вы такой, задним числом умный. Могли бы, Константин Петрович, подсказать!»
«Мой опыт тоже невелик».
Мой опыт был опытом человека, которого угрожают убить. Три покушения. Потом Гершуни сразу после убийства Сипягина в девятьсот втором году открыл охоту на меня. Для нападения выбрали день сипягинских похорон, и был приготовлен револьвер с отравленными пулями – всё как в бульварном романе. Так и не знаю, что у них не задалось. Флигель-адъютантский мундир не смогли достать или не убедили какую-нибудь из своих женщин переодеться в мужское платье.
«Кстати, ты мог бы этому Бисмарку и ответить».
«Да. Чтобы вы меня потом калёным железом».
«Всегда можно соблюсти приличия и удобопонятливость при краткости изложения».
«…Э?»
«Э не э, а ответить надо было. Твёрдо, но вежливо».
«Такому-то негодяю?»
«Про негодяйство его нам пока не ведомо, а о смехотворности можно только пожалеть. Несчастный человек. Ведёт себя, как будто он первый педераст на земле. Да этой заразой полны все европейские дворы, все артистические сообщества и все монастыри. Ты что замер, Васенька? Не веришь?»
«Я не верю, что вы так спокойно об этом говорите».
«Много будет толку от моего негодования. Я тебе рассказывал о князе Мещерском?»
«Нет, – мрачно сказал Вася. – Не терпится услышать».
Современники говорили: гнусный Вово Мещерский; в этом веке скажут – колоритная личность. Какими письмами он засы́пал меня в скандальном восемьдесят седьмом году, словно брошенная после двадцати лет безупречной жизни жена, мешая мольбы с нежными упрёками. Вы слишком больно измучили меня, чтобы вызвать злобу; они безнадежно горьки, мои чувства. И в эти же дни непрерывно в секретных доносах своих жаловался на меня государю – ни одной сплетни не забыл повторить, каждый гадкий намёк поднял.
«Я не проходимец, я имя своё не загрязнил, я служу правде как могу, как умею». «Если я негодяй, не со вчерашнего же дня я им стал». Мастер жалкие слова говорить! И ведь пока говорил, всей душой в это верил, слёзы ронял – подлец, не пощадивший никого, от фрейлины Жуковской до ближайших родственников, легко готовый каяться в своих ошибках, чтобы тут же наделать новых, таких же и хуже.
Шептун двух царствований; ментор, никем (прежде всего теми, кого он поучал) не признаваемый в этой роли, – с его репутацией педераста из самых отчаянных; Содома князь и гражданин Гоморры, негодяй, наглец без совести и без убеждений, громящий пороки и проповедующий нравственность, когда для него, может быть, выгоднее было бы вовсе не касаться этого предмета. В искренность его разглагольствований никто не хотел верить.
Этот «плохой адвокат хорошего дела», особого рода юродивый, имел несчастную способность выводить людей из терпения. Императрица Мария Фёдоровна говорила: «Когда этому человеку открывают дверь, я в неё выхожу». При его заступничестве за власть хочется чувствовать себя бунтарём, при его заступничестве за веру и Церковь говоришь безумные речи во вкусе атеизма; его пинали, отталкивали, он вновь прибегал и ластился, как собака… кто-то и сравнил его с собакой: вороватый, блудливый, беспокойный, ласковый и кусачий сеттер или борзой…
Свирепый на вид, губастый урод с манерами крепостника и впечатлительностью институтки. Умный, хитрый, подлый, лизоблюд, попрошайка – и всё это в сочетании со страшным эгоизмом, с неслыханной способностью к самообольщению. Всю жизнь человек вертелся и хорохорился около чего-то и так ничем и не сумел стать – жалкая жертва тщеславия при огромном таланте. (Был талант, был.)
Десять лет после Училища правоведения Мещерский состоял при Валуеве чиновником по особым поручениям – в восемнадцать губерний за десять лет съездил! – и что дали ему этот опыт и этот кругозор? Жизни больших губернских городов он не узнал, земство возненавидел, не научась обуздывать, а деревня для него, никогда не бывшего помещиком, вообще осталась теорией. Министерская выучка? в такое время, как шестидесятые, у такого министра, как Валуев, Владимир Петрович не почёл нужным хоть сколько-нибудь разобраться в сложностях управления и в следующее царствование сделал своим специалитетом превозносить монарха за счёт его министров. Посьет в Министерстве путей сообщения, Делянов в Министерстве народного просвещения, Островский в Министерстве государственных имуществ и Шестаков в Морском ведомстве один за другим попадали под канонаду его сперва советов, затем – полуплощадных ругательств, вызванных отказом советам следовать.
Сорок лет издатель, редактор и основной сотрудник «Гражданина» – и что же? Все сорок лет как журналист – безграмотный, экзальтированный, переменчивый, как примадонна, и легковернее деревенской бабы; бесцеремонный брехун; умный брехун, но падкий на лесть и личности, с домашним халатным решением всех вопросов… и безответственность болтуна: удачи его не награждались, ошибки оставались без наказания. Князь-точка, самолюбия бочка – суворинские шутки тоже не образец вкуса, но смешон был Мещерский, когда со всех крыш вопиял, что собратья по журналистике травят его за то, что он князь Мещерский, камергер Мещерский, аристократ в профессии, захваченной плебеями, которые могут пыжиться и считать себя князьями слова, но никогда не переступят порог тех гостиных, где принимают по праву рождения. (Очень им были нужны эти гостиные в век торжествующего плебеизма и еврейских капиталов.) Когда пошёл слух, в том же восемьдесят седьмом, что скандал с горнистом раздули, чтобы устранить Мещерского из борьбы за «Московские ведомости» после смерти Каткова, уверен я был, что сам же он этот слух и пустил: не нужны были никакие скандалы, чтобы не подпустить к серьёзной газете такого претендента, уже широко известного неумелостью, пустомыслием и денежной, в конце концов, неаккуратностью.
Брехун и хвастун. Измыслил себе положение, чуть ли не должность – внук Карамзина! – кого только не внёс в младенческие свои воспоминания. (Прискорбно для князя, что Пушкина к моменту его рождения не было в живых, не то и у него посидело бы резвое дитя на коленях.) Измыслил себе, в молодости, не просто положение при дворе, но особое место – друг наследника, наперсник, – и никакими опытами не удавалось Александру Александровичу отрезвить самозваную нимфу Эгерию (надоедает своими претензиями и вечными вопросами, более или менее до него не касающимися), пришлось прогнать с глаз совершенно, да и здесь Мещерский – он-то, понятное дело, обвинил Марию Фёдоровну и людей, наследнику по-настоящему близких, – должен благодарить в первую голову себя: своё наушничество, свою лживость и своё безжалостное при всей внешней мягкости и податливости сердце.
В восьмидесятые, когда наследник Александр Александрович стал императором Александром Третьим, князь лично посылал ему специально отпечатанный на веленевой бумаге экземпляр «Гражданина» и даже просил «рекламировать». Александр отвечал тем, что публично отрицал, что «Гражданина» читает.
Я знал Мещерского сорок лет, половину моей жизни и бо́льшую часть – его, и не поручусь, что до конца понял. Я даже не поручусь, что он был из тех людей, кого невозможно понять, не зная их тайн. Для кого-то его тайная жизнь становится настоящей, а явная, казовая сторона – всего лишь ширма, только в этом качестве и ценная; другой, напротив, в явное вкладывает душу и в секретных своих пороках и страстях видит морок и дурной сон. Да и что мог я знать о тайнах князя? Были это утехи с банщиками и оргии с вином в гигантских стеклянных елдаках или тихая полусемейная жизнь с очередным миньоном? (Как мне говорили, одно не исключает другого.)
«Константин Петрович!!!»
«Да, Вася, что тебе?»
«Не надо так уж детализировать».
В книжной лавке Маврикия Вульфа можно было наткнуться на членов Государственного совета, генералов – любителей стихов и генералов – адептов гомеопатии, действующих министров, даже кое-кого из великих князей. Приезжие из провинции заявлялись сюда узнать, что читает высший свет; Скобелев, уезжая на войну с турками, здесь запасся картами и книгами о Турции и Балканах, а чего в наличии не было, заказал. («По какому адресу выслать? – Можете адресовать в Константинополь».) Валуев, Бунге, граф Дмитрий Андреевич Толстой и великий князь Константин Николаевич были завсегдатаи – какие разные люди и какие, все четверо, страстные любители книг; Толстой даже, можно сказать, библиоман.
Сам Вульф, Меццофанти книжного дела, Маврикий Единственный, был ходячий и разговаривающий каталог. К нему обращались за справками, советами и просто с болтовнёй, он держал в голове библиографию новинок на четырёх языках и особенно был сведущ в специальной французской литературе, а лично для меня отыскивал и выписывал из Англии, Франции и Германии старые, забытые книги по юриспруденции и богословию.
Поэтому, по старой памяти, посещения «Эльзевира» я ожидал с нетерпением. Васю невозможно было заставить взять книжку в руки (да и не оказалось у него в доме книг), газету он раскрывал с боем, о существовании библиотек разве что догадывался. Он и в «Эльзевире» нацелился сесть в углу и уткнуть нос в телефон, но тут уже я восстал, и пока публика, ожидая писателя, собиралась в смежном зале, мы осмотрели новинки на столах и открытых полках.
«Эльзевир» оказался тесным полуподвальным помещением, в котором с трудом могли развернуться продавец и несколько покупателей. Книги были только русские, но половина из них – переводы. Уже переплетённые, разрезанные (фабричным способом), с ещё непривычными мне шрифтами и орфографией. Вася брал их в руки без любви, листал без интереса и, когда я заикнулся о покупке (того самого, воспеваемого Шаховской фон Заломона), нахально заявил: «Слишком дорого».
«Вася!» – сказал я едва ли не умоляюще.
«Нет! – Потом его осенило. – Куплю, если будете меня отпускать. В прежнюю жизнь. На блядки».
«Вася!!!»
«Нет так нет».
«Как я тебя отпущу, если я всё время с тобой?»
«Вы же умный, не я. Придумаете».
Ах, Вася, Вася, подумал я. Как голос-то сразу прорезался.
«Я и в библиотеку, наверное, смогу записаться… Если договоримся».
Ну хорошо. Сам напросился, Талейран сопливый.
«Хорошо, – говорю. – Библиотека – это аргумент. Посмотрим, что можно сделать».
– А вот и Соло! – сказал кто-то весело. Подошла Шаховская, и мы отправились занять свои места.
Алексей Обухов (Соло Обухов, как звали его среди своих из-за привычки говорить много, безостановочно и не нуждаясь в собеседнике), сорокалетний жуир, философ, бывший анархист и бывший русский националист, автор романов под такими, в частности, названиями, как «Желание быть василиском» и «Отродье», был любим и популярен. Пришедших на встречу с ним набился полный зал. (Да, совсем небольшой зал, зальчик, но тем не менее.) Писатель Обухов менял риторику, но поклонников сберегал. Посмотреть на него пришли пожилые анархисты (кожаные пиджаки, длинные, невзирая на седину, волосы), люди средних лет (аккуратные костюмы и бороды) и пёстрая молодёжь. Все они игнорировали друг друга и в этой тесноте сидели не смешиваясь. Открытой враждебности между ними не было, только отчуждение и тайный страх.
– Соло, жги! – кровожадно закричали в заднем ряду.
«Что он собирается жечь?» – спросил я у Васи.
«Сердца».
И Соло, надо признать, зажёг.
Спрашивали его, как любого русского писателя во все времена, обо всём на свете – о его сочинениях меньше, чем о чём-либо. Оправдывая своё прозвище, он говорил как заведённый, и слушать его было интересно. Он изложил свои мысли и доводы относительно легальной компартии (политические погорельцы), поправок в Конституцию (что сделано в гузне, не переделаешь в кузне), глубинном государстве (в России не может быть глубинного государства, ибо здесь на глубине лежит анархия. Именно поэтому так важно, чтобы государство на поверхности было сильным и крепким) и демократии (демократия в двадцать первом веке означает две вещи: овцы имеют право выбирать себе волков, а карлики – высказываться о размерах великанов). В ответ на просьбу назвать трёх лучших современных писателей сказал: «Искусство – не спорт, слава богу. Здесь нет быстрее, выше, сильнее и нет победителей и побеждённых в том смысле, как понимают это Олимпийские игры. Искусство если сравнивать, только с природой. Крылышко бабочки имеет ту же ценность, что и Ниагарский водопад. Да, водопад величественнее. Но красоту не измеряют вёдрами». О сотворчестве писателя и читателя: «С таким же успехом можно сказать, что лес соавторствует с теми, кто ходит туда по грибы-ягоды. Что они там насоавторствуют? Под ёлку насрут?» Его спросили о входящем в моду романисте (иногда достаточно поместить портрет сочинителя, чтобы убить доверие к книге) и ещё об одном, недавно почившем (я восхищаюсь им, но у меня нет ни малейшего желания ему подражать). После этого крикун в заднем ряду вновь подал голос:
– Соло, тебе всё равно придётся выбрать сторону!
Соло на мгновение задумался.
– Возможно. Но, выбрав сторону, обязан ли человек солидаризоваться со всеми подонками и отребьем, которые обнаружатся на этой стороне?
– В этом смысл выбора. Болеешь за футбольный клуб – терпишь выходки его фанатов. Ходил на концерты Летова – толкался среди гопоты. Я уж не говорю, с какими скотами можно оказаться в одном окопе, когда дойдёт до войны.
– Вот когда дойдёт до войны, и будем жить как на войне. – Обухов погрозил пальцем. – Вы вообще не кажетесь мне лицом призывного возраста. К чему это академическое беспокойство?
Тут уже несколько человек закричали разом.
Обухов (он говорил стоя) привстал на цыпочки и яростно замахал руками. Через мгновение я понял, что он издевательски дирижирует.
– Есть верность идеям и верность людям! – провозгласил он, дав публике успокоиться. Небольшого роста и довольно плотному, ему хорошо шёл густой зычный голос. – Вот главный выбор, и очень горький, чёрт бы его побрал! Да кто вас вообще заставляет? Сами цепляетесь! Воздвигли абсолютную догму против свободы живого быта! История вопит: к чёрту! Ваша собственная душа вопит: к чёрту! А вы заканчиваете тем, что покорно склоняетесь перед необходимостью навязываемого вам извне выбора, и приходите сюда, к писателю, который столько всего дал вам за двадцать лет, и говорите ему, что какие-то «силы», неведомы зверушки, рекомендуют ему «определиться». Не хочу определяться! Не буду! Нашлись, тоже, вещуны и демиурги! Нравственные мазурики! Плюю на них слюнями!
Потрясённая аудитория притихла. Они не были рассержены – никто и никогда не сердился на Соло Обухова, – но каждый, казалось, внезапно осознал, что сидит косо и на очень неудобном стуле.
– В жизни всё путано, состоит из недомолвок, лжи, сорвавшихся слов и сделанных на этой основе неверных умозаключений, – продолжал Обухов назидательно, беззлобно и так спокойно, словно его иеремиада была концертным номером, выброшенным из головы сразу после исполнения. Он даже не запыхался. – Не надо добавлять сюда ещё и «выбор». Настоящий выбор делается сам собою, когда, как вы верно подметили, из военкомата приходит повестка.
Заговорил он под конец и о консервативной революции, и эта консервативная революция значительно отличалась от консервативной революции Екатерины Шаховской. Вроде бы здесь прусский ритм – и там прусский ритм, а идти в ногу, тем более маршировать, никакой возможности. «Солдатский потенциал» Обухова и «оппозиция принципам 1789 года» Шаховской были пунктами одной программы, но это была программа, а не Символ веры; не цель сама по себе, а оружие в борьбе с тем, что перед глазами.
Традиционные ценности. Борьба с пораженчеством. «За алтари и очаги». Собственность. Семья, дворянство и народ. Обухов складывал из них национальное государство, Шаховская – империю. Их понимание собственности (земля, дом на этой земле) было анахронизмом уже во времена Вышнеградского и Витте, но и здесь они умудрились разойтись.
– Не могу больше! – сказал Вася, изнывавший от скуки.
– Не на что тебе жаловаться, – сказала Шаховская. – Это мог быть вечер поэзии: умнейшие люди в тельняшечках, мат коромыслом и пишущие стихи дегенераты.
Трудно мне объяснить, как оно вышло, что под конец вечера, когда все разошлись, Вася и Шаховская оказались в небольшой компании избранных и компания эта отправилась прогуляться.
Свобода современных нравов, общительность Обухова, невесть откуда взявшийся (уверен, на встрече его не было) Бисмарк – всё сошлось и привело к лёгкому, мимолётному товариществу на один вечер. И прекрасный вечер это был.
Солнце медленно, как это обычно для Петербурга, садилось; его вкрадчивое, тихое угасание – что там у Фета? так робко набегает тень, так тайно свет уходит прочь – озаряло дома и набережные, сами, казалось, ставшие частью этого мягкого света, растворяющиеся в нём, тающие. И уже надмирное что-то было в них, что-то бесконечно чуждое человеку, что я всегда ощущал в этой красоте; предчувствие, что этот надменный город падёт, как пал прекраснейший из Господних ангелов.
– России, – говорил Обухов (у нас каждый знает, что нужно России), – нужна ответственная, образованная и национально ориентированная элита. Внизу жизнь сама разовьётся, если ей не сильно мешать, но наверху пустить дело на самотёк нельзя. Вдалбливать в пустые головы, воспитывать, следить и вдалбливать! Лаской и таской, и таской преимущественно. Детей у них изъять и растить как положено – в лицеях, кадетских корпусах. Так чтобы уже у третьего поколения в костях отложилось.
– Соло, да кто ж это будет делать? – пискнул кто-то. – Опять немцев выпишем?
– А что, можно и немцев. Должен признать, скрещение русской крови с немецкой даёт прекрасные результаты. Furor Teutonicus в букете с «широк русский человек, я бы сузил». Их опасно чрезмерное почтение к закону умеряется нашим опасно чрезмерным неуважением, а русский бесцельный жар неплохо унять систематическим немецким холодом в крови. Ловите мысль? Преизбыток хорошего свойства превращается в недостаток. Однако наши и их недостатки, как химические вещества, вступают во взаимодействие и порождают новый элемент, в высшей степени положительный.
Обухов был москвич, истый, коренной, я видел в нём это сквозь все наслоения случившейся без меня истории. Он уже успел вскользь пройтись по всем петербургским предрассудкам и идиосинкразиям, и его местные почитатели только смущённо хмыкали, спуская своему любимцу шуточки, никому другому здесь не прощаемые. И то, что именно он с одобрением, хотя и посмеиваясь, заговорил о новой необходимости призвания варягов, показалось мне особенно зловещим. Я представил, как ворочается в гробу бедный Иван Аксаков, такой же истый москвич, возведший «немцев» уже на уровень метафизического зла и отыскавший это зло равно в красных и правящем классе. (Чернышевский и Правительство оба ренегаты относительно Русского Народа, оба приверженцы Западного деспотизма, только в разных видах, – оба Немцы.) Но Иван Аксаков был опасный маниак, с огнём в очах и насупленными бровями при малейшем противоречии, а Обухов – софист и очень светский говорун, и его улыбчивые парадоксы не отпугивали слушателя, но словно брали его под руку и, воркуя на ушко, влекли за собой, уже не замечающего, насколько охотно идут ноги. И так ли он был неправ? Что ни говори, а немцы в России быстро осваиваются и русеют и спустя поколение уже неотделимы от страны и русской почвы.
Всё вспомнилось разом: благородные и простодушные русские немцы николаевской эпохи; чистенькие, тихие и трудолюбивые генералы военно-судебного ведомства, любители икон и Пушкина; и голубые невинные глаза принца Ольденбургского, и весь он, феноменально глупый, добрый и честный, незабываемый; совершенный энтузиаст и фанатик в исполнении раз принятых на себя обязанностей; стальная воля и прелестная улыбка Эдиты Раден; и многолетний посол в Лондоне Егор Егорович Сталь, о котором Александр Третий говорил: «Вот немецкая фамилия, а русская душа», прибавляя: «У Лобанова обратно!»; и такие условные «немцы», как Даль и Гильфердинг.
Впрочем, был также Нессельроде и на десятилетия вперёд выпестованный им дипломатический корпус, где с фонарём нельзя было найти человека русского по душе и устремлениям; были и остзейские немцы с их холодным презрением ко всему, что Undeutsche, с ненавистью к нам, ненавистью слабого к сильному, облагодетельствованного – к благотворителю, увидев и осознав которую, Юрий Самарин ещё в 1847 году пустил по рукам свои «Письма из Риги» – чуть-чуть не отправили они автора в Сибирь; были памятные слова Николая Павловича: «Русские дворяне служат России, а немецкие – мне», – и не уверен я, что это апокриф.
– Выходит, зря крошил Александр Невский псов-рыцарей, – с обманчивым спокойствием сказала Шаховская. – Это на подмогу нам выезжает конница из Тевтобургского леса.
– Нет, это его дружки татаро-монголы скачут, аж спотыкаются, – ядовито парировал Обухов. – Встречал я, Катенька, таких, как вы, вообразивших, что не Европу мы спасли, а себя спасли от Европы благодаря татарам, вечное им за то спасибо.
Шаховской меньше всего хотелось солидаризироваться с татаро-монголами.
– Нет! – сказала она гневно, уже не заботясь о спокойствии. – Мы сами по себе!
– Ну конечно же, сами. Зачем так нервничать? – Бисмарк, до этого погружённый в созерцание шёлковой смуглости невысокого молодого человека с красивыми злыми глазами, присоединился к разговору и примиряюще повёл рукой. – Между рыцарями и татарами, всё как заведено. Мост, вот что мы такое. – Он перехватил насмешливый взгляд Обухова. – Или форпост. Форпост. Так даже лучше.
– Чей форпост-то?
– Это с какой стороны смотреть. Для Европы – форпост татар, для татар – форпост Европы. Что я вам здесь прописи объясняю.
«И вот, наглотавшись татарщины всласть, вы Русью её назовёте, – сказал я Васе. – Помнят ещё Алексея Толстого? Удивительный был человек и до чего ненавидел московский период, самый, по его мнению, подлый за всю нашу историю; мерзости обезображенной трёхсотлетним игом нации. А до татар мы были, разумеется, европейцами чисто арийского происхождения, почище даже, чем немцы».
«Я домой хочу, – ответил на это Вася. – Пойдём уже?»
И лучше бы мы пошли.
Компания двигалась вдоль решётки Летнего сада, и в центре, как солнце, неторопливо шествовал и сиял Обухов, и остальные вращались вокруг него, как планеты, некоторые со своими малыми спутниками, удаляясь, возвращаясь, меняясь местами, в переливчатом блеске франтовства, шуток, молодости. Бисмарк взял на себя роль беззаконной кометы, кружил от одного к другому – такой неожиданно старый на фоне юных лиц, которым он восторженно и мягко улыбался, что становилось жаль его, накрытого тенью его всё более близкого и всё более безрадостного будущего.
«Вася, не смотри под ноги. Смотри по сторонам».
Непривычный вид Выборгской стороны и автомобили, несущиеся по набережной, напоминали о переменах, а Город остался прежним – одной решётки Летнего сада было довольно, чтобы розовый гранит и золочёные изгибы розеток уничтожили время. Перемен было слишком много, я привык к ним легче, чем думал, – потому ли, что они обрушились на меня разом и я очутился в готовом мире, чужом и самодовлеющем, тогда как медленный процесс становления, когда ещё кажется, что можешь воспрепятствовать тому или иному новому, а то или иное старое видишь живым и сопротивляющимся, свёл бы меня с ума. Сейчас, между решёткой Летнего сада с одной стороны и изменившимся видом через Неву – с другой, как никогда было ясно, что изменившееся не смогло изменить в этом проклятом городе главного, и выжило в нём то, что я ненавидел, его сердцевина, суть: гордыня и равное безразличие к человеческому и божескому. Со всеми его соборами!
В эту минуту произошло столкновение.
Красный спортивный автомобиль, мчавшийся быстрее прочих, подпрыгнул на горбящемся мосту через Фонтанку, изменил направление и на всём ходу ударился об встречную машину. Их развернуло и почти вынесло на тротуар, нам под ноги. Оба автомобиля были повреждены, но красный, небольшой и приземистый, сильнее.
Человек, выбравшийся из него, виновник происшествия, был страшен. Крупный, взлохмаченный, он тряс головой; его водило из стороны в сторону, и он делал мелкие шажки, чтобы устоять. Шатаясь, что-то нечленораздельно крича, он обошёл свой транспорт, потом добыл откуда-то из его недр биту для лапты и, не переставая кричать, стал наносить беспорядочные удары по второй машине. Та стояла неподвижно, и люди в ней застыли от ужаса.
Его шатало, он заваливался то направо, то налево, припадал на ногу, и в нём было столько сгущённой, судорожно, как в кулак, сжатой злобы, что, казалось, одна эта злоба, голыми руками, разметала бы стекло и железо, если бы не вмешались Обухов, его старая анархистская гвардия, а за ними – водители и пассажиры других машин, проезжавших мимо и остановившихся. Когда, не спеша, подъехала полиция, башибузук лежал на асфальте, связанный чьим-то шёлковым шарфом, полузадушенный, и Соло прижимал его горло ногою в тяжёлом ботинке.
Полицейские не сразу поверили своим глазам.
– Это что такое? Отойдите немедленно! Развяжите его!
– Caveant consules, – сказал Обухов и развязал.
И ему, и всем нам повезло, что буен молодец, почувствовав себя на свободе, ринулся на первого, кого увидел, и этим первым оказался человек в форме и с оружием. Полицейские немедленно признали опасность. Бодро и с отвагой навалились они втроём, а четвёртый вызывал подкрепление, и оно пригодилось. И Обухову, который ниже своего достоинства считал тихо исчезнуть, пришлось участвовать в составлении протокола, а его свите – давать свидетельские показания.
– В этом вся проблема с литературой, – злобно сказал Вася Шаховской, пока они ждали такси, чтобы вернуться к себе на Охту. – Идёшь на творческую встречу, а заканчиваешь день в канаве, больнице или полицейском участке.
– С писателями не надо встречаться. Их надо читать.
– Это ты говоришь?
– Случай был исключительный. Мы как-никак пришли по делу.
– Ну и, сделали?
Когда Шаховскую тыкали носом в её ошибки, особенно если это делал человек, которым она привычно помыкала, разражалась гроза.
– Не смей меня поучать! Ты не в состоянии поучать кого бы то ни было, меня меньше всех! С литературой у него проблемы! Твоя проблема в том, что ты идиот!
– Нет, это твоя проблема в том, что я идиот! И вообще все идиоты вокруг тебя, такой нормальной!
Были сказаны и другие слова, после которых мысль о совместной поездке обоих оставила. Вася уступил Шаховской пришедшую машину. Пока мы дожидались следующей, я сказал:
«Вася, это немыслимо, чтобы барышня так тебя третировала».
«Ага. Вот вы ей это и скажите. Или пусть Леонтьев скажет».
«Нет, он не скажет. Ему это должно нравиться».
Я не считал Константина Николаевича злорадным человеком – злорадства в нём и тени не было, – но он всегда любил блеск и позёров. Он любовался Скобелевым, в Крымскую войну он любовался, по его собственному признанию, щегольской черкеской и золотыми – какие-то мюратовские вкусы – браслетами на сильных руках черноморского полковника и как его пегая лошадка выбрасывала ногами в стороны; ему легче дышалось при виде эффектных людей, их замашек и привычек, франтовских до смелости. И мог ли он устоять перед неуправляемыми наглостью и бешенством Шаховской, которая тоже на свой лад гарцевала и «показывала браслеты» и потом говорила, наверное, своему даймону: «С какой стати уступать?» – и тот не знал, что ответить, потому что и сам не понимал с какой.
Вася задумался.
«Вот допустим, Константин Петрович, если я выпью, вы захмелеете? А если захмелеете, может быть, станете подобрее? Я вот думаю – »
«Вася, прекрати думать. Немедленно».
Это сделалось вдруг.
К середине июля консервативная революция поднялась, как эпидемия холеры: о ней принялись писать и говорить все. «А что, Шаховская, такая ходишь нерадостная? – ядовито спрашивал Шпербер. – Ты глянь, какие люди поднимают на щит твои заветные думы! Титаны! Флагманы метафизики! Клейма негде поставить. Но, возможно, это будет не клеймо, а знак качества?» Шаховская хмуро отмалчивалась, но её передовицы потускнели, и тогда же пришёл к закономерному концу lune de miel с Константином Николаевичем.
Разумеется, она не жаловалась. Но её ответы, стоило завести речь о Леонтьеве, стали сбивчивыми и немногословными. Шаховская приходила в бешенство, когда её золотая монета разменивалась на медь и чуть ли не на куньи мордки, Леонтьев же это только приветствовал. («Девиз пропаганды: часто, долго, однообразно; повторяйте одно и то же, постоянно, разными голосами, громкими и негромкими».) Кто поведёт пропаганду, занимало его в последнюю очередь, и мысль о том, что чистое дело требует чистых рук, никак не смущала. Помнится, об Ольге Алексеевне Новиковой он говорил: хитрющая эта женщина! – и с большим одобрением говорил, и – сам бесхитростный и прямой до юродства – почему-то к таким людям, хитрющим, иезуитам, деятельным обманщикам, питал слабость. Это его свойство выводило из себя Ивана Аксакова.
У нас с Васей была своя беда: Ольга Павловна решила, что мы её подсиживаем. Раз за разом Фомин обращался к нам через её голову, и с каждым разом она становилась всё придирчивее, всё злее. А ведь я и забыл, каково быть во власти ревнивого ничтожества – да как охватит его страх за место, выслугу и барашка в бумажке. В девятнадцать лет, новоиспечённым, после Училища, титулярным советником, я вернулся в Москву. Известно, чем были московские департаменты Сената в те годы, при таком министре юстиции, как граф Панин, который на всё подчинённое ему смотрел как на своё поместье, и при всеобщей ненависти замшелых крючкотворов к нам, молодым правоведам. Жаловались, что ради ленивых и избалованных ребят (ленивые и гордые школьники, которые не умели порядочно составить доклад, но мастерски пели водевильные куплеты) выгнали, чтобы освободить место, старых и опытных чиновников – а эти старые и опытные до костей разъедены были… страшная это вещь, приказная ржа! Мы, во всяком случае, имели идеалы и желание служить закону и государству. А что до ученья, не у одних нас оно было лыком шито. Моё счастье, что в первые московские годы я имел дело более с бумагами, нежели с людьми, да и в департамент попал к Зубкову.
Итак, Ольга Павловна.
«Она же меня со свету сживает, – говорит Вася, – натурально со свету. И я знал, что так и будет. Я сопротивлялся вашему, Константин Петрович, беспрецедентному давлению! Я дня спокойно не дышал с тех пор, как вы занялись политикой!»
«Вася, окстись. Какая политика?»
«Да та самая! Вот раскопают эти дрязги с Обуховым, кому что будем доказывать? На вывеске литература, а внутри политика и вредный умысел!»
«Потерпи. Фомин вот-вот получит назначение».
«Да, и в тот же день про меня забудет. – Он поискал в памяти нужное слово и счастливо нашёл. – Сильные мира сего, они типа что очень неблагодарные».
«Ну какой же из Евгения Петровича сильный мира сего? Посмотри, как он перед Шпербером стелется. А тот и сам на посылках».
Вася недоверчиво фыркнул.
«Небрат на посылках? Разве что у дьявола».
Но Фомин не попал в Смольный, и никто из нас не попал, и жизнь изменилась. В ближайший четверг в Петербурге сместили губернатора, а в Москве вышел Федеральный закон «О восстановлении российского дворянства».
Восстановлением это, разумеется, не было, да и сами авторы закона подразумевали, что восстанавливают не существовавшие когда-то дворянские роды, а идею. Офицеры от майора и выше, чиновники со стажем не менее десяти лет и некоторые другие проснулись поутру уже не просто офицерами и чиновниками, а сословием. Привилегии они и без того имели по умолчанию, теперь им со всей силой напомнили об обязанностях. В отставку без выслуги отправили чрезмерно замаранных, не по чину наглых, ужученных казнокрадов, открытых лихоимцев – всех, на кого жандармский корпус двадцать первого века годами по катышку собирал и копил грязь.
Чтобы потрафить народному чувству, эти избиения сделали публичными. Перекошенные от ужаса лица не оправдавших доверия показали во всех новостях, и это был не наигранный ужас, не отрепетированный. И за самими лицами полезли в сундук, помеченный «хари», так, чтобы «крючкотворство, подъячество, ябедничество и взяточничество» были написаны на них внятно и броско. Они даже отдалённо не напоминали спокойных, затаённо улыбающихся подсудимых из судебной хроники ещё прошлого месяца. Это заметил и Вася. «Врасплох погнали, – задумчиво сказал он. – Без каких-либо договорённостей. Не светят им договорённости, вот и нервничают. Не понимают за что».
Не всех это умиротворило.
Шаховская, мгновенно вспомнившая, что за фамилию носит, ходила белая от ярости. То есть Фома теперь дворянин, а я – нет, шипела она. Мне ему, может быть, ещё в ноги кланяться? Дорогу уступать?
Ага, душенька, подумал я словами лермонтовского Максим Максимыча. И в тебе взыграла разбойничья кровь.
Я ли не натерпелся от спеси древних и родовитых – и это была спесь, даже у тех, кто потерял всё, как Константин Леонтьев, родительский дом которого откупил леонтьевский же бывший крепостной, кто жил чуть ли не милостыней, кругом в долгах, – а всё же не мог не восхититься цепкостью этой памяти. Генерал Фадеев уверял, что в России никогда не существовало особой, племенной дворянской крови, которую считалось бы грехом смешивать с кровью поганца (отчего даже слово mesalliance пришлось в конце концов заимствовать), а была только часть народа, отобранная и образованная для государственной службы, – не видел генерал Фадеев лица Екатерины Шаховской, выслушивавшей замечания новоиспечённых дворянок-чиновниц, с их наглым торжеством, намеренно плохо замаскированным под сочувствие.
Очень обиделись депутаты всех уровней. В Государственной думе проголосовали, как велено, но после затаились. Трусы и в прямом смысле торгаши, не похожие ни на балаганный французский парламент, ни на толпу преисполненных злобы и зависти дикарей, которой оказалось памятное мне первое русское представительное собрание (депутаты-крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь, при попытках унять их, на свою неприкосновенность; а какие надежды возлагали на «волю народа»! как радовались, что крестьян в первую Думу выбрано много!) – итак, трусы и торгаши, прекрасно понимавшие, что и власть, и народ всегда рады их пнуть, как шелудивую собаку, и никто никогда не вступится, да и друг друга готовые перетопить в ложке воды, были согласны на всё – и на конституцию, и на революцию, лишь бы по-прежнему составлять правила и законы, – но оказались обмануты. И поделом.
Законотворческая деятельность! Кажется, мартышку посади, и будет она точно так же строгать законы, не вдумываясь ни зачем, ни с какими последствиями, лишь бы пыли и грохота было побольше да чем подкормиться.
Зачем строить новое учреждение, когда старое потому только бессильно, что люди не делают своего дела как следует? К чему перемены, к чему новые узаконения, когда ещё неизвестно, будет ли от них прок? Уже Государственный совет, в котором и я столько лет бесплодно прозаседал, был учреждением, которое надо на замок запереть, а ключ бросить в Неву. Полиция наша законов не знала никогда и всегда трусила, когда ими перед нею начинали размахивать, и начальники на местах брались за дело с убеждением, что все вопросы они могут разрешать «по здравому смыслу», – и ничего! жили не тужили; а что смеюсь этому я, сам законник, профессор гражданского права, участвовавший в подготовке судебной реформы – комиссии! комитеты! с каким тщанием обстругивали французский кодекс, подгоняя к родным осинам! – так потому и смеюсь, что знаю. Поднялось к небу блестящей ракетой и потом чёрной палкой упало на землю.
Дельцы и воеводы оппозиции громко предрекли смерть режима, а сердце в них плясало от радости. По их мнению, правительство наконец-то перешло черту, за которой его ждало народное возмущение, а не одни только страдальческие крики угнетённой общественности. Теперь-то народ очнётся и делегирует наконец власть в правильные руки! Эти затейники по-прежнему не понимали, что никакой власти, которую он может кому-либо делегировать, в народе нет и никогда не было, но есть желание или нежелание повиноваться. И вся сила власти – в силе и прочности народного послушания, которого мало было в 1905-м и совсем, полагаю, не осталось в 1917-м.
Мне было суждено умереть, не дождавшись конца светопреставления, но девятьсот пятый год я как-никак застал и в новом настоящем никаких параллелей с ним не видел. Нынешняя оппозиция не добилась от народа ничего сверх обычной кривой русской усмешки, с которой встречаются все распоряжения правительства.
Жизнь меж тем шла своим чередом, и волны мелких дел ежедневно накатывали на наш административный корабль. Вынесло такой волной и подзабытое OOO, поставщика районных маргариток.
У «Берега» поменялся не только генеральный директор (в связи с безвременной кончиной предыдущего), но и – довольно стремительно – владелец. Визитом он нас не почтил, но прислал своего представителя, масляного, быстроглазого человечка, вызвавшего в администрации редкостно единодушное отторжение. Человечек выглядел как проходимец, говорил как проходимец и проходимцем с высокой долей вероятности был.
Фомин побеседовал с ним и поскорее отправил к Ольге Павловне; Ольга Павловна побеседовала и отправила к нам. Вася мог отправить этого Мурина разве что к чёрту, да и то не вслух.
Товарищество «Берег» желало разбить сквер и оборудовать детскую площадку на месте пустыря и стихийной парковки. Услышав адрес, Вася обмер, но взял себя в руки и небрежно уточнил:
– Это что, где гаражи, на которые всё время жалуются?
– Гаражи? – ненатурально удивился Мурин. – Ах да, верно.
– И что вы с ними будете делать?
– То же, что и вы. Ничего. Это частная собственность. – Он улыбнулся так, словно тайком разглядывал скабрезную картинку. – Но вокруг-то можно благоустроить. Здесь боскет, здесь – вавилонская ива, она хорошо растёт. Посмотрите на план. Гаражей, собственно говоря, и видно не будет.
– А проезд?
– Вот он, проезд. Вполне достаточный. По всем нормативам.
Вася прищурился, припоминая, и хмыкнул.
– Я подготовлю документы, – покладисто сказал он. (А что ему оставалось? Он уже получил указания от всех, кто считал себя вправе их давать.) – Приходите в понедельник.
«Вавилонская, как же, – добавил он для меня. – Посадят обычную ракиту, а разницу себе в карман».
Мурин посмотрел так зло, как будто последнее замечание услышал.
– Вы не торо́питесь.
– Я юрист. Мы и не должны торопиться.
– Нам, юристам, известна также ценность консультаций. Почему бы не спросить… у вышестоящего?
Когда Вася (и Мурин за нами по пятам) зашёл в поисках Ольги Павловны в салон, там уже собрался конклав.
В администрации работало множество женщин, и многие из них – с достаточной для дворянства выслугой. (Женщины. Определённо не дамы и не бабы. Каждый раз, когда я пытался подобрать слово для этой новой породы, на ум не приходило ничего, кроме гарпий. Да, я всегда дружил и сердечно ладил с женщинами – что и высмеял негодяй Толстой в своём скандальном романе, – но кто это был? Екатерина Фёдоровна Тютчева, Эдита Раден, Ольга Новикова, графиня Блудова, великая княгиня Елена Павловна; эфирные или нет, идеальные или нет, но создания, отмеченные Божьим присутствием. И, добавлю, безукоризненно воспитанные.)
Возвращаюсь к Ольге Павловне и её товаркам. Сказать ли, что они заважничали? Это слово кажется простодушным, детским и абсолютно неприложимым к тому грязному, изначально порочному, что поднялось со дна их душ. Словно кто-то когда-то, властный учитель (отнюдь не они сами), наложил на них узду – и вот узда порвалась. Стало можно. То, что эти женщины (дамы! дворянки отныне!) явили, не было даже нравственным падением: никуда они не падали, не говоря уже о том, что в собственных глазах возносились. Показали себя во всей красе! Недавно младшая гарпия из отдела по управлению имуществом – лубяные глаза, жёлтые щёки – сочувственно и серьёзно сказала жаловавшейся на охтинских обывателей Ольге Павловне: «Что вы хотите, Ольга Павловна, это же такое быдло», – и никто не улыбнулся.
На этот раз они вонзили свои когти в Шаховскую.
Шаховская не была провербиальным ягнёнком и могла за себя постоять, но в иных обстоятельствах. Оружием Ольги Павловны были шпильки, намёки – сверху всё сироп и сахар, а внутри таракан. Ответить на это можно было такими же намёками (чего Шаховская не умела), откровенной грубостью (чего она не хотела) или простодушным, невинным непониманием, готовностью любое сказанное слово принять за чистую монету (и она старательно училась делать вид, что не понимает, тогда как прекрасно понимала, но в этой школе нужно провести годы, а то и состариться). Оставалось стоическое терпение, и это тоже было ошибкой.
– Я чувствую ответственность, – говорила Ольга Павловна с грустью. – В конце концов, именно для этого мы избраны. Заботиться. Ободрять. Направлять. И Указывать на ошибки, как бы болезненно для всех сторон это ни было. Никакого удовольствия мне это не приносит.
– Меня Направляет и Ободряет Фомин, – сказала Шаховская угрюмо. – Также он Укажет, если сочтёт нужным. Не думаю, что это причинит ему боль. Из-за дурацкой-то газетки? С чего бы? И кстати: удовольствие доставляют. – Она пожала плечами в ответ на непонимающий враждебный взгляд. – Радость приносят, удовольствие доставляют, а счастье – дают.
– Ах, ну если такой знаток русского языка говорит… – Ольга Павловна улыбнулась, осознав своё преимущество. – Жаль, что такого знатока обременили дурацкой газеткой, а он не считает нужным отнестись к делу серьёзно хотя бы потому, что существуют Долг и Обязанности. Разумеется, Катя, вам этого не понять. Эти вещи понятны только тем, кто Строит Смыслы, Укрепляет Государственность и на Своих Плечах Несёт ответственность за страну.
В глубоком анамнезе у Шаховской были поколения, которые только тем и занимались, что строили, укрепляли и несли на плечах. Она сама, коли на то пошло, не думая, по инстинкту брала на себя ответственность каждый раз, когда та сваливалась под ноги.
Белая, как бумага, Шаховская сделала шаг назад и изготовилась.
Внутренне посмеиваясь, я решил не вмешиваться. К моему изумлению, Вася рассудил по-иному.
– Ольга Павловна, – выпалил он, отвлекая внимание, – у меня вопрос по «Берегу».
«Вася!» – предостерегающе сказал я.
«Что “Вася”? Не могу я смотреть, как они её сейчас на лоскутки растащат».
– Васнецо-ов, – протяжно говорит Ольга Павловна, от которой не укрылся смысл манёвра.
«Ты решился быть рыцарем в крайне неудобное время», – говорю я.
«Для этого нет удобного времени, – говорит мне Вася. – Не зудите под руку, Константин Петрович, меня и без того трясёт».
Ну скачи, Бова-королевич, подумал я сам для себя. Покажи алакампань.
И Вася показал.
– Ольга Павловна, – проныл он, – помогите! Заблудился в трёх ракитах.
– В трёх соснах, Васнецов, – машинально поправила Ольга Павловна, и я не мог не одобрить Васину смекалку. Это был самый дешёвый способ взаимодействия с начальницей: показать себя слабым, глупым, неуверенным. Риск – если Ольга Павловна была в настроении терзать, никчёмность жертвы её не расхолаживала, – как правило, оправдывался.
Также это давало Шаховской возможность потихоньку исчезнуть. Но Шаховская стояла как вкопанная.
Вася попытался послать ей Взгляд.
Он не мог ни рукою махнуть, ни подмигнуть, ни даже в упор уставиться – это на него сейчас гарпия смотрела в упор, – но что мог, он сделал. Это ни к чему не привело.
«Константин Петрович, посылайте флюиды».
«Что, прости?»
«Подпихните её, я не знаю, силою мысли».
«Я тебя не могу подпихнуть силою мысли, а ты вон чего хочешь. Пусть Константин Николаевич подпихивает. – С упавшим сердцем я осознал, что не в правилах Константина Николаевича ретироваться без боя. – Не останавливайся, скажи, что не успеваешь до понедельника».
Свою лепту неожиданно внёс и Мурин, увидевший в Васиных словах нехороший намёк.
– Это были вавилонские ивы, – мрачно и отчётливо сказал он из-за Васиной спины.
– Ольга Павловна, я не успеваю раньше понедельника, – сказал Вася.
– Какие ивы? Какой понедельник?!
– Вавилонские, – сказал Мурин.
– Ближайший, – сказал Вася.
Шаховская засмеялась.
Это был свободный, необдуманный смех, и прозвучал он издевательски. Ольга Павловна забыла про Васю. Ольга Павловна забыла про вавилонские ивы. Она развернулась.
– Смеёмся, Шаховская? – спросила она зловеще. – Её милости смешно-о? – Почти сразу же, не дожидаясь ответа (которого вопрос и не предполагал), она перестала замечать преступницу и обращалась теперь к широкой аудитории. – Они всегда смеются! Они Иронизируют! Что бы ни произошло в стране действительно важного, можете быть уверены: на их лицах появится Кривая Ухмылка. – Её маленький ярко накрашенный рот старушечьи сморщился, и я ошибочно подумал, что Ольга Павловна изображает или передразнивает Кривую Ухмылку. – Так что меня это нисколько не удивляет. – Одни слова она выделяла голосом целиком, в других словно раскрашивала в яркий цвет прописную букву. – Это… это просто очередная Марианская Впадина Безнравственности. Наши либеральки не считают нужным хоть как-то себя сдерживать.
– Не надо так со мною, – сказала Шаховская в пространство.
Консервативная революция, которой она так верно и несчастливо служила, породила собственных чудовищ и собственную демагогию.
Шаховская презирала не только наличную либеральную оппозицию, но и демократию как таковую, но она никогда не пользовалась словами «либерасты», «белогондонники» и им подобными. Прежде всего это были вульгарные слова, и вульгарности она не выносила. Задыхаясь среди людей, которые понимали только собственные шутки, и те – весьма незамысловатые, она должна была невольно спрашивать себя, чем же это лучше опостылевшей обществу манеры говорить с нарочитой снисходительностью и подковырками, иронично (да, сюда без ошибки ткнул бестактный палец). Я мог живо представить, как Шаховская и Константин Николаевич говорят друг другу: эти люди полезны, они делают с нами одно дело, – но затем доходило до такой вот Ольги Павловны, каждая минута в обществе которой превращалась в скверный анекдот.
– С ними так не надо, – подтвердила Ольга Павловна, кивая зачарованным слушателям. – Они могут как захотят, и с ними носятся, и всё Спускают с Рук, и потом показывают Стратегическим Партнёрам. И хотя я не ставлю под сомнение мотивы нашего Руководства, нелегко понять, почему, если задаться такой целью, нельзя было выбрать что-нибудь поприличнее!
Мурин, о котором к этому времени позабыли, подал голос.
– Они везде такие, – сообщил он. – Политические активисты, пидоры и веганы. Мировой тренд. Руководству приходится учитывать.
Ольга Павловна повернулась на голос и увидела Васю.
– Васнецо-ов!
– Да он сам потребовал у руководства спросить.
– У Руководства?!
– Ну, не у того Руководства. У моего. У вас, Ольга Павловна.
– Я не требую! – Вновь Мурин. – Но я вправе рассчитывать!
Это не было даже фарсом, а если и было, меня такие вещи не веселят. Что толку смеяться над злыми и недалёкими и какая в том доблесть? Много ли добра сделал Гоголь своим «Ревизором»? Городничие в зале глядели на сцену и видели клоуна, к которому была пришпилена бумажка Городничий, и, пока публика смеялась над клоуном, пытались понять, что их оскорбляет больше: сама эта бумажка, клоун или нескрываемая уверенность автора, что бумажки будет достаточно, чтобы вызвать смех.
И надо отдать Шаховской должное: изливая Васе душу на чёрной лестнице (у неё было какое-то детское пристрастие к чёрным лестницам и секретным разговорам на них), она не стала высмеивать Ольгу Павловну или перечислять её недостатки. Она просто сказала:
– Я их ненавижу. Я здесь не могу. Константин Николаевич говорит, что это Испытание, – не отойдя ещё от испарений Ольги Павловны, она перешла на прописные буквы, – но сам-то он не стал бы терпеть. Да! Да! Вы за моей спиной терпите! Это не вас унижают! Я не жалуюсь, – хмуро добавила она для Васи, – но в этом нет никакого смысла. Газету как не читали, так и не читают.
– А что ты будешь делать без газеты?
– Буду практиковать олимпийское равнодушие!
За этим последовала вспышка такой ярости, что Вася подскочил.
– Тебе надо было в университете оставаться, – осторожно сказал он. – Уже аспирантуру бы закончила. Преподавала бы где-нибудь. Римское право.
– У меня никогда не было веры в чудодейственность римского права.
– …Тогда в прокуратуру.
«Пожалуйста, Иванушка, послушай меня, просись к нам в город в прокуроры».
Вася молча потряс головой.
– Что? – спросила Шаховская.
– Да Константин Петрович голос подаёт. Считает, что прокуратура – это очень смешно.
– Вот они, правоведы, законники, – обвиняюще сказала Шаховская. – Над чем смеются? Над законами? Над собственным мундиром?
– Но мы тоже.
– Мы тоже что?
– Правоведы, законники. Или юрфак не считается? Твой Леонтьев где учился?
– На медицинском. Между прочим, на Крымской войне был. Райская птица притворилась только на время «младшим ординатором, и больше ничего»… Уже потом пошёл на дипломатическую службу.
– Врачом? В посольстве?
– Зачем врачом? Консулом.
– А так можно было?
Шаховская посовещалась со своим даймоном и мрачно сказала:
– И так, и ещё и не так. Они жили куда свободнее. Не надо было совать паспорт под каждый любопытный нос. Идентифицировать себя на каждом углу. Получать визы. Объяснять, откуда у тебя деньги. Постоянно доказывать, что ты не особо опасный и разыскиваемый преступник. В МГИМО не надо было учиться, чтобы в МИД попасть! В телефон к тебе не лезли все желающие!
– Так не было, наверное, таких телефонов…
– Допустим. Ну, это только подтверждает, что технический прогресс рука об руку идёт с развитием полицейского государства. В тринадцатом веке ты без всякой визы шёл или ехал куда хотел, и, если не убивали по дороге, всё было нормально. Какой огромный был мир! Как легко в нём было затеряться!
– И за что нам это? – Вася сел на ступеньки и опустил голову на руки. – Тебя ладно, не жаль, ты пассионарная. А я разве когда-нибудь хотел таких приключений? Я так мало хотел, почему именно меня нужно было прийти и ограбить? Одарили не спрашивая! Кто другой почку бы отдал ради вот этого… историк, я не знаю… сиди да записывай под диктовку…
«Зря ты думаешь, что я стал бы диктовать историку».
– Не историк, так писатель. Вот, например, Обухов. В Обухова кто вселился?
«Никто. В Обухове нет пустого места».
– Ну вы даёте, Константин Петрович!
– Что он сказал?
– Лучше тебе не знать, что он сказал. …Как по-твоему, это явление в мировом масштабе?
– То есть не сидит ли в голове у какого-нибудь английского задрота Пальмерстон?
– Откуда ты только такие ужасные слова знаешь.
«Hat der Teufel einen Sohn, so ist er sicher Palmerston».
«Константин Петрович!!!»
– Так что, сидит?
– Вась, я не знаю. На родине это в любом случае никак не скажется.
– Почему?
– А мы с тобой мощно влияем на политику государства? Вот поэтому.
«Всё впереди».
– Константин Петрович смотрит в будущее.
– И что он там видит?
«Документы, которые нужно подготовить для Мурина».
– Мою смерть от переутомления.
– Плохо он ещё тебя знает.
– Я, между прочим, не навязывался, – с достоинством сказал Вася. – И скажу тебе и всем остальным: был бы очень рад, если бы и мне никого не навязали.
– …Говори что хочешь, а нам повезло. В конце концов, это мог быть Чернышевский. Или Желябов. Как бы тебе понравился, Васнецов, Желябов в твоей голове?
– Я не уверен, – начал Вася.
«Это террорист, убийца Александра Второго. Его повесили».
– А! Нет, никак бы не понравился.
– Савинков – ещё куда ни шло, – задумчиво продолжала Шаховская. – В Савинкове есть что-то неотразимое. Авантюрист, садист и нарцисс с железной волей… Красивый, Константин Николаевич, красивый… На нашего Шпербера похож, если верить фотографиям.
«Это единственное, что Константина Николаевича интересует? Вася, он же её растлит окончательно!»
«Грустная правда, Константин Петрович, заключается в том, что она этого хочет».
– Шепчетесь? Шепчутся! Васнецов, ты б себя видел, когда вы вот так шушукаетесь, как две кумушки под забором.
– На завалинке!
– Разница невелика.
Шаховская могла смеяться, но её собственное лицо отражало бурную смену чувств и мыслей. Думала она быстро, чувствовала остро, и каждая удачная шутка во внутреннем диалоге вспыхивала на этом подвижном, искреннем лице прерывистым светом, как те зарницы, которыми вели беседу тютчевские глухонемые демоны.
И я впервые подумал, что происходящее может оказаться для этих молодых людей непосильным.
Меня преследует образ склонившегося над бильярдом человека. Его голова и руки в круге света, в полутьме за спиною стоят или проходят другие игроки и те, кто наблюдает за игрой: они как тени. Кто этот человек? Я его не знаю, не знаю даже, враг ли он мне. Какая-то связь существует меж нами, и меня беспокоит, что я не могу её определить.
Хорошо человеку на маленьком деле в медвежьем углу! Многого он не видит, а потому не пугается. В спокойном сознании исполненного долга, в узком кругу людей и обязанностей, не зная, что роковые события грядущего уже бросили свою тень на его мирные дни, – и слава богу! Как смог бы он жить и действовать, стань его горизонт шире, понимание глубже, узри он воочию, какая неразбериха царит среди сильных и вящих, сколько наверху легкомыслия и мелочного эгоизма, какие грозовые тучи собираются над страной.
Положа руку на совесть, сейчас я в положении именно такого маленького человека, но поскольку сам я не маленький человек, мне не хватает привычной картины. Не будучи, что бы там ни говорили, капитаном, я всё же стоял на капитанском мостике и, жмурясь порою от ужаса, видел широко и ясно.
И где я стоял теперь? И что мог оттуда увидеть?
Легко описать прошлое и, уже зная, к чему приведут те или иные тихие, незначительные события, всесторонне их рассмотреть и обдумать, утяжелив размышлением и, как знать, искажая. Но то, чему ещё только предстоит свершиться, пребывает равно непознаваемым и неискажённым. Оно похоже на то совершенство, которое внятно творческому уму, только пока остаётся невоплощённым. Или же здесь уместно сравнение с ветром: он тронул, пролетел, исчез; его невозможно схватить, на него невозможно посмотреть, мы лишь видим, как он гнёт траву и деревья, чувствуем его на своём лице – это немало, но это всё.
В огромной дали от меня, от Васи, загадочные люди привели в движение цепь событий, пытаясь заложить наконец прочный фундамент новой государственности. Ужас их положения заключался в том, что они сами не могли поверить в его прочность и думали, что строят на болоте, на вечной мерзлоте, которая ведь может и оттаять. Это были самонадеянные, доведённые до отчаяния люди, они вычитали в книгах, что было-де такое сословие, чуть ли не в петровской пробирке созданное для управления и службы, с его широкой просторной жизнью и, когда надо, дисциплиной и стойкостью… всё книги! книги! Русский министр, говорил Катков о Бунге, которого презирал, должен изучать русскую жизнь, а не иностранные книжки… и сколько ни пытались придумать и взрастить что-то получше, всё выходило вздор либо ненадолго.
Зуд делания, потребность если не реформ, то улучшений, комиссии цугом, одна за другой, и один хочет вписать себя в историю, другому совестно бездельно есть казённый хлеб, а то немногое, что живо, уже дышит у семи заботливых нянек на ладан, как если бы дерево непрестанно теребили, вопрошая: что не растёшь? чего тебе надобно? целый обоз то с лейкой, то с пилами – вот эти сучья не мешают? и крону фигурно остричь; «только покоя и немного солнца», из века в век отвечает дерево, да кто его слышит.
При Александре Третьем не столько делали, сколько переделывали потихоньку доставшееся от папеньки, и не из худших вышла эпоха.
Князь Николай Орлов (сын Алексея Орлова, героя двенадцатого года и второго, после Бенкендорфа, шефа жандармов; внук Фёдора Орлова, Душки Орлова, державинского орла из стаи той высокой; героя Архипелага Пушкина), выросший с Александром Вторым Николай Орлов говорил Феоктистову: Николая Павловича все трепетали, но с ним можно было говорить откровенно – рассердится, прогонит, но никогда не поставит в вину. Совсем другое дело теперешний государь: ведь мы были почти воспитаны вместе, но у меня положительно слова умирают на языке, когда он уставит на меня тусклый, безжизненный взгляд, как будто и не слышит, о чём я говорю. И не один Орлов такой был: Александра Николаевича мало кто любил, и те, кто тосковал по предыдущему царствованию, делили это чувство оторопелого отчуждения с теми, кто тянулся к наследнику, будущему Александру Третьему.
У Александра Третьего никогда не было лоска его отца, знаний его отца, возможно, и ума также, нашлось же главное, чего Александр Второй был лишён: твёрдость характера, та неуступчивая сила, которая приободряла и всех вокруг.
Он был крепок; он умел держать и сдерживать; он сказал: «Я принимаю венец с решимостью», и это не было пустыми словами.
И в какую минуту он начал царствовать! Я говорю не о пролитой крови и ужасе, охватившем Россию. Роковое двадцатипятилетие измочалило всех наших людей и превратило их в евнухов или идиотов; Россия объелась реформами, худо переваренными, и Россия перестала стыдиться воровства; всё то алчное, хищническое, что полезло наверх, и на самом верху было встречено с самым горячим приветом. И какая шваль притеснилась к трону в последние годы, под патронажем княгини Юрьевской, девки во всём, от ненасытимой жадности до вульгарных жестов. Люди не просто близкие царю, но сросшиеся с ним за десятилетия – Адлерберг, которого Юрьевская считала своим злейшим врагом, Дмитрий Милютин, германский посол Вердер – хотели отшатнуться, оставить свои места; и никто не знал, чего ждать. Продлись это положение ещё несколько лет, что сталось бы со страной и с династией? Каково было Александру Александровичу получить такое соболезнование: «Отец твой не мученик и не святой, потому что пострадал не за Церковь, не за крест, не за христианскую веру, не за православие, а за то единственно, что распустил народ, и этот распущенный народ убил его».
Жаловались, что Николай Павлович оставил по себе пепелище. Нет, мои дорогие, Николай Павлович оставил ледник, и когда люди оттаяли – а там было, кому и чему оттаивать! – жизнь ненадолго, но расцвела. Но какое наследство получил Александр Третий: выжженные души, люди разуверившиеся либо цинично безразличные, и всё пропитано атмосферой, в которой убеждение вызывает смех вместо ненависти или страха, в бескорыстие не хотят верить и прямодушия нет даже в нигилистах.
И начал он править.
«Мужик на троне», наружность, к которой так и просятся полушубок, поддёвка и лапти – вкусы и замашки настоящей деревенщины! – старинный русский богатырь, Илья Муромец с картины Васнецова; честный, добрый, храбрый медведь, которому трудно воевать с лисицами девятнадцатого столетия; глубоко честный, инстинктивный враг всякой лжи, с врождённым отвращением к лести; честен, прост, но бдителен. «Уж я не дам Россию в обиду!» Первый из Романовых любил русский народ, любил Москву – которую его отец не терпел, хотя там родился. Любил мадеру, Чайковского и вальсы Штрауса, церковное пение, цыган, если они хороши, Льва Толстого до его поступления в философы – и небольших спокойных лошадок. («Так неэффектно», – скорбел граф Ламздорф.)
Наследником провёл восемь месяцев в действующей армии – и возненавидел войны. Был среди тех, кто опасался взятия Константинополя – и после сожалел; смог увидеть, что по сравнению с Константинополем всё, что происходит на Балканах, для нас второстепенно; увидел, каковы на деле болгары, и до смерти не простил. «Ни капли крови, ни рубля для болгар». «Довольно популярничать в ущерб истинным интересам России».
Наследником же тяготился выполнять публичные обязанности, не выносил всё показное, бравурное, с фейерверками – и очень многое, к нетерпеливому неудовольствию родителей, делал по-своему. Родители его не любили. При дворе его не любили. Великие князья, братья отца, считали его неразвитым и упрямым; со стороны Константина Николаевича это была давняя, ледяная злоба. (Он в ответ дядю Коко ненавидел, а дядю Низи – презирал. И после, императором, в ежовых рукавицах держал всю фамилию.) Письма его, отправленные по почте, прочитывались на дороге, корреспонденты попадали в немилость. Резкий отзыв о Петре Шувалове прямо показали самому Шувалову.
Много сетовали на его грубость, граф Ламздорф даже возлагал на него вину за поколение молодых хамов, для которых элегантность состояла в том, чтобы «быть плохо воспитанным», но что это была за грубость? Послал Гирсу свой портрет с объяснением «вот, прилагаю свою рожу, может, сгодится на что-нибудь». В служебной переписке назвал шведского короля фигляром, а Вильгельма Второго – шалым дураком. (Злодей Бисмарк как-то показал своему мальчишке-кайзеру перехваченное письмо царя с подобными отзывами.) Но в отличие от деда, отца и сына никогда и никому, кроме членов семьи, не говорил «ты» и не терпел фамильярности.
Не сказать, что вспыльчивый, как порох, но способный впасть в ярость, приводившую на память его прадеда, Павла Первого, – разве что Александр, в отличие от Павла, всегда был способен себя обуздать. Но те министры, которым случилось увидеть его, побелевшего от гнева, мечущимся по комнате, с трясущейся от бешенства нижней челюстью, как будто готового разорвать провинившегося на куски, забывали такое не сразу.
И этот же человек, бушевавший в своём кабинете, костеривший монархов, их первых министров и дипломатов, при личном свидании конфузился и проявлял редкую деликатность. Как Катков истощал его терпение! Какими грозными пометами покрывал царь поля докладов! (Ах, эти многим столь памятные твёрдые пометы красным карандашом, со множеством восклицательных знаков.) И не мог собраться с духом, чтобы распечь наконец в глаза, а в тот раз, когда всё же решился, хитрый Катков обвёл его вокруг пальца и вместо позорного, поджав хвост, бегства уехал к себе в Москву едва ли не победителем.
«Великий грех Александра Третьего, что он умер!» В сорок девять лет, после тринадцати лет царствования, на пороге новой эпохи – которая при его сыне так и не началась. В европейских столицах скорбели больше, чем в Петербурге. Британский посол сказал: «Какова судьба! Взойти на престол страшилищем в глазах Европы и исчезнуть, завоевав симпатию и всеобщее уважение».
Есть скандальная репутация, которая способствует успеху; имя нового губернатора было связано с неправильным скандалом. Что это было в точности – он украл, у него украли? – каждый трактовал по-своему, и во всех версиях Правдолюбов выглядел непристойно и смешно. (Правдолюбов! Фамилия знаменитого взяточника, легенды канцелярий, была Праведников, и он брал так, словно в церкви прислуживал. С совестью чистой, как у ещё не покинувшего колыбель дитяти. Какой лжи ждать от Правдолюбова, я не знал, но подозревал, что многой.)
И главное его преступление, разумеется: он был не местный. Такого в Петербурге двадцать первого века не прощали. Здесь ненавидели и высмеивали (было, увы, за что) пришлого митрополита и косо смотрели на любого – во власти, искусстве и промышленности, – кто не мог предъявить бабушку-блокадницу или хотя бы голубую/розовую медальку с Медным всадником в собственном свидетельстве о рождении.
Правдолюбов явился со своей ордой, и Фомин, чьи надежды на перевод в Смольный были похоронены дважды, стал подыскивать новое место службы. Таковым, спасибо Аркадию Ивановичу Шперберу, оказалась Комиссия по соглашению.
Новое, с иголочки учреждение задумывалось как суд Соломона, призванный прояснять и устранять возникавшие в ходе реформы недоразумения. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, что очень быстро оно станет средоточием склок, тяжб и скандалов, радостно раздуваемых печатью, но Евгений Петрович был счастлив и горд руководить чем-то новым, чем-то в моде, чувствуя, что и сам он – новый, модный, в своём праве. Он в упор не видел затруднений, которые уже стояли под дверью, и я начинал ему соболезновать.
Далее. Не так много нашлось у Евгения Петровича своих людей, во всяком случае, таких, на кого он мог безбоязненно опереться. Он предпочёл взять с собою на новое место молодёжь, и так мы с Васей, Вражкин и даже Екатерина Шаховская, бывший редактор, очутились в тихом, узком переулке недалеко от Преображенского собора. Васин кабинет (опять конура, но на собаку покрупнее) был последний в ряду, но из окошка Евгения Петровича, высунувшись, можно было разглядеть знаменитую церковную ограду, тусклые отсветы августовского солнца на стволах трофейных турецких пушек, наложенные на них цепи.
После весёлой суматохи новоселья (толчея, телевизионные сюжеты, дающий интервью Фомин) на Комиссию навалилась работа, которой, как-то неожиданно для всех, оказалось очень много. Шаховской достались жалобы граждан на дворян, Вражкину – дворян друг на друга. Вася получил в заведование стол, куда бывшие чиновники обращались с жалобой на незаконное исключение из службы.
Нужна была очень большая наглость, чтобы презреть негласное и всем известное распоряжение избегать кассации, и да, наглые люди пришли к нам со своими скорбями. Они заручились поддержкой. Они кому-то заплатили. Они говорили и смотрели, словно этот визит – пустая формальность, и до них очень медленно доходила мысль, что замолвить о них никто и слова не замолвил, а если бы и замолвил, то в глухие уши.
Комиссия по соглашению была задумана и поставлена так, чтобы ни от кого, кроме собственных кураторов, не зависеть, и Фомин – заносчивый, рьяный, достаточно молодой, чтобы не врасти в старую систему непоправимо, – подчёркивал эту независимость на каждом шагу: скорее умрёт, чем в первые же дни себя скомпрометирует.
Стоит ли говорить, что основную жатву посулов и угроз пожинал Вася? Это на него кричали, топали ногами и обещали лишить способности к деторождению. Это ему пришлось таиться под столом секретарши Фомина, пока та, хрупкая дама с выправкой прусского фельдфебеля, взглядом и зонтиком преграждала путь ошалелому носорогу в полковничьем мундире, только что узнавшему, что его миллионную взятку прикарманил, ничего не сделав, лукавый посредник. (Это сцена из водевиля, но никому не было смешно.) «Акт мести и вандализма, – сказал потом Шпербер. – Случается, когда людей из прошлого не берут в будущее. Люди из прошлого, они такие».
Но человек, объявившийся одним дождливым утром, возник из совсем недавнего прошлого – и сам того не знал.
Теперь, когда он был почти трезвый и его глаза, не налитые кровью, смотрели осмысленно и даже что-то видели, мы смогли хорошенько его разглядеть.
Он был очень крупный. Одежда размером ещё больше, чем он сам, обвисала на нём древнеримскими складками. (Как и, главное, зачем подобный голиаф втискивает себя в резвые элегантные машинки?) Он открыл дверь, не постучав, кивнул, не здороваясь и не спрашивая сел, удобно устроив ноги.
«Вася, молчи», – сказал я.
Не так быстро, как мне бы хотелось, Вася всё же учился. Он промолчал, откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и холодно уставился на вошедшего.
«Молодец. Не надо ему подыгрывать. Сиди жди».
«И долго ждать, Константин Петрович?»
«Недолго. У этого человека, даже трезвого, терпения нет. Ты что, не узнаёшь?»
Вася моргнул и сдавленно втянул воздух сквозь стиснутые зубы.
«Точно. Этот, из “ягуара”. Которого Обухов приземлил. Я зову охрану».
«Погоди».
Я оказался прав: если у нашего посетителя и были какие добродетели, терпение в их число не входило.
– Я Беркутов, – гавкнул он раздражённо.
– Да?
– Беркутов, – повторил Беркутов, наливаясь краской. – Вам звонили. Где подписать?
«Константин Петрович, он ведь сейчас с кулаками…»
«Нет, не прямо сейчас. Спроси у него, что именно он пришёл подписывать?»
«Может, лучше спросить, кто звонил?»
«Это не существенно. Мы на звонки не отвечаем».
– Парень, ты немой или тупой?
– Я не понимаю, кто вы и чего добиваетесь, – сказал Вася. Если Беркутов гавкал, то Вася мяучил. Всё же я с гордостью подумал, что для трусоватого парнишки он держится молодцом.
– Ща узнаешь.
Беркутов встал. Вася встал. Дверь вновь – и вновь без стука – распахнулась. На пороге стоял Шпербер.
– Петухов, какая встреча, – сказал он лениво. – Что это мы здесь делаем? Пороги обиваем? Не надоело?
Меня не удивило, что такой человек, как Беркутов, некогда переменил природную фамилию. (И почему он предпочёл остаться в царстве пернатых, тоже легко объяснить.) Не удивило, что Шпербер об этом знает: именно такие постыдные, но не преступные тайны он собирал, забавляясь. (И преступные собирал, но как инструмент, а не коллекцию; набор отмычек для воровской работы.)
Удивительна была реакция Беркутова.
Поначалу – в его взгляде было столько ненависти, стремительно у неё отросли руки, они готовы были вцепиться, скрючить пальцы на горле – поначалу мне показалось, что он бросится, как тогда на набережной Невы, перед Летним садом, бросился сперва на людей в пострадавшем по его вине джипе, потом – на тех, кто пытался его остановить. (И Васе так показалось, и он, с телефоном в руке, отступил как можно дальше под прикрытие шкафа.)
Но он не бросился. Он как-то мгновенно и осязаемо капитулировал – и не перед Шпербером, а перед силой, которую Шпербер мог вызвать и, сам рискуя, вызвал: щёлкнул колдун пальцами, произнёс верное слово, и вот на месте буйна молодца стоит и осовело моргает мокрый петух. Он даже не сказал ничего; махнул рукою, сгорбился и вышел.
– Ещё вернётся, – пообещал Аркадий Иванович. – Не человек, моральный таджик. Вылезай, мой Василий.
Вася опасливо вернулся за стол.
– Он вообще кто?
– Кто-кто, будто сам не видишь. Бывший. Не всё ли равно теперь откуда? – Шпербер открыл шкаф и принялся рыться в папках. – Из прокуратуры. Из КУГИ. Где у тебя Смольный? Вижу. Негусто. С охраной поговори, чтобы больше не пускали.
Он говорил рассеянно, но я видел, что Шперберу прекрасно известно и кто такой Беркутов, и откуда. И ведь ни за что не скажет! Хотя знает, что Вася за десять минут мог бы найти ответ в своих документах.
Также он знал, что лень перевесит любопытство.
– Аркадий Иванович, – буркнул Вася, глядя, как Аркадий Иванович что-то переснимает на телефон, – вы хотя бы спрашивали.
– А ты мне запретишь?
– …Для соблюдения приличий.
– Василий, меня пугают изменения в твоём словарном запасе. Они повлекут за собой изменения в сознании, а затем и в поведении, и куда тебя после этого девать? Тебе сколько до дворянства?
– Шесть лет.
– Ну? Соображаешь, сколько за шесть лет возможностей сложить голову? Ты всего-то мелкий винтик, а заговорил как тайный советник.
«Действительный тайный, – сказал я Васе со смешком. – Не бойся, он дразнится».
Шпербер говорил о переменах с теми же прибаутками, что и обо всём остальном, но что он думал на самом деле? У него не было явного повода для недовольства, но за непроницаемым фасадом – ах, какие стены они возводят, чувство юмора и мягкий голос! – таилась, как знать – и я хотел бы знать, – беспокойная душа, недовольная от рождения. Тёмное обаяние то ли мечтателя, то ли игрока.
И тогда я вспомнил Абазу.
На ненависть Тертия Филиппова я отвечал презрением, на ненависть Мити Набокова – жалостью; настоящим моим врагом, единственным, на чью ненависть я платил ответной ненавистью, был Абаза, шурин Николая Милютина.
Александр Аггеевич был на шесть лет меня старше и, когда мы столкнулись, неизмеримо влиятельнее. Он начинал свою карьеру с откупов, и это осталось в нём навсегда: и когда он стал государственным контролёром, и когда он стал министром финансов. Откупщик, великий маг и волшебник по части железнодорожных сделок, сахарозаводчик, вместе с другими сахарозаводчиками постоянно надувавший правительство; громадные ссуды получал он из казны и никогда ни рыцарем бескорыстия, ни патриотом не был.
Продвигал его сперва Валуев, затем – Шувалов, затем он прибился к Лорису и так неизменно оказывался протеже и другом каждого, кто набирал силу, – и каждый из этих временщиков находил, что Абаза полезен и толков, отличный debater; умный, ловкий, с редким, из ряда вон, здравым смыслом. Когда лиса-Абаза тихонько занял место дорогого друга Грейга, не промелькнуло даже тени скандала, и сам Грейг молча проглотил обиду.
Но прежде всего он был игрок, ещё и такой, кто до самозабвения поверил в свою счастливую звезду. Это видели все, от Валуева до Витте, и одних это влекло, а других пугало и отталкивало. Неотразимые и опасные чары Абазы! В молодости очень красивый, в зрелые годы степенный и гордый, галантный кавалер, с памятью недолгого своего лейб-гусарства, с отличным французским и русским не хуже, он обольщал своим умом, блеском, остроумием, всеми личными прелестями – и, как правило, таких людей, которые сами были очень умны.
Не удивительно, что новый царь этим чарам не поддался.
В страшные дни марта – апреля 1881 года Абаза, Лорис-Меликов и Дмитрий Милютин продолжали верить, что ещё смогут вырвать конституцию. Абаза смотрел на Александра Третьего как укротитель на зверя, улыбающийся, бархатный, – и давил, давил, подталкивал – в каждом совещании министров и, уж наверное, на личных докладах; всё, что я говорил в марте, прошло мимо него дуновением ветра.
21 апреля он сказал: теперь Победоносцев уничтожен, истёрт в порошок; а 28-го Набоков читал мой проект манифеста. Выйдя из себя, Абаза закричал: «Надо остановить, надо требовать, чтобы государь взял назад это нарушение контракта, в который он вошёл с нами». Контракт! весь человек в одном слове. И он действительно был способен увидеть в миропомазаннике такого же дельца, как он сам, оскорбляться и вступать с ним в прения, потрясая воображаемыми какими-то кондициями, со времён заговора верховников заключавшими в себе одно: нам власти! нам!
И наконец, с азартом так, спрашивает: «Кто писал этот манифест?»
Я выступил и сказал: я.
Немая сцена из «Ревизора»! В первую минуту я думал, что он набросится на меня с кулаками. Но Абаза удержался: только побагровел и вылетел, как ошпаренный, прочь; и почти никто – министры! государственные мужи! – не подал мне руки.
Абаза сорвался с каната, который ему казался железным брусом. На ближайшем же докладе он подал прошение об отставке, которое и было принято. На увольнение Абазы согласен, но удивляюсь, что он выбирает для своей отставки именно то время, когда я объявляю о своём самодержавии
