Пролив Измены. Часть вторая. Большая волна
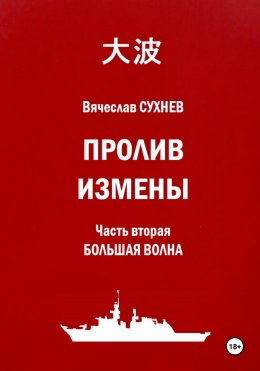
Глава третья
Ставки повышаются
Союз врагов
В январе 1906 года в Санкт-Петербург прибыл новый японский посол Мотоно Итиро. Он хорошо знал Россию, поскольку в 1896 году уже работал в русской столице в японском посольстве. Человек весьма практического склада ума, Мотоно хорошо понимал, что ничто не вечно под луной и что вчерашние противники вполне могут быть союзниками. И наоборот. Японский посланник много сделал, чтобы снизить уровень враждебности и неприязни в отношениях вчерашних врагов.
17 июля 1907 года Россия и Япония подписали Общеполитическую конвенцию, Соглашение Извольский-Мотоно, где подтверждено территориальное размежевание по Портсмутскому мирному договору. Зачем нужно было менее чем через два года после мирной конференции вновь, «бегом», возвращаться к договору? Что за этот короткий срок изменилось?
Как ни странно, резко изменилось отношение к России в Европе, а это отразилось на её положении в Азии. Мы уже говорили, что Британия и Франция, ссужавшие японцев деньгами, теперь нуждались в России как инструменте противодействия Германии. Элиты Европы понимали, что столкновение с Германией в ближайшее время неизбежно, а российские ресурсы могут помочь в большой войне. Так оно, кстати, и произошло. Но активно действовать на политическом и военном фронте в Европе Россия могла, лишь обеспечив прочный тыл на Дальнем Востоке. Англия и Франция, понимая российские обеспокоенности, начали выкручивать руки Японии. Франция, например, отказала ей в предоставлении нового займа. Для начала, мол, подпишите русско-японское соглашение, подтверждающее территориальное размежевание!
Япония испытывала в эти годы тяжелейшее финансовое положение, вызванное, в первую очередь, «победоносной» русско-японской войной. Но Японию не пришлось долго уговаривать не только в силу этих обстоятельств. Ещё с визита «чёрных кораблей» коммодора Мэтью Перри и подписания первого японско-американского договора о мореплавании в 1854 году, японцы чувствовали себя ущемлёнными в отношениях с Америкой – практически, все договоры с США были неравноправными, в ущерб Японии. Соединённые Штаты после 1905 года не хотели даже минимального восстановления русского влияния на Дальнем Востоке, и потому надеялись стравить японцев в новом столкновении с Россией. Однако японцы уже показали зубы, уже сделали заявку на пребывании своей страны в клубе великих держав. А тут американцы со своим диктатом. Поэтому, преодолев сопротивление дядюшки Сэма, японцы подписали конвенцию с русскими 1907 года.
До подписания соглашения в США рассчитывали эксплуатировать богатства Китая, Кореи и российского Северо-Востока, угрожая России японским «цепным псом». Но когда Соглашение Извольского-Мотоно было подписано, Япония сочла, что у неё развязаны руки. Она не собиралась идти в фарватере американской дальневосточной политики, предоставляя американцам режим наибольшего благоприятствования в Маньчжурии. Более того, начала активно мешать на «своих» территориях Дальнего Востока деятельности иностранных компаний, в основном, американских. Можно представить негодование президента Рузвельта, лауреата Нобелевской премии мира за Портсмутский договор…
На первый взгляд, Соглашение 1907 года – документ, место которому в архиве сразу после подписания. Это всего две небольших статьи. Признавая нерушимыми все положения Портсмутского договора, в первой статье каждая из договаривающихся сторон обязывалась «уважать существующую территориальную целостность другой и все права, вытекающие для той и другой стороны из действующих трактатов между ними и Китаем». Во второй статье высокие договаривающиеся стороны признавали «независимость и целость территории Китайской империи и принцип общего равноправия (opportunite egale) по отношению к торговле и промышленности всех наций в этой империи».
И всё. Стоило ли городить огород? Российское «общество» было разочаровано Соглашением, а японские радикалы потребовали отозвать посла Мотоно Итиро из России. Общественность не знала, что в соглашении было ещё четыре секретных статьи и дополнение.
Вот начало первой секретной статьи: «Принимая во внимание естественное тяготение интересов, политической и экономической деятельности в Маньчжурии и желая избегнуть всякие осложнения, которые могли бы возникнуть из соревнования, Япония обязывается не искать за свой счёт или в пользу японских или иных подданных никакой железнодорожной или телеграфной концессии в Маньчжурии к северу от линии, установленной дополнительной статьёй к настоящей конвенции».
А вот начало второй статьи: «Россия, признавая отношения политической солидарности между Японией и Кореей, вытекающие из конвенций и соглашений, ныне имеющих силу между ними, копии коих были сообщены российскому правительству японским правительством, обязывается не вмешиваться и не чинить препятствий дальнейшему развитию этих отношений».
В дополнительной статье Россия и Япония обозначили границу между Северной и Южной Маньчжурией как водораздел между сферами своих интересов. И эта граница оставалась неизменной почти сорок лет! В «Истории Японии» по этому поводу сообщается: «Россия уменьшила угрозу своим дальневосточным районам и развязала себе руки на западе, а Япония получила возможность разыгрывать «русскую карту» в своем противодействии американской экспансии». Именно в эти годы на тихоокеанском побережье нашей державы стремительно развивался порт Владивосток, и в случае нового противостояния с Японией его развитие ставилось под большой вопрос.
По соглашению 1907 года японцы получили возможность действовать в Корее по их усмотрению. Этой возможностью они воспользовались сполна – корейцы до сих пор вздрагивают при одном упоминании о Японии. Этот ужас пришёл на корейскую землю не в годы Второй мировой войны, как обычно считается, а гораздо раньше. С этого очень конкретного Соглашения, а не с сомнительной победы Японии в русско-японской войне, мне кажется, начинается путь Страны восходящего солнца в великие державы. Кровавый и мерзкий, надо заметить, путь, где на первых шагах японский милитаризм и национализм поддержала под ручки именно Россия. Ну, что поделать – историю нельзя перетворить, можно только переписать.
Перед Великой войной
Соглашение между русскими и японцами 1907 года обострило отношения США с Японией. С этого времени, чем больше лезли американцы в Маньчжурию, тем больше укреплялись русско-японские связи в отпоре этому проникновению.
«Побеждённая» Россия расширяла свои позиции – строила Амурскую железную дорогу от Хабаровска до Нерчинска, чтобы соединить все части Транссиба, договаривалась с китайцами о совместной эксплуатации Маньчжурской железной дороги. В апреле 1909 года Москва и Пекин подписали соглашение о порядке управления в полосе отчуждения КВЖД, где располагались русские посёлки с мастерскими, конторами связи и отделениями банков. Это соглашение опротестовали США и примкнувшие к ним Англия, Германия и Австро-Венгрия. Они усмотрели в соглашении нарушение прав их подданных, в частности, права экстерриториальности. Хотя на деле эти державы просто договорились мешать русским в маньчжурских проектах, и это у них хорошо получалось. Соглашение между Россией и Китаем не вступило в силу, однако многие положения о порядке управления в полосе отчуждения КВЖД на практике всё равно действовали.
Американцы полностью потеряли возможность проникновения в экономику Дальнего Востока. Во-первых, этому дружно мешали японцы и русские, во-вторых, китайцы перестали воспринимать США в качестве деловых партнёров, что стало для американцев очень неприятной неожиданностью, буквально пощёчиной. А ведь ещё в 1899 году госсекретарь США Дж. Хэй призывал государства, имеющие интересы на китайском рынке, договориться о принципе «открытых дверей» в тех сферах влияния в Китае, где эти государства закрепились. По существу, речь шла о том, чтобы такие страны не препятствовали проникновению в контролируемые ими регионы американских компаний. И вот Япония с Россией, а потом и европейские страны проигнорировали призыв США.
6 ноября 1909 года очередной госсекретарь Филандер Ч. Нокс обратился к России, Японии и поддерживающим их Франции и Англии с «меморандумом Нокса». Он предлагал «коммерческую нейтрализацию» железных дорог в Маньчжурии. Их должен был выкупить Китай, а затем они переходили международному синдикату с преимущественной долей участия американского капитала. Понятно, что Россия и Япония такое «заманчивое» предложение тут же отвергли.
Опять реплика в сторону. Года идут, а Штаты не стареют… Вчера – желание погреть руки на рельсах и шпалах в Китае, сегодня – на сжиженном газе в Европе. Да хоть на навозе! Лишь бы на чужом.
В ответ на американскую инициативу Россия и Япония 21 июня 1910 года заключили Соглашение в развитие принципов Соглашения 1907 года. В новом документе так же содержались открытая и секретная части. Стороны обязались оказывать «дружественное содействие» в эксплуатации железных дорог в Маньчжурии и поддерживать политический статус-кво в этой части Китая. Напомню, что южная часть КВЖД отошла к Японии, но без русских специалистов, как видим, «соседи» обойтись не могли. В секретной части Соглашения Россия и Япония обязывались не нарушать «специальных интересов» и консультироваться о совместных мерах их защиты в Маньчжурии.
Соглашение фактически подтверждало прежнее согласие России на японскую аннексию Кореи. 22 августа 1910 года был подписан Договор о присоединении Страны утренней свежести к Стране восходящего солнца. Первым генерал-губернатором Кореи стал Тэраути Масатакэ. Значительная часть корейского населения договор не приняла, и тогда Тэраути бросил на недовольных армейские части. Губернатору также пришлось «успокаивать» и крестьян – земельная реформа, проведённая им, оставила многих без земли.
Генерал-губернатор считал, что у корейцев и японцев – общие корни, и с его лёгкой руки в Корее было открыто несколько тысяч школ. Помимо прочих наук здесь весьма активно изучались японский язык и японская литература. Далеко глядел будущий японский премьер-министр Тэраути…
Тем временем в Китае дело шло к революции. Одной из её движущих сил стала модернизированная армия, «Учебный корпус» под командованием премьера Юань Шикая. Появились современные военные училища, где преподавали европейские инструкторы – в основном, немцы. Юань Шикай быстро становился вождём так называемой милитаристской клики. А на периферии, особенно, в южных провинциях, зрел бунт чиновников. Они были недовольны сохранением в стране отсталых форм государственного управления и не хотели, чтобы у власти оставалась маньчжурская династия Цин. Императрица Цы Си «бросила кость» чиновникам, отменив кэцзюй, систему императорских экзаменов, которая существовала более двух тысяч лет.
А национальная буржуазия протестовала против иностранного засилья в экономике страны. Читай: Японии и России. Революционные организации, совершенно разные по методам пропаганды и борьбы с режимом, сходились в двух целях революции: свержение ненавистной маньчжурской династии и установление буржуазной республики. В Сычуани в сентябре 1911 года началось «восстание акционеров». Его подтолкнуло решение властей о национализации строящихся железных дорог и передаче их под контроль иностранных владельцев. Опять читай: России и Японии.
В противодействии императрице Цы Си сошлись интересы многих игроков. Кроме армии с Юань Шикаем, мечтающим о верховной власти, и провинциальных чиновников, Цы Си ненавидели конституционалисты, которых поддерживал князь-регент Айсиньгёро Цзайфэн. Радикалы и националисты тоже раздували «ветер перемен». Прямо как в России в 1917 году. Даже свой «Ленин» нашёлся – эмигрант Сунь Ятсен, который до поры до времени отсиживался в штате Колорадо и писал свои «письма к товарищам». В 1905 году с подачи Сунь Ятсена был создан «Китайский объединенный революционный союз». Он декларировал такие задачи: изгнание маньчжуров, возрождение национальной государственности, установление республики, справедливое распределение земли.
15 ноября 1908 года императрица скончалась. Незадолго до смерти она распорядилась казнить Юань Шикая, но тот успел сбежать. Началась полоса революционных выступлений. Они сотрясали страну четыре года, и в конце 1911 года империя пала. Сунь Ятсен приехал из США и несколько месяцев исполнял обязанности президента новорождённой республики. Малолетний наследник престола Пу И отправился в ссылку, откуда потом его извлекут японцы и посадят в кресло императора нового маньчжурского государства Маньчжоу-Го.
Обширный регион Внешняя Монголия объявил об автономии. Более того, в Урге (теперь Улан-Батор) прошёл съезд монгольских феодалов, просивших поддержки Российской империи в образовании независимого монгольского государства. Россия отказалась помогать революционерам. Это потом с успехом сделают советские товарищи. А Япония под революционный шумок решила включить в сферу своего влияния Внутреннюю Монголию, которую вполне можно с течением времени присоединить к Внешней. Это создавало серьёзное напряжение в Китае и примыкающих государствах. Естественно, такой ход грозил уже российским интересам.
Ситуация в Китае в первом десятилетии XX века заставила Россию и Японию вновь вернуться к урегулированию своих отношений в новых условиях.
28 июня 1912 года министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов (который потом примет от германского посла ноту об объявлении войны) и всё тот же японский посол Мотоно Итиро подписали секретную Конвенцию о демаркационной линии в Маньчжурии и границах Внутренней и Внешней Монголии. Внутренняя Монголия была условно разделена на восточную (японская сфера влияния) и западную (сфера влияния России). В Конвенции подтверждались обязательства двух стран не нарушать «специальных интересов» друг друга в их сферах влияния.
Выбрать врага по зубам
В разгар Первой мировой войны Сазонов и Мотоно подписали в Петрограде 20 июня 1916 года Договор, который фактически устанавливал русско-японский союз, хотя Россия с Японией и так официально выступали на стороне Антанты. Стороны договорились об общих мерах защиты своих интересов на Дальнем Востоке. В секретной части Договора речь шла о таком же общем противодействии «третьей стороне», которая «могла установить политическое господство в Китае». Здесь русские и японцы почти без намёков указывали на Соединённые Штаты, потому что представить себе тогда в качестве такой «третьей стороны» Великобританию или изнемогающую в войне Германию было трудно.
На этих примерах хорошо видно, как предельно цинично, или как сегодня сказали бы, прагматично подходили японцы к защите национальных интересов. Десять лет назад насмерть бились с русскими, а теперь стали с ними чуть ли не братьями по оружию. Когда-то японцам были нужны голландцы и американцы для «выхода в свет» после долгой самоизоляции. Они кланялись и улыбались, перенимая опыт и технологии. Но где оказались голландцы для Японии уже в конце XIX века? Понятное дело, в Голландии. Теперь пришла очередь американцев. В начале ХХ века японцы только мешали их бизнесу на Дальнем Востоке, а через двадцать с лишним лет атаковали в Пёрл-Харборе американский тихоокеанский флот.
Едва началась Первая мировая, Япония вступила в войну. Обострение противоречий между европейскими державами случилось не внезапно, о возможности большого столкновения в Европе начали задумываться в ходе Балканских войн 1912-1913. Поэтому за несколько лет до Первой мировой в верхних эшелонах власти Японии уже вынашивались определённые планы участия страны в конфликте великих держав. Страна восходящего солнца сама становилась великой державой, а с победы в японско-китайской войне 1894-1895 она окончательно взяла курс на достижение лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В грядущей войне японцам необходимо было правильно выбрать противников и союзников. Отношения с Британией у них к тому времени оказались серьёзно испорчены, потому что японцы «залезли в китайский огород» англичан. Отношения с Германией складывались лучше, тем паче, что немецкие инструкторы обучали японскую армию. К тому же в ходе войны, будучи на стороне Германии, можно было аннексировать территории немецких противников – России, например. Однако выступив на стороне кайзера, Япония рисковала столкнуться с Великобританией, Францией, Россией и даже Соединёнными Штатами. Зато, помогая Антанте, Японская империя могла приблизить общую победу и прибрать к рукам тихоокеанские колонии Германии, у которой на Дальнем Востоке к началу Первой мировой войны размещались довольно скромные силы.
Война началась 28 июля 1914 года, а уже 15 августа 1914 года японский кабинет выкатил Германии ультиматум. Токио требовал от немцев вывести Восточно-Азиатскую эскадру из порта Циндао и взорвать его укрепления, потом передать Японии Шаньдунский полуостров и другие германские тихоокеанские владения и убрать все войска. Немцам пришлось вправлять выпавшие от удивления челюсти – ведь в течение последних тридцати лет они наладили очень хорошие связи с Японией. И потому рассчитывали в войне если не на союз со Страной восходящего солнца, то хотя бы на прочный нейтралитет. Пока в Берлине решали, что делать с ультиматумом ополоумевших бывших друзей, в Токио посчитали, что ответа не будет, а посему Японская империя 23 августа 1914 года императорским указом объявила Германии войну. В качестве формального повода для объявления войны Япония заявила, что германские корабли в водах Дальнего Востока угрожают её торговле с союзницей, под которой японцы понимали Великобританию. Лондон и Токио заключили союзнический договор ещё в 1902 году и продлили его в 1911-м. Повод, конечно, смехотворный, но он сработал.
Порт Циндао китайцы передали Германии по концессии 1897 году. Город стоит на южном побережье Жёлтого моря, у большой бухты, очень удобной базы для крупной эскадры. Из Циндао можно контролировать акваторию Жёлтого и Восточно-Китайского морей. Циндао – город новый, его заложили в 1891 году. Немцы со всей основательностью сделали его стратегически важным портом, базой Восточно-Азиатской крейсерной эскадры. Зоной действия немецких судов были не только прилегающие моря, но и весь Тихий океан. В Циндао базировался также Третий морской батальон, который участвовал ещё в подавлении восстания ихэтуаней.
Для немцев большим разочарованием в жизни стало объявление Японией войны Германии. Это делало германские владения на Дальнем Востоке беззащитными – немцы не могли перебросить сюда столько войск, чтобы они уравновесили присутствие японцев. Поэтому Циндао становился мышеловкой для Восточно-Азиатской эскадры. Всю войну отсиживаться там было бессмысленно – японцы рано или поздно уничтожили бы эскадру, как они поступили с русскими кораблями в Порт-Артуре всего десять лет назад. А самое главное, исчезала надежда, что даже нейтралитет Японии заставил бы Россию держать на Дальнем Востоке боеспособные части, тем самым ослабляя позицию русских на западном фронте.
Осенью 1914 года военно-морской флот Японии проводил десантные операции на огромной акватории Тихого океана. Буквально за месяц были захвачены германские владения на Марианских, Каролинских, Маршалловых островах и небольшом архипелаге Яп. Затем наступила очередь крупного порта Рабаул на острове Новая Британия, уже в непосредственной близости от Новой Гвинеи и Австралии.
Теперь задачей стало взятие Циндао, который японцы с августа держали в блокаде. В порту-крепости под командованием контр-адмирала Альфреда Майер-Вальдека было 4,5 тысячи солдат при 150 орудиях и 25 минометах. Для захвата Циндао японцы создали экспедиционный корпус во главе с генерал-лейтенантом Камио Мицуоми – свыше 33 тысяч солдат и офицеров. Корпус поддерживала 2-я японская эскадра адмирала Хирохару Като, куда входило около 40 кораблей. В осаде Циндао японцы успешно использовали тактику, применённую в осаде Порт-Артура – продвижение на короткие расстояния, укрепление на взятом рубеже, накопление сил и новая короткая «перебежка».
27 августа 1914 года японская эскадра блокировала порт. Любопытно, что большую часть эскадры составили русские корабли, захваченные в ходе русско-японской войны 1904-1905. Это к вопросу о том, что русские воевали на «старых калошах». Через десять лет наши «отсталые» суда стали костяком японской эскадры. На следующий день с кораблей начался обстрел города. До 6 ноября, накануне немецкой капитуляции, по крепости было выпущено 43,5 тысячи снарядов. Надо отметить, что в сражении за Циндао участвовали и японские союзники – британцы. Правда, очень скромными силами – две роты солдат и несколько кораблей.
В середине октября английский броненосец «Триумф» получил повреждение от немецкого снаряда и ушёл на ремонт. 6 ноября японцы начали готовиться к генеральному штурму, но утром комендант немецкой крепости отдал приказ о капитуляции. Попутно замечу: в ответ на сдачу Циндао германский кайзер наградил Майер-Вальдека Железным крестом I-й степени. В плену моряк просидел до 1920 года, причём за это время его на родине заочно повысили в звании до контр-адмирала. Прямо сказка какая-то…
Так Япония отметилась в Первой мировой.
Арисаки из Нагасаки
Удивительно, но факт: к началу Первой мировой практически сложился союз России и Японии. Об этом довольно подробно рассказывает исследователь российско-японских отношений К.О. Саркисов. Оказывается, японский посол Мотоно Итиро, о котором мы вспоминали чуть выше, ещё в ноябре 1909 года вёл откровенные беседы с нашим министром иностранных дел Александром Петровичем Извольским о союзнических связях. К 1912 году эта идея овладела умами и русских, и японских высокопоставленных чиновников. Она нашла воплощение в прорусской позиции Японии в начале Первой мировой. Кайзер Вильгельм II обратился тогда к японскому императору Ёсихито, обещая пойти на любые уступки, если тот объявит войну России, но император ответил, что «день, когда падёт на Дальнем Востоке последняя опора германской культуры, будет светлейшим в истории Японии».
18 января 1915 года японцы выдвинули ультиматум правительству Китая – так называемое «21 требование». Речь шла о дополнительных военных базах, а также об экономических и политических преимуществах, вплоть до назначения японских советников в китайские вооружённые силы. Япония, на первый взгляд, попирала прежние договорённости с Россией, однако русские закрыли глаза на японское усиление в Китае. Во-первых, набирал силу политический союз со Страной восходящего солнца. Например, известие о взятии японцами Циндао на Дальнем Востоке русские отмечали шествиями и криками «банзай». Во-вторых, Япония в очень короткое время стала основным поставщиком вооружения для русской армии. Вот такой выверт истории: не имеющая сырьевой базы страна превратилась в оружейную кузницу Востока. И помогли в этом корейский уголь, китайская железная руда и русский лес.
К.О. Саркисов пишет: «Рынков оружия и боеприпасов, где можно было бы их приобрести, теоретически было три – Англия, США и Япония. Англия воевала и, как выяснилось, сама испытывала нехватку боевой техники. Вдобавок Архангельск, через который ввозились товары, осенью-зимой замерзал, и период навигации был коротким. Те же проблемы были с поставками из США. Япония в этом отношении была более привлекательной. Путь по Сибирской железной дороге был практически безопасным, несмотря на слухи о возможных германских диверсиях. Поэтому спустя всего две недели после начала войны, в середине августа, российские оружейники обратились к японскому военному атташе в Петербурге с заказом на 800 тыс. снарядов, 1500 тонн пороха и 800 тыс. запалов общей стоимостью в 10 млн. руб.». В Токио отправилась русская миссия с целью договориться о поставках винтовок и гранат.
А что, у России не было своих возможностей вооружаться? Наверняка, были, но иметь возможности и воспользоваться ими – две большие разницы, как говорят в старом русском городе на Чёрном море. Едва вступив в Первую мировую, в российском Генштабе осознали: солдатам буквально не хватает оружия. Ставка верховного главнокомандующего сообщала в Петроград летом 1915 года: «Положение с винтовками становится критическим, совершенно невозможно укомплектовать части ввиду полного отсутствия винтовок в запасе армии и прибытия маршевых рот невооруженными». На Северо-Западном фронте, отражавшем немецкое наступление, из 57 пехотных дивизий 21 дивизия, по сути, оказалась безоружной.
А ведь по данным генерала от инфантерии А.М. Зайончковского, мобилизованная «русская армия достигла в 1914 году грандиозной цифры 1 816 батальонов, 1 110 эскадронов и 7 088 орудий. В русской армии под влиянием русско-японской войны усовершенствовалось обучение, было обращено внимание на значение огня, роль пулеметов, связь артиллерии с пехотой, индивидуальное обучение отдельного бойца, на подготовку младшего командного и, в особенности, офицерского состава и на воспитание войск в духе активных решительных действий».
Вероятно, Андрею Медардовичу Зайончковскому, командиру русского корпуса и командующему Румынской армией, обладателю полутора десятка орденов, не докладывали о том, что солдаты стоят в очереди на винтовки – ждут, пока кого-то убьют… Ну и правильно, не генеральское это дело – считать винтовки и портянки. Тем более, не дело советского военного историка, которым боевой генерал заделался после перехода на службу в Красную армию.
25 мая 1915 года китайский президент Юань Шикай под русским давлением, подписал кабальный договор с Японией. В тот же день стало известно, что из Нагасаки, промышленной столицы страны и крупнейшего порта, начинается отгрузка в Россию винтовок «арисака» Тип 30. Это было оружие, хорошо зарекомендовавшее себя ещё в русско-японской войне. Зимой 1916 года 6-я и 12-я русские армии были целиком переведены на японскую винтовку. К февралю 1917 года Россия закупила почти 820 тысяч таких винтовок, а к ним почти 800 миллионов патронов. Этого хватало, например, чтобы вооружить 50 дивизий.
Кроме оружия в Россию шло и обмундирование. Сошлюсь ещё раз на К.О. Саркисова. Он приводит впечатление французского наблюдателя, побывавшего на русском фронте в августе 1916 года: «Меня удивило большое число русских солдат, одетых с головы до ног в одежду, сделанную в Японии. На них были не только кители и брюки, но и гетры японского пошива. На их плечах японские ружья, в патронташах патроны, изготовленные в Японии. Кожаные ремни и пряжки из Японии. Подбитые гвоздями ладные сапоги сделаны в Японии из кожи, выделанной в Корее».
И еще один удивительный факт: в рядах Вооружённых сил России на германском фронте воевало около полутора тысячи японских добровольцев из областей Дальнего Востока. Записалось намного больше, но по разным причинам многие в действующую армию не попали. Корреспондент газеты «Асахи» в Петрограде сообщал о награждении Георгиевским крестом студента Токийского университета по фамилии Хаяси за героизм в боях в Восточной Пруссии. А генерал-майор Накадзима Масатакэ, член японской миссии при Генеральном штабе Российской императорской армии, ходил в бой вместе с русскими солдатами. За что и удостоился ордена Святого Владимира 3-й степени. Попавшие в германский плен японцы подвергались пыткам и издевательствам – немцы не могли простить им «предательства» и захвата Циндао.
Однако в желании сделать приятное, главное – не перестараться. Премьер-министр Окума Сигэнобу, умный человек, маркиз, основатель университета, предложил русскому послу: Япония готова взять на себя охрану российских дальневосточных владений, чтобы доблестная русская армия целиком сосредоточилась на западном фронте. Такой вот нашёлся сторож в дальневосточном русском курятнике – японский Лис Кицуне. Наш посол Николай Андреевич Малевский-Малевич даже не стал сообщать о «деловом» предложении по начальству. Произнёс несколько недамских выражений и устроил скандал японскому премьеру.
Винтовка из Нагасаки славно повоевала в России во времена Гражданской. Ирония судьбы – красные партизаны на Дальнем Востоке били из «арисак» японских интервентов. На многих снимках эпохи Гражданской войны запечатлена эта винтовка – почти в человеческий рост, с широким и длинным штыком, похожим на меч. В СССР оказались такие запасы японских винтовок и патронов, что ими в годы Великой Отечественной войны вооружали части Красной Армии, народное ополчение Москвы, Киева, Смоленской области и партизанские отряды Крыма.
И примкнувшая к ним Япония
«Величайшее творение русского созидательного гения». Так назвал Транссибирскую магистраль Иван Иннокентьевич Серебренников, кадет и министр продовольствия в Омском правительстве. Он оставил прекрасную книгу мемуаров «Великий отход: Рассеяние по Азии белых русских армий 1919-1923». Это о Гражданской войне в Сибири, о Колчаке, чехословаках, белых и красных, о русских беженцах в Маньчжурии и японцах.
Транссиб в истории Гражданской войны стал символом – трагическим, в первую очередь. Магистраль была каналом, по которому разливались революция и контрреволюция, ненависть и нетерпимость, оружие и продовольствие, интервенты и беженцы, золото и уголь. Транссиб стал дорогой исхода из России «белочехов». А этот исход многие исследователи считают началом Гражданской войны в России.
Первые части чехов и словаков появились на фронте ещё в конце 1914 года. Осенью 1915 года из бывших военнопленных и перебежчиков был сформирован полк, развернутый через год в бригаду. Летом 1917 года в Галицийском наступлении бригада прорвала фронт под Зборовом и взяла в плен свыше 3 тысяч немцев и австрийцев. Чехословацкий национальный совет в Париже мечтал о самостоятельной Чехословакии и национальной армии, а потому поддерживал все действия российского руководства в формировании чехословацких вооружённых сил. Будущий президент Томаш Масарик целый год провёл в России, налаживая связи с русскими. А Ян Сыровы, герой Зборовского прорыва, будущий генерал и премьер-министр Чехословакии, пока в звании капитана собирал земляков в чехословацкий корпус.
Корпус был полностью лоялен Временному правительству. А после захвата власти большевиками французское правительство поспешило заявить о создании автономной чехословацкой армии во Франции. Поэтому с начала 1918 года чехословацкий корпус в России подчинялся французскому командованию. И раз уж большевики отказались воевать с Германией, заключив с ней «похабный» мир, то Антанта решила быстрее вытащить в Европу боеспособную армию чехов и словаков, в которой к весне 1918 года насчитывалось почти 50 тысяч человек.
Большевикам, кстати, это было на руку – Антанта убирала из страны, возбуждённой войной и революцией, чужое вооружённое формирование. 26 марта 1918 года Иосиф Сталин, полномочный представитель Совета народных комиссаров, прибыл в Пензу, где подписал с командованием чехословаков соглашение об отправке корпуса во Владивосток. Потом страны Антанты собирались переправить его в Европу – на фронт. Чехословакам, которые должны были передвигаться «как группа свободных граждан», большевики оставляли «известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров».
Так бы и уехали из России славянские братья – тихо, мирно, без бузы, если бы в дело не вмешались… Правильно, японцы.
Ещё немного предыстории.
В декабре 1917 года Великобритания, США, Франция и союзные им страны, в том числе, Япония, на специальной конференции решили разграничить зоны интересов на территории бывшей Российской империи. Проще говоря, поделить. Не пропадать же добру, тем более, страна «предала общие интересы», выйдя из войны с Германией. Японцы, которые только что находились в военном и политическом союзе с русскими, без угрызений совести встали на сторону «расчленителей» России. Так они понимали свои национальные интересы.
Захват большевиками власти в России ставил перед Японией целый ряд проблем. Во-первых, Страна восходящего солнца лишалась в войне стратегического союзника. Во-вторых, возникала угроза заключения мира большевиков с Германией (что чуть позже и произошло). Уже в конце февраля в российской столице появились германский консул и военный атташе. Большевикам оставалось лишь заключить с немцами военный союз.
К.О. Саркисов пишет: «Теперь вместо уверенности, что в наступившей военной кампании русская армия прогонит германо-австрийские войска из Галиции и маршем двинется на Берлин, замаячила другая альтернатива – контроль Германии над бесконечными просторами с богатейшими ресурсами и движение через Сибирь к границам с Японией».
А кроме того, у некоторых японских авторов, у того же Вада Харуки, участие японцев в походе Антанты на советскую Россию объясняется ещё и тем, что в соседней стране к власти пришли безбожники, разрушившие священный институт монархии. А то, что монархию в России свергла не Октябрьская, а Февральская буржуазная революция, о чём эти авторы не могли не знать, дела не меняло и очень многое объясняло. Нетерпимость японских монархистов к безбожному, «без царя», большевизму стала идеологическим обоснованием для последующих выступлений Японии против России и СССР. Этот аспект, к сожалению, мало рассмотрен и в российской, и в японской литературе.
Тем не менее, в работе В.Н. Тихомирова «История забытой войны: как Япония пыталась дойти до Урала» читаем: «Уже 8 декабря 1917 года один из идеологов японского милитаризма генерал Угаки Кадзусигэ, выступая перед слушателями Императорской военной академии, объявил о скором начале «справедливого» похода на Россию. Дескать, российские революционеры (не большевики, но эсеры и кадеты!) «сломали столетиями существовавшую империю, растоптали принципы демократии и создали анархическую систему власти безответственных интеллигентов и нищих».
Основные силы интервентов прибыли в Мурманск летом 1918 года. Американцы высадились во Владивостоке 15 августа. А японцы и тут всех обскакали. Уже 5 апреля 1918 года во Владивосток вошли японские «соседи» для защиты своих граждан. Накануне в городе были убиты двое служащих японской торговой конторы «Исидо». Кто и почему их убил – никто не разбирался. Но предлог для вторжения появился. Слабая советская власть в городе, что называется, утёрлась.
Договор Сазонова-Мотоно подписывался на 5 лет и срок его действия заканчивался в 1921 году. Однако противоестественность союза России и Японии после Первой мировой, понимали в обеих странах. Едва в Петрограде в октябре 1917 года произошёл переворот, японцы и американцы заключили соглашение о дальневосточных владениях бывшей Российской Империи. По договору Сазонова-Мотоно вооружённых сил Японии в Приморье не предусматривалось ни при каких коврижках. Тем не менее, уже 12 января 1918 года крейсер «Ивами» (бывший русский броненосец «Орёл», ставший трофеем в русско-японской войне) появился на рейде Владивостока. 14 января рядом стал английский крейсер «Суффолк», а 17 января – ещё один японский крейсер – «Асахи». А 5 апреля, как я уже сказал, в город вошли две первые роты японцев. Был захвачен остров Русский с артиллерийскими батареями, военными складами, казармами и береговой инфраструктурой. Вчера – порт Дальний, сегодня – остров Русский… Адмирал Хирохару Като, герой Циндао, обратился к населению с воззванием, в котором извещал, что Япония берёт на себя «охрану общественного порядка в целях обеспечения личной безопасности иностранных граждан», в первую очередь подданных японского императора. На тот момент их во Владивостоке было свыше трёх тысяч.
Забегая вперёд, скажу, что 29 июня областную земскую управу, которую контролировал городской Совет Владивостока, попросту разогнали те самые «чехи», для помощи в эвакуации которым и предназначались по плану Антанты японские и американские экспедиционные силы. В Токио потирали руки: наступило время оторвать от России кусок побольше. На полном серьёзе в японском обществе, в прессе, в верхних эшелонах власти обсуждались планы создания «независимых сибирских государств», дружественных Японии. Е.С. Сенявская пишет по этому поводу: «Страна восходящего солнца с энтузиазмом восприняла идею США и Антанты о расчленении России и создании марионеточных режимов на её окраинах для использования их в качестве полуколоний. Японские газеты с циничной откровенностью писали, что «независимость Сибири представляла бы особый интерес для Японии», и намечали границы будущего марионеточного государства – к востоку от Байкала со столицей в Благовещенске или Хабаровске».
Поводом для наращивания японских контингентов стала советизация не только Дальнего Востока, но и территории КВЖД – в Харбине городской Совет был образован 17 марта 1917 года, а 10 ноября в Совете большинство получили большевики. Генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, управляющий КВЖД, даже опасался, что его арестуют. Но у харбинских большевиков не хватило духа – генерал пользовался огромным уважением в «Хорватии», как называли русский Харбин, а после образования Сибирского правительства он передал тому полномочия. Поэтому даже китайцы солидаризировались с японцами во взглядах на власть Советов на Дальнем Востоке и в полосе КВЖД: «экстремисты» представляют угрозу от Урала до Дальнего Востока, и уничтожение их безбожной власти – общая задача на ближайшее время.
Узнав о высадке японцев, большевики решили, что пребывание вооружённых чехословаков в России становится довольно опасно. Две силы, поддерживаемые Антантой, могут создать большие проблемы в Сибири и Приморье. Поэтому 9 апреля Сталин отослал в Красноярск разъяснение, дезавуирующее пензенское соглашение.
А тут ещё по дороге случился инцидент: немец-военнопленный нечаянно убил словака. «Чехи» устроили самосуд. На происшествие выехали советские следователи, но чехословаки их просто не пустили в эшелон. Тогда Л.Д. Троцкий 23 мая отдал приказ № 377.
«Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков
Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.
Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово наказан.
Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехословаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести.
Народный Комиссар по военным делам Л. Троцкий».
Особенно поэтично звучит «всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару». Сейчас некоторые исследователи стремятся объяснить приказ Троцкого революционной действительностью: чехословаки начали потихоньку, мол, грабить по пути православных, не слушались советских руководителей. Но до приказа «демона революции» бывшие военнопленные два месяца ехали на восток и никого не трогали. Вероятно, можно было бы решить мирно ситуацию с неповиновением революционным следователям, за которых так обиделся Лев Давидович. Однако Троцкому явно не хватило главного качества политика – терпения.
«Все действия Троцкого в истории с чехословаками были совершенно провокативными, – пишет Д. Пермяков. – Правда, принципиальное решение о вмешательстве в дела России уже было принято Антантой, а распропагандированные чехословацкие командиры зачастую сами стихийно выступали против большевиков. Взрывоопасная ситуация в любом случае сдетонировала бы. Однако резкие нервные действия Троцкого, по всей видимости, приблизили интервенцию как минимум на месяц».
Трудно не согласиться с этим выводом…
От попыток разоружения чехословаки отбились. И корпус, растянувшийся по Транссибу от Волги до Тихого океана, выступил против Советской власти. С большим, надо полагать, удовольствием «чехов» стали склонять в союзники все, кому не лень – от самарской «учредилки» до колчаковского правительства.
Чехословаки помогли, кстати сказать, полковнику В.О. Каппелю взять 7 августа 1918 года Казань, где хранился золотой запас Российской империи. Его в начале Первой мировой эвакуировали сюда из Петрограда и Москвы. Каппелевцы захватили свыше 500 тонн только золота, которое повезли в 40 вагонах в Омск. Перевозку контролировали чехословаки.
«Чехи» воевали в России два с половиной года, потеряв в боях с Советской властью четверть корпуса. 2 сентября 1920 года из Владивостока вышел последний транспорт с чехословаками. Поражение Колчака зимой 1919-1920 года заставило Антанту отказаться от планов раздела России. Вдоволь покуражившись в Приморье, американцы вскоре после падения Колчака собрались эвакуировать своё воинство. Японским союзникам объяснили, что поскольку чехословацкий корпус вот-вот оправится домой, американцам, которые его якобы защищали, в России делать нечего. В апреле 1920 года войска США, Великобритании и Франции покинули Владивосток. А японцы оставались на нашей земле до октября 1922 года, прикрываясь, что характерно, декларациями о неучастии японской армии в Гражданской войне в России.
На самом деле, японцы в нашей войне участвовали, и очень активно. Недаром их экспедиционный корпус назывался «Сибериа сюппэй», что значит «Сибирская экспедиция». Японцы не собирались останавливаться на Приморье, их устремления простирались дальше, до Урала. Подобные устремления базировались на разобщенности русских: в Сибири и на Дальнем Востоке тогда схватились за власть три силы. Первой был, конечно, большевизм, активно усиливающий влияние в Советах. Вторая – монархисты, выступавшие, как их единомышленники на Дону и на Северном Кавказе, за единую и неделимую Россию. Наконец, довольно мощным политическим образованием стал союз разного рода либеральных партий и движений – от эсеров до кадет. Кстати сказать, в европейской России «либералы» не проявили себя так серьёзно, как в Сибири и на Дальнем Востоке. Многие наши исследователи Гражданской войны согласны, что в своё время Добровольческая армия и Комитет членов Учредительного собрания не нашли общий язык именно по причине разного взгляда на будущее России. Спорили о будущем, а в настоящем их били большевики…
По долинам и по взгорьям
В начале августа 1918 года японцы высадили десант на Амуре и захватили Николаевск, а в середине месяца перебросили во Владивосток пехотную дивизию. К началу октября 1918 года Советская власть на Дальнем Востоке была практически свергнута. По существу, победили сторонники Белого движения. Они не смогли бы добиться успеха без поддержки извне. Главными силами поддержки стали Чехословацкий корпус и «нейтральные» японские войска. К этому времени с учётом вооружённых сил в районе КВЖД у японцев на Дальнем Востоке было свыше 70 тысяч солдат.
С.Н. Савченко в работе «Интервенционистские силы Японии на российском Дальнем Востоке (1918-1922)» пишет: «В исследованиях историков белого и красного движения в унисон звучат высказывания, что японские войска не раз спасали белых от разгрома. В вышедших за рубежом «Очерках по истории Белого Движения на Дальнем Востоке» Вс. Л. Сергеев отмечал: «Они помогли нам удержать в своих руках Забайкалье, когда после падения Омского правительства белая власть рушилась повсеместно… Только благодаря поддержке Ниппонской экспедиционной армии преследование красными отступающей Сибирской армии остановилось у западных границ Забайкалья».
Что вытворяли японцы на нашем Дальнем Востоке, поддерживая белых, описано не только в художественной литературе, но и в сухих отчётах статистиков и мемуарах деятелей Белого движения. Особенно зверствовали японцы в местностях, где у красных была сильна поддержка партизан. Разведка и контрразведка у «соседей» были поставлены неплохо, всемерно поощрялись доносы, и в результате то в одну амурскую деревню, то в другую врывались солдаты «Ниппонской экспедиционной армии».
Даже в японской литературе освещена расправа интервентов с жителями деревень Сохатино и Мазаново. 11 января 1919 года отряд японцев расстрелял всех жителей этих деревень, включая женщин и детей. Деревни сожгли. Это признавало командование экспедиционного корпуса. В марте 1919 года командующий 12 бригадой японской оккупационной армии в Приамурье генерал-майор Ямада Сиро потребовал сжигать все населённые пункты, жители которых поддерживали партизан. В том же марте 1919 года было уничтожено девять деревень.
Опять слово В.Н. Тихомирову:
«Символом зверств японских оккупантов стало село Ивантеевка, уничтоженное карателями 12-й бригадой японской оккупационной армии в Приамурье 22 марта 1919 года. Накануне командующий генерал-майор Ямада Сиро издал приказ об уничтожении всех тех сел и деревень, жители которых поддерживали связь с партизанами. И в качестве первой жертвы было выбрано село Ивантеевка.
Сначала японская артиллерия обрушила на село шквальный огонь, в результате чего в ряде домов начались пожары. Затем ворвались японские солдаты. Сначала каратели выискивали мужчин и там же на улицах расстреливали их или закалывали штыками. А далее оставшиеся живыми были заперты в нескольких амбарах и сараях и сожжены заживо. Как показало проведенное впоследствии расследование, после этой резни было опознано и захоронено в могилах 216 жителей села, но большое число обуглившихся в огне пожаров трупов так и осталось неопознанными».
Единственное замечание: в большинстве исследований эта сожжённая деревня называется Ивановкой. Как видим, задолго до Хатыни и Лидице японские интервенты продемонстрировали звериное рыло милитаризма. Потом такой же бесчеловечной формой существования протоплазмы станет нацизм и фашизм.
Беспристрастным документом, повествующим о поведении оккупантов, стал «Отчет о командировке сотрудника военно-статистического отделения окружного штаба Приамурского военного округа капитана Муравьева в г. Благовещенск с 4 по 31 марта 1919 г.». Этот отчёт был опубликован в журнале «Отечественные архивы» № 3 (2008). Вот фрагмент:
«После отступления большевиков началось возмездие виновным: в течение следующих трех дней японцами и казаками было расстреляно из поселка более 30 человек (в том числе одна беременная женщина). И уже только через неделю все трупы убитых числом около 70 были сложены в одну общую кучу, предварительно раздеты, покрыты дровами и сожжены… Японцы с пассажирами, приехавшими на ст. Благовещенск, обращались как со скотом, грубо загоняя их на вокзал, то обратно в вагоны. Крестьяне страшно страдают при теперешнем положении. С одной стороны, большевики делают у них реквизиции и поборы, когда же приходят японцы, то сжигают деревни и имущество крестьян, при этом страдают даже женщины и дети».
Но, чем больше зверствовали японцы, тем сильнее становилось русское сопротивление. Уже не только коммунисты и сторонники Советской власти, но и «беспартийные» граждане, лишившиеся по прихоти оккупантов дома, хозяйства, а нередко – и близких, становились под партизанские знамёна. Весной 1919 года только в Приамурье действовало около 20 отрядов партизан, в которых было свыше 25 тысяч бойцов. В 1919 году партизанское движение охватило, практически, все Приморье, Приамурье и Забайкалье. Оно и стало внушительной силой, которая помогла потом наступающей Красной армии разгромить интервентов.
Поход на Читу
Интервенты – не только японцы – с первых дней вторжения в Россию всемерно поддерживали антибольшевистские силы. Одной из таких сил ещё до «размены Колчака» стало казачье формирование атамана Г.М. Семёнова. Поначалу это был небольшой отряд под командованием есаула Семёнова, собранный из казаков Забайкальского казачьего войска, не захотевших подчиняться советским порядкам. Для интервентов всё настойчивее становилась задача образования на Дальнем Востоке марионеточного государства, которое могло бы вместе с Верховным правителем России адмиралом Колчаком, бороться с коммунистами. Вместе или вместо Колчака – не важно.
Такаянаги Ясутаро, глава Второго (разведывательного) отдела Генштаба, некоторое время возглавлявший японскую миссию в Омске при правительстве А.В. Колчака, одним из первых сформулировал концепцию «буферного российского государства» и также одним из первых разглядел «потенциал» Семёнова. Затем на казачьего есаула обратил внимание старый друг России, бывший посол Мотоно Итиро. Он и рекомендовал японскому консульству в Харбине помочь Семёнову. Японцы понимали, пишет К.О. Саркисов, что этот казачий вождь был «реальной силой в Забайкалье. И была надежда, что его казакам удастся захватить Иркутск и осуществить план создания российского государства на пространстве от Иркутска до Владивостока, которое могло бы себя противопоставить остальной России, где с трудом, но последовательно большевики строили новое государство. Это было особенно актуально – «эпидемия» большевизма проникала и в Сибирь, «заражая» целые районы и даже казачьи части».
В Харбине в феврале 1918 года формировался Дальневосточный Комитет защиты Родины и Учредительного собрания. Этому Комитету и начали поставлять оружие и боеприпасы японцы через кооператив нескольких компаний, которые раньше были поставщиками Российской императорской армии. А уж Комитет передавал оружие Г.М. Семёнову. Надо сказать, что японцы обратили внимание на Григория Михайловича ещё и потому, что он успел выступить против большевиков в самом начале 1918 года, предприняв в январе вторжение в Забайкалье и открыв один из первых фронтов Гражданской войны – Даурский. Однако тогда Семёнова быстро окоротили красногвардейские отряды Сергея Лазо. Битый есаул вернулся в Маньчжурию и создал Особый маньчжурский отряд. Настойчивости в достижении цели Семёнову было не занимать.
Я потому так подробно рассказываю о нём, что Григорий Михайлович, один из очень немногих лидеров Белого движения, активно держался в антисоветском строю четверть века – до конца Второй мировой войны, рука об руку с японцами выступая против советской России, то есть серьёзно влиял на состояние русско-японских отношений. Таким антисоветским долголетием мог похвастать ещё один казачий водитель – Пётр Краснов, гитлеровский коллаборант, повешенный по решению советского суда.
После организации Отдельного маньчжурского отряда, в котором кроме забайкальских казаков был отряд из бывших военнопленных сербов, два полка китайцев и полк японцев, Семёнов в начале апреля пошёл второй раз брать Читу. Его повысили в звании. Вот как пишет об этом сам Григорий Михайлович в мемуарах:
«Перед началом наступления генерал-лейтенант Никонов, мой помощник по военной части, обратил внимание на чисто формальную ненормальность в области существовавшей в отряде иерархии. Будучи в чине есаула, я имел в своём подчинении генералов и штаб-офицеров, в отношении которых являлся их непосредственным или прямым начальником. Чтобы обойти неловкость подчинения мне старших в чине, высший командный состав отряда обратился ко мне с просьбой принять на себя звание атамана О. М. О. Моё согласие сгладило все неловкости, так как если я имел незначительный чин, будучи, в сущности, ещё молодым офицером, то мой престиж, как начальника отряда и инициатора борьбы с большевиками, принимался в отряде всеми без исключения и без какого-либо ограничения. Отсюда произошло наименование меня «атаман Семёнов». Впоследствии это звание было узаконено за мной избранием меня походным атаманом Уссурийского, Амурского и Забайкальского войск. После ликвидации Омского правительства и гибели атамана Дутова войсковые представительства казачьих войск Урала и Сибири также избрали меня своим походным атаманом».
И снова его воинство отступило перед объединёнными силами железнодорожников, красногвардейцев из бывших военнопленных и революционных матросов и портовиков Владивостока. Бои шли до середины лета, а потом Семёнов ушёл в Маньчжурию.
Зализав раны, Григорий Михайлович в третий раз отправился воевать столицу Забайкалья. Теперь в рядах семёновцев были не только японцы, но и чехословаки. В конце августа Семёнов разбил красногвардейские отряды, стоявшие на его пути к Чите. Город заняли 6 сентября, а 12 числа установили полный контроль над Амурской железной дорогой. Приказом по Сибирской армии от 10 сентября 1918 года Семёнов был назначен командиром 5-го Приамурского армейского корпуса.
К октябрю 1918 года в России воевало свыше 70 тысяч японцев – в два раза больше, чем всех интервентов из государств Антанты. По некоторым источникам, к концу «пребывания в России» контингент военнослужащих Страны восходящего солнца составлял около 100 тысяч человек.
Японцы оккупировали Приморье, Приамурье и Забайкалье, практически, весь русский Дальний Восток, граничащий с Китаем и Маньчжурией. Несмотря на заявленный нейтральный статус, они воевали с партизанами, уничтожали мирное население. Выгребали «под гребёнку» богатства Дальнего Востока. Захватывали землю и предприятия, рыболовные участки, пилили лес, вывозили к себе на острова металл и минералы.
Грабёж российской земли японцы вели как завоеватели, не уверенные, что останутся здесь надолго. Так же поступали потом и немцы, вывозившие, например, эшелонами украинские чернозёмы. Если бы не сомневались в полной и окончательной победе, то оставляли бы завоёванное добро для своих переселенцев, которые рано или поздно приехали бы осваивать новый «фатерлянд»…
Николаевский инцидент
На Дальнем Востоке красные и белые схлестнулись в таком ожесточении, что некоторые детали противостояния остались в нашей истории как образчики зверства. Сергея Лазо, командующего партизанскими отрядами Приморья, белые сожгли. Комсомольского активиста Виталия Банивура замучили и вырезали сердце. И это только самые вопиющие, а потому запомнившиеся факты.
Не оставались в долгу и красные…
Неоднозначно наши историки относятся к фигуре Якова Ивановича Тряпицына: одни считают его героем, воевавшим против интервентов за Советскую власть, другие – садистом, который жестокостью и коварством сделал всё, чтобы отвратить простых людей от Советской власти. А главное – именно Тряпицын создал повод для захвата японцами северной части Сахалина. Хотя, по здравому размышлению, японцы нашли бы другой повод, не будь выступления Тряпицына в Николаевске.
Я.И. Тряпицын воевал в Первую мировую, дослужившись из рядовых до прапорщика. Награждён двумя «георгиями». После революции вступил в Красную гвардию, воевал с чехословаками под Самарой, потом устанавливал Советскую власть в Сибири и Приморье.
И делал это, надо признать, самыми жестокими методами. Вот пример. В селе Киселёвка Тряпицын провёл переговоры с командиром колчаковского отряда. Предложил казакам сдать село без боя, гарантировал жизнь. Те выпросили время для размышления. Однако не поверили красному партизану, собрались по-тихому и сбежали. Раздосадованный Тряпицын приказал догнать казаков и уничтожить. Что и было сделано.
Осенью 1918 года Николаевск-на-Амуре заняли японцы. А к началу 1920 года их здесь было около 800 человек – половину составляли солдаты гарнизона. Японцев якобы пригласили городские чиновники под предлогом охраны золотодобычи и подписали по этому поводу специальный документ. Находилось в городе и несколько сот белых. Кроме того, здесь обитали небольшие китайские и корейские колонии – ещё около сотни человек.
21 января под городом появился партизанский отряд Якова Тряпицына числом до трёх тысяч штыков. Красные обстреляли и обложили город. После почти месяца вялотекущих столкновений начальник гарнизона майор Исикава вдруг вспомнил о нейтралитете японских оккупантов и заключил с партизанами перемирие, впустив их в Николаевск. Воины Тряпицына сначала арестовали чиновников, подписавших приглашение японцам, затем бросили в застенки не успевших сбежать белых. Начался «революционный террор», о котором малочисленные выжившие жители Николаевска потом вспоминали с ужасом.
Тряпицын опасался, что к японцам может подойти подкрепление и 11 марта потребовал от Исикавы разоружить весь гарнизон. Японцы обещали подумать над предложением, но ночью открыли огонь по партизанскому штабу, применив боевые ракеты. Восток – дело тонкое… Полгорода сгорело. Партизаны, потерявшие полтысячи бойцов, обозлённые вероломством «нейтральных» японцев, сначала расстреляли гарнизон во главе с майором Исикавой, потом вырезали арестованных белых, а под конец просто уничтожили остатки города вместе с обитателями, предварительно как следует поглумившись над ними.
«Николаевский инцидент» стал поводом для оккупации интервентами северной части Сахалина. Это оправдывалось необходимостью защитить живших там японцев от повторения николаевских событий. А ещё – «в наказание за зверства, которые чинили над японцами» партизаны Тряпицына. В Декларации 3 июля 1920 года японское правительство заявило, что войска Страны восходящего солнца останутся на Северном Сахалине до тех пор, пока Советская Россия не принесёт письменных извинений за гибель японских подданных в Николаевске.
Российскую часть острова они вернули только в 1925 году. Советская власть, победившая на большей части России, вынуждена была терпеть наглых «соседей» и делать примиряющие шаги. В 1920 году большевики предложили создать на Дальнем Востоке буферное государство, и японцы согласились. 6 апреля 1920 года появилась Дальневосточная республика (ДВР) с территорией от Байкала до Тихоокеанского побережья. Против создания этого государства выступал Яков Тряпицын, требовавший объявить войну Японии.
После партизанских зверств в Николаевске руки у интервентов были развязаны. В начале апреля 1920 года они начали громить органы советской власти и военные гарнизоны ДВР. Они же арестовали Сергея Лазо, председателя Военного совета дальневосточного правительства и передали белым «союзникам». Сахалин был занят японцами 22 апреля 1920 года, и в тот же день Яков Тряпицын по приказу главкома Народно-Революционной армией ДВР Г.Х. Эйхе был назначен командующим Охотским фронтом.
7 июля 1920 года несколько партизанских командиров организовали мятеж против Тряпицына, арестовав его и ещё два десятка самых одиозных «товарищей». На следующий день их всех судили. 23 человека приговорили к смертной казни «за нарушение революционной законности, превышение власти и бандитизм».
В нашей литературе есть статьи, как я уже говорил, о герое революции Якове Ивановиче Тряпицыне, которого идеологически чуждые авторы выставили в неприглядном свете – садистом и организатором массовых бессудных казней. Не буду ни вспоминать эти статьи, ни полемизировать с их авторами. С глубоким сожалением повторю: гражданская война отличалась невероятной жестокостью, и до сих пор мы выбираем – на чью сторону стать.
В августе 1921 года командующим Пятой отдельной армией и войсками Восточно-Сибирского военного округа был назначен Иероним Петрович Уборевич. Его знали как бывшего заместителя командующего ВС Украины и Крыма Фрунзе. Но ещё большую известность Уборевичу принесло участие в подавлении крестьянских восстаний. Сначала – заместителем Тухачевского на Тамбовщине, а потом и самостоятельного командующего частями Красной армии в Белоруссии при подавлении выступлений крестьян Минской губернии.
С 17 августа 1922 года Уборевич стал председателем Военного Совета и военным министром буферной Дальневосточной республики. Под его командованием Народно-революционная армия взяла 9 октября 1922 года неприступный Спасский укрепрайон, а потом – Волочаевск. «Штурмовые ночи Спасска и Волочаевские дни» закончились 25 октября во Владивостоке. Японцы отправились «кококу», на родину. Остатки Белой армии ушли в Корею и Маньчжурию. Едва японцы покинули Приморье, 13 ноября 1922 года в ДРВ признали Советскую власть и провозгласили республику частью РСФСР.
Атаман Семёнов на «золоте Колчака»
Любимый сюжет исторической публицистики – «золото Колчака», попавшее к японцам. Об этом писали практически все, кто отметился в исследованиях Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Начнём и мы. Вот непреложный факт: к началу Первой мировой у России был самый большой на планете золотой запас – свыше 1,34 тысячи тонн. Такое количество золота трудно представить, но попытаемся. Двухосные грузовые вагоны постройки 1892-1917 годов имели заявленную грузоподъёмность в 16,5 тонны, на деле принимали только 15 тонн. Делим количество золота на грузоподъёмность. Получаем 89 вагонов. Товарный поезд тогда состоял из 40 вагонов. Следовательно, золотой запас России можно было увезти в двух поездах с прицепом.
Кроме золота в стратегическом запасе были слитки платины, серебра, золотые и серебряные монеты, драгоценные камни, кредитные билеты, церковная утварь, «ювелирка», валюта. К началу Гражданской войны большинство этих богатств оказалось в Казани и Нижнем Новгороде. Теперь начинаются разночтения. По одним источникам, эвакуация золотого запаса была предпринята в начале 1915 года, когда австро-германские войска угрожали Варшаве, Киеву, Петрограду, где в банках хранилось немало ценностей. Пока всё – в русле логики: золотой запас эвакуировали из-за угрозы захвата немцами. По другим источникам «с началом иностранной военной интервенции и Гражданской войны перед советским правительством остро встал вопрос о сохранности государственного золотого запаса, находившегося в Петрограде». Раз опасность шла с запада, большевики, мол, и эвакуировали золотой запас на Волгу.
Не знаю, не знаю… Большевики были жёсткие люди, но не идиоты. В марте они заключили сепаратный мир с Германией, и могли надеяться, что немцы не пойдут на Петроград и Москву. С другой стороны, именно на Волгу стекались люди, не разделявшие взгляды большевиков – они-то и устроили потом самарскую «учредилку». А тут ещё «чехи» объявились. Перемещать золотой запас в 1917 году большевикам было ещё некогда (революция, батенька!), а в 1918 году уже не было смысла. Другое дело, что у авторов такой версии есть смысл лишний раз лягнуть «красных» – пусть и в сочинении на историческую тему.
Полковник Владимир Оскарович Каппель в начале августа 1918 года захватил Казань и ЧАСТЬ золотого запаса России, который в конце месяца отправили в Самару. Подчёркиваю: часть, потому что в нашей литературе неоднократно упоминалось, что каппелевцы взяли золотой запас России. То есть, весь. В Самаре тогда находился Комитет членов Всероссийского учредительного собрания – Комуч, первое российское антибольшевистское правительство. В октябре белые отступили с Волги на Урал и вывезли захваченные богатства в сорока вагонах в Омск, к адмиралу Колчаку. Верховный правитель России употребил огромные ценности на закупку продовольствия и вооружений.
Первыми в очереди снабженцев Колчака встали японцы, которые в 1919 году получили несколько омских «траншей». Анатолий Иванько пишет: «В целом японцам в виде залога за обещанные поставки в Россию вооружений выдали «аванс», оцениваемый в 54 529 880 золотых рублей. В результате во второй половине 1919 года было зафиксировано резкое увеличение размеров депозитов двух японских банков «Ёкохама Сёкин Гинко» и «Тёсэн Гинко», чего никогда не наблюдалось ни прежде, ни позже… По свидетельству японских финансовых экспертов, ни один другой банк Японии никогда не отличался подобным стремительным ростом депозитов за столь короткий отрезок времени».
По некоторым источникам, когда Колчак стал «хозяином» золота, он израсходовал с мая по декабрь 1919 года 11,5 тысячи пудов драгметалла. Это 184 тонны. Из них почти по 3 тысячи пудов досталось англичанам и японцам и чуть больше тысячи – французам.
Золотой запас Японии в 1918 году составлял 2 233 килограмма, а в 1919-м – 25 855 килограммов. То есть вырос больше, чем в 10 раз. А в 1920 году увеличился снова. Его пополнил генерал С.Н. Розанов, с 18 июля 1919 по 31 января 1920 года – главный начальник Приамурского края. Когда стало ясно, что перспектив у белых на Дальнем Востоке, особенно после расстрела Колчака, – никаких, генерал в январе 1920 года передал японцам «за процент от сделки» золото из Владивостокского отделения Российского госбанка. И отправился в Йокогаму. Там его и зарезали на тёмной улочке.
Сергей Николаевич Розанов, генерал-лейтенант, командир корпуса в Первой мировой, в 1918 году поступил в Красную Армию, был большой шишкой в Главном штабе красных. Переметнулся в Комитет членов Учредительного собрания, потом закономерно влился в омское воинство, а закончил карьеру в йокогамской канаве. Вот строки из его приказа 27 марта 1919 года: «Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдёт, а достоверные сведения о наличности таковых имеются, – расстреливать десятого». Под разбойниками генерал разумел красных партизан. Но это определение, как видим, больше относится к нему: редко кто грабил банки с таким впечатляющим результатом.
Ещё один участник пополнения японского золотого запаса – генерал-майор П.П. Петров, на тот момент начальник снабжения Дальневосточной армии. В конце 1920 года он сдал японской военной миссии «на сохранение» под расписку золота на сумму 1 миллион 270 тысяч золотых рублей. По сравнению со щедротами генерала Розанова пожертвования генерала Петрова были намного скромнее. Но японская курочка по зёрнышку клевала. Потом чуть ли не до конца Второй мировой Петров судился с японцами, требуя вернуть золото. Что он получил в результате судов – нетрудно представить.
Теперь Семёнове, герое Первой мировой, награждённом орденом Св. Георгия IV степени и Георгиевским оружием за храбрость. Воевал под Варшавой и в Курдистане. Колоритная личность, крайне противоречиво прописанная в нашей историографии. Садист, сдиравший кожу с пленных, – раз. Эстет, переводивший «Евгения Онегина» на монгольский язык, – два. Выдающийся политический и государственный деятель, вождь новой России, вступивший в союз с японцами только под давлением неумолимых обстоятельств, – три.
С января по октябрь 1920 года на территории Восточного Забайкалья существовало малоизвестное государство – Российская восточная окраина, во главе которого (или которой?) стоял Г.М. Семёнов. Столица забайкальской державы находилась в Чите. Здесь работало Читинское отделение Государственного банка, выпускавшее боны от 50 до 500 рублей. Летом 1920 года загостившиеся в Забайкалье японцы собрались домой. Григорий Михайлович понял, что под ним зашаталась табуретка. Поначалу он пытался договориться с Приморским областным правительством о создании единого государства. Но эсеры Владивостока не захотели связываться со скандальным атаманом, водящим дружбу с оккупантами. Тогда он отправил письмо японскому двору. Военный министр Японии ответил Семёнову через три недели в том смысле, что империя потеряла интерес к атаману, поскольку его влияние в русском народе слабеет.
Нас интересует пока лишь причастность атамана к золотому запасу России. Лучше всего об этом он говорит сам, без посредников и комментаторов – в стенограмме допроса 16 августа 1946 года в камере тюрьмы МГБ. Документ хранится в архиве ФСБ.
«Вопрос следователя:
В период Гражданской войны вами была захвачена часть русского золотого запаса. Где находится указанное золото?
Ответ атамана Семенова:
Я подтверждаю, что в октябре 1919 года, когда я командовал армией, мне в Чите было передано по приказу из Ставки адмирала Колчака два вагона золота на сумму 44 миллиона рублей. Из этого количества золота 22 миллиона рублей при моем отступлении из Читы были переданы на станции Маньчжурия начальником моей личной охраны полковником Мироновым (застрелился в 1926 году в Харбине) представителю японского командования полковнику Иосоме на хранение, о чём имелось специальное соглашение, подписанное мной и полковником Иосоме. В 1925-1926 году премьер-министр Японии Танаки попросил у меня подлинник этого соглашения якобы с целью сделать распоряжения о деньгах, а на самом деле соглашение было у меня отобрано и не возвращено. В моём распоряжении оставалась фотокопия соглашения, ныне хранящаяся в Шанхай-Гонконгском банке, в сейфе на имя китайского журналиста Вен-Ен-Тана, являющегося моим доверенным лицом. В 1920 году оставшаяся часть золота была вывезена на бронепоездах и сдана на станции Маньчжурия тому же представителю Японии – полковнику Иосоме. Приёмо-сдаточная ведомость, подписанная Иосоме и Мироновым, вместе с фотокопией соглашения о передаче золота на хранение японцам находится в том же сейфе того же Вен-Ен-Тана. 11 миллионов рублей были мною израсходованы на нужды армии, а часть захвачена китайцами. 20 пудов (600 тысяч рублей) в марте 1920 года были задержаны китайскими властями в харбинской таможне и конфискованы по распоряжению Джан-Цзо-Лина – генерал-губернатора трёх восточных провинций Маньчжурии. Так были использованы все 44 миллиона рублей, полученные мною в Чите».
Семёнов отдал Иосоме сначала один вагон золота, потом ещё четверть… Российский драгметалл хорошо послужил Японии в подготовке к военным авантюрам 1930-х годов. На этом фоне сегодняшние японские требования «вернуть» Южные Курилы выглядят, как бы мягче сказать… Не хватает никакого словарного запаса!
По некоторым источникам в Японии сегодня хранится российского золота до двухсот пятидесяти миллионов рублей по курсу двадцатых годов. Плюс проценты за сто лет. Всего получается около 80 миллиардов долларов США. Для сопоставления: в 2019 году военный бюджет Страны восходящего солнца составил 47,5 миллиарда долларов. В качестве компенсации таких денег японцы могли бы отдать России Хоккайдо. Хотя бы половину острова, на который Сталин собирался в 1945 году высаживать советский десант.
Опережая Третий рейх
Теперь отправимся на Сахалин, где в эти годы тоже шли разнообразные тектонические процессы с активным участием восточных «соседей».
В конце апреля 1920 года, разочаровавшись, вероятно, в собственных успехах в Приморье и Приамурье, японцы решили в круговерти чужой Гражданской захватить весь Сахалин, который по Портсмутскому договору был разделён на японскую и русскую части владения. Японцы перешли 50-ю параллель и устремились на север острова. К октябрю Сахалин оказался полностью под властью японцев.
В русской части острова было введено японское военно-гражданское управление, действие российских законов отменено. Было объявлено обязательным празднование дня рождения императора, населённые пункты получили японские названия. Всем местным жителям выдали спецпропуска. При немцах на оккупированных территориях СССР такие пропуска будут называться «аусвайсами». Малые народности пострадали больше всего. У айнов, например, отбирали лодки и все инструменты лова. За лодками напрокат они должны были обращаться к японцам.
Вот справка: «За 5 лет оккупации с острова было вывезено от 20 до 25 тысяч тонн нефти, полностью истреблены ценные пушные животные – соболь, выдра, лисица, значительно сократилось поголовье белки. Были безвозвратно утрачены ценнейшие коллекции Сахалинского краеведческого музея – образцы культуры аборигенов, палеонтологические образцы и другие экспонаты».
Японцы очень быстро создали компании для добычи нефти, угля, заготовки леса, ловли рыбы. Были захвачены лучшие рудники, где разрабатывали самые мощные пласты угля. Вырубали подчистую спелый лес. Без лимита выбирали морепродукты.
Я уже говорил, что «хозяйственная» деятельность японцев на наших территориях всегда отличалась агрессивным хищничеством. Ущерб, нанесённый России за пять лет японской оккупации Северного Сахалина, составил около 50 млн. золотых рублей. Ещё один нюанс японской оккупации: за пять лет русское население здесь сократилось вдвое – с 10,4 тысячи человек до 5,7 тысячи. Понятно, не убили их японцы – просто вынудили уйти.
В Стране восходящего солнца никогда не считали Северный Сахалин японским, в отличие от южной части острова. В пользу этого утверждения говорят факты. В префектуре Карафуто строили жильё, школы, порты. Город Тоёхара, будущий Южно-Сахалинск, возводился по современным планам, с хорошей инфраструктурой. Юг Сахалина быстро покрывался сетью железных дорог. В 1905 году японское население острова насчитывало 2 тысячи человек, а в 1920 году в Карафуто жило более 100 тысяч японцев. Зато на севере острова японцев было очень мало – в основном, чиновники, военные и старатели. Они ничего не строили, кроме постов и казарм, и занимались замечательно прибыльным грабежом ЧУЖОЙ территории. Это лишний раз говорит о безосновательности претензий японцев на сахалинские кладовые.
Советское правительство на различных международных уровнях постоянно требовало возврата Северного Сахалина. Лишь после Пекинской конференции в январе 1925 года, где было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между нашими странами, Страна восходящего солнца обязалась уйти с севера острова в мае того же года. И пришлось уйти, хотя выгребли далеко не все запасы угля и леса. Однако у японцев появлялись новые, перспективные планы на «освоение» Китая, где был важен каждый штык, и потому держать на Сахалине лишние части было накладно. Тем более что русские как бы «оплатили» уход оккупантов.
В Советско-японской конвенции от 20 января 1925 года в статье 2 записано: «Союз Советских Социалистических Республик соглашается, что договор, заключенный в Портсмуте 5 сентября 1905 года, остаётся в полной силе». То есть Сахалин остаётся разделённым. В пункте 1 протокола «Б» к договору говорится: «Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается предоставить японским концернам, рекомендованным Правительством Японии, концессию на эксплуатацию 50% площади каждого из нефтяных месторождений на Северном Сахалине». На основании ещё одной конвенции, 22 июля 1925, были подписаны также контракты о предоставлении Японии угольной концессии, а 14 декабря – нефтяной. То есть, пользуясь относительной слабостью страны Советов на дальневосточных рубежах, «соседи» нагло диктовали собственные условия сосуществования: хочешь мира – плати нефтью. Или углём.
Успехи кружат голову. Не всем – но большинству. Япония выиграла войны с Китаем и Россией, присоединила Корею, влезла в Маньчжурию. Быстрая капитализация и резкий промышленный подъём сделали Японию в начале XX века высокоразвитым государством. Во многих странах такие резкие рывки в развитии вызывают, как правило, подъём гуманитарной составляющей в обществе: в элиту выходят и физики, и лирики. Но не в Японии. Революция Мэйдзи покончила с институтом самураев, однако дух самурайский, почитание самурайских традиций сохранились. Более того, поклонение в массах «бусидо» – «пути воина» – сделало возможным стремительную милитаризацию производственной и общественной жизни Японии в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
Повторилась ситуация конца XIX века, когда у императорского трона встала в качестве влиятельных советников группа «гэнро», в большинстве своём из высокопоставленных военных. «Гэнро» подтолкнули Японию к войнам с Китаем и Россией, к аннексии Кореи и части Маньчжурии. Теперь отпрыски самураев, свежеиспечённые олигархи, раздували гегемонистские настроения. Никогда масштабно не воевавшая с соседними странами Япония в конце XIX века вкусила крови сполна, и это оказало на страну гнетущее, колдовское воздействие. Страна рыцарей и поэтов (как потом будут преподносить Японию её романтические почитатели) превратилась в страну вампиров и людоедов.
Что этому способствовало? Во-первых, мировой экономический кризис. Он поразил не только Европу, где как ответ на кризис возникли фашизм в Италии и национал-социализм в Германии, но и Соединенные Штаты, страны Азии, в первую очередь, индустриально развитую Японию. В 1929-1933 годах объём промышленного производства сократился в Японии на 32,5%, сельского хозяйства – на 40%. Это вызвало огромную безработицу. На рынке труда оказалось не занятыми свыше 3 млн. человек. Во-вторых, в Японии, как и везде в мире, экономический кризис вызвал рост протестных настроений общества.
В этой связи Хани Горо пишет: «Противоречия заключались в том, что, несмотря на существенное увеличение производства, вызванное громадным накоплением капитала, почти не было заметно какого-либо повышения жизненного уровня народных масс. Подавляющей части крестьян Японии не хватало на жизнь доходов от сельского хозяйства, и они вынуждены были заниматься еще побочным промыслом, таким, как шелководство, ткачество и т. и. В Японии побочный труд крестьян был средством борьбы с голодом, так как основная работа не могла их прокормить. Чрезвычайно низкий, нищенский уровень жизни крестьян японской деревни в условиях отсталой системы полуфеодальной эксплуатации давал возможность поддерживать заработную плату промышленных рабочих в условиях японского капитализма на предельно низком уровне».
В этих условиях олигархат сделал ставку на диктатуру. А где диктатура, там фашизм. Именно после интервенции на Дальнем Востоке и примерно до создания марионеточной империи Маньчжоу-Го (1922-1932) в Японии сложилась идеология великодержавного шовинизма, который быстро приобрёл все черты фашизма. Основу японского фашизма составляла идея «ниппонизма», признание божественной миссии Японии, которой предстояло объединить в качестве лидера все страны Восточной и Юго-Восточной Азии.
Так возник концепт «Сфера сопроцветания Великой Восточной Азии». Основой для него послужил так называемый «Меморандум Танаки». Ещё в 1927 году премьер-министр генерал Танака Гиити в секретном меморандуме начертал программу захвата Японией господства над всем миром. Претворяя в жизнь эту программу, японцы уничтожали потом миллионы человек – как их духовные братья в Германии уничтожали людей ради величия Третьего рейха.
Однако и здесь японские фашисты пошли особым путём. В Европе фашистские партии сначала добивались контроля над военным и правоохранительным аппаратом, а потом объявляли нацизм и милитаризм государственной идеологией. В Японии военные и правоохранительные структуры сначала объявили «ниппонизм» государственной идеологией, а потом подмяли под себя общественные организации и парламент. Причём «силовики» свято почитали императорскую форму правления, и глава государства просто обязан был «отвечать взаимностью».
Вот почему политическая власть в Японии всегда оставалась в руках «гэнро» и военных. Дошло до того, что членов правительства утверждали высшие военные чины. Штатские активисты организовывались в различные «Ассоциации помощи трону». Вводилась строжайшая цензура. Средства массовой информации насильственно унифицировались, недовольных журналистов просто выкидывали на улицу. Шовинистическая пропаганда зашкаливала. Экономику контролировали ассоциации промышленников и финансистов, которым передали все административные полномочия. «Самоорганизация» в деревнях и городских районах сводилась к обоюдной слежке и стукачеству, к физическому подавлению несогласных. Что это всё, если не признаки тоталитарного, фашистского государства?
В середине 1920-х годов в стране возникли милитаристские организации «Императорский путь» и «Группа контроля», возглавляемые генералами, а также подпольные и полуподпольные националистические структуры вроде ветеранской организации «Лига крови» и радикального «Общества сакуры». Таким образом, национализм и милитаризм насаждались и «сверху», и «снизу», что придавало этому процессу устойчивый и массовый характер.
О том, как эти идеи укоренялись в массах, говорит так называемый «Инцидент 15 мая» 1932 года. Группа молодых флотских офицеров, опираясь на поддержку «Лиги крови» и «Общества сакуры», организовала путч, напав на резиденции высокопоставленных чиновников, банки и электростанции. Мятежники застрелили премьер-министра Инукаи Цуёси и ещё нескольких влиятельных политиков и администраторов. Примечательно, что путчисты требовали предоставления императору неограниченной власти, хотя её у того было и так предостаточно для установления тоталитарного режима. Не добившись полного захвата «почты, телеграфа и вокзала», путчисты сдались.
Их судили военным трибуналом, и приговор в этом случае мог быть чрезвычайно суровым. Но суд получил петицию с требованием помиловать убийц. Её подписали кровью 350 тысяч (!) человек. А ещё 11 молодых людей пожелали, чтобы их казнили вместо путчистов и прислали в суд 11 отрезанных пальцев. Прогнувшись перед «общественным мнением», трибунал приговорил мятежников к минимальным срокам заключения.
Любознательные историки после Второй мировой долго разбирались, какое идеологическое сопровождение использовали японцы в строительстве людоедского государства – фашизм, парафашизм, милитаризм, шовинизм или вовсе этатизм. С научной точки зрения, наверное, интересно. С практической… В «Поднятой целине» Островнов говорил: «Хучь сову об пенёк, хучь пеньком сову». Важно, что фашизация в Японии стала ответом на усиление коммунистических идей в России и Китае.
Об этом пишет наш исследователь Валерий Викторович Клавинг в книге «Япония в войне». Он рассказывает, как дипломат Мацуока Ёсукэ, выступая в Лиге Наций, объяснил выбор своей страны: «Соседями Японии являются два крупнейших государства мира: Китай – по количеству населения и Россия – по территории… Япония, безусловно, нуждается в прочных позициях на континенте. Именно в Маньчжурии Япония видит необходимый буфер для своей безопасности… Япония надеется, что её понимают, так как объединение России и Китая на базе идей коммунизма, в противном случае, не оставляет Японии шансов на существование».
Бороться с коммунизмом Япония почему-то решила не только в Северном Китае, но и в Таиланде, Малайе, Голландской и Британской Индиях, на Филиппинах и на островах Тихого океана, где никакого коммунизма и близко не было. К тому времени под властью Страны восходящего солнца уже находилась Корея, а также остров Формоза, он же Тайвань, который был передан Японии ещё в 1895 году, после Японо-китайской войны в соответствии с Симоносекским договором. Теперь пришло время основательно укрепляться в Маньчжурии.
Базой для экспансионистской политики Японии стал фашизм, которому учёные всё ищут благопристойный и политкорректный ярлык. Но много ли политкорректности в фиговом листке! Одно вытекает из наших наблюдений: фашистская идеология великодержавия и национальной исключительности укоренилась в Японии за несколько лет до того, как подобная идеология стала государствообразующей в Третьем рейхе. Раньше японцев фашизм восприняли в качестве панацеи от общественных болезней лишь итальянцы. На то он и Рим – колыбель цивилизации…
По «Плану Оцу»
В 1928 году японское военное командование принялось разрабатывать так называемый «План Оцу», по которому армия Японии вторгалась в Китай и Маньчжурию, а потом захватывала Приморье, Приамурье, Забайкалье, Северный Сахалин, Камчатку и другие территории Дальнего Востока. СССР трижды с 1926 по 1928 год предлагал Японии заключить пакт о ненападении, и каждый раз японское правительство заявляло, что для этого «время ещё не пришло». И дело тут было не только в нежелании Японии договариваться с Советской Россией. В разгар мирового экономического кризиса обострились отношения между Японией и Соединёнными Штатами. Грубо говоря, США старались вытолкнуть японцев с рынков ресурсов в Тихоокеанском регионе. А поскольку японцы ещё не могли драться за рынки, как они это сделают потом, на Пёрл-Харборе, то приходилось им только кланяться американцам в надежде на небольшой кусочек пирога. Отказ от договора с СССР – это стремление японцев не злить заокеанских партнёров.
Сами японцы тем временем методично выполняли «План Оцу». Для начала 18 сентября 1931 года группа офицеров японской Квантунской армии устроила взрыв на железнодорожных путях контролируемой японцами Южно-Маньчжурской железной дороги у Мукдена. Затем они использовали эту провокацию как предлог для развязывания заранее спланированного вторжения в Маньчжурию и ввели войска в северо-восточные провинции. Советская сторона осудила акт агрессии – и только. Протестовать более весомо пока не хватало сил, хотя надо было – японцы разжигали костёр в огороде у соседа…
Этим же стремлением, не злить, можно объяснить и позицию СССР в 1932 году. В феврале советские товарищи разрешили японским коллегам перевозку войск и грузов по КВЖД. В этом случае было нарушено советско-китайское соглашение от 31 мая 1924 года, где говорилось, что Китайско-Восточная железная дорога – чисто коммерческое предприятие, совместно управляемое СССР и Китаем на паритетных началах впредь до выкупа КВЖД китайским правительством. Таким образом, железная дорога, «почти» китайская, использовалась, чтобы перевезти военную технику и солдат для захвата части китайской же территории.
В захваченных областях Китая японская военная администрация образовала государство Маньчжоу-Го. А через неделю советские и японские представители договорились о поставках в новорожденное государство бензина… До конца года советская сторона заключила с японской еще несколько соглашений, в частности, о продлении рыболовецкой конвенции.
Из нафталина, из ссылки, японцы вытащили наследника китайского трона Пу И (Айсиньгёро Пуи) и усадили в кресло главы марионеточного государства. Ему тогда было 26 лет. Императора тайно переправила из Шанхая в Маньчжурию его родственница, принцесса Айсиньгёро Сяньюй, ставшая при японцах организатором карательного антипартизанского соединения. Но это другая история. Кстати сказать, Пу И мог бы стать толковым администратором, если бы не опека японских «кураторов». В коммунистическом Китае бывшего императора сделали членом Народного политического консультативного совета.
Добавлю, что территория нового государственного образования составила 1 554 000 квадратных километров, в то время как историческая Япония занимала 377 944 «квадратов», то есть, без Сахалина, Курил и Тайваня. Население Маньчжоу-Го насчитывало 50 миллионов человек, а в самой Японии тогда было чуть больше 64 миллионов. Хорошее прибавление домашнего хозяйства и рачительное употребление русского золота…
Пока в Китае укреплялись японцы, советская сторона теряла здесь позиции. В 1891 году началось строительство Китайской Восточной железной дороги – через Маньчжурию к Владивостоку. Была проложена и южная ветка – к Порт-Артуру. К 1903 году дорога была в основном построена, знаменуя присутствие России на берегах Жёлтого моря. После русско-японской войны дорога из высокодоходного актива превратилась в камень на шее – принадлежала России, управлялась российскими специалистами, но проходила по территории, контролируемой бывшим противником. С каждым годом объём перевозок стремительно падал. После революции дорога как транспортная магистраль практически стала. В 1920 году японцы потребовали передать им КВЖД полностью, пообещав американцам, как отступное, совместное пользование. Китай запротестовал, его поддержали некоторые европейские державы. Японцам и их несостоявшимся американским партнёрам пришлось пока разочарованно щёлкнуть зубами. КВЖД осталась под советским управлением и обслуживанием, что не прибавило безопасности вокруг дороги. Японцы по принципу «не съем, так надкушу», подстрекали российские эмигрантские круги, многочисленных китайских «полевых командиров» нападать на советские организации, мешать работе КВЖД. Не помогла даже услужливая переброска в советских вагонах японских войск для захвата Маньчжурии.
Вообще, Северный Китай до самого начала «настоящей» войны с Японией в 1937 году, представлял «гуляй-поле», которое рвали на части самозваные генералы с собственными армиями. Их подкармливали японцы, англичане, американцы, искавшие свои выгоды в месиве гражданской войны. Самым «авторитетным» командиром был генерал Чжан Цзолинь, которого не успела «лишить дыхания» императрица Цы Си. После революции 1911 года он побывал президентом Китая. Это его атаман Семёнов на допросе в НКВД обвинял в грабеже – китайцы по приказу генерала конфисковали 20 пудов русского золота. В 1920-х годах Чжан распоряжался в Маньчжурии как в своей вотчине, получая от японцев деньги и оружие на провокации против советских организаций и поддержку белоэмигрантов.
Лучше всего о ситуации в Китае в те годы рассказал В.А. Никонов в книге «Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну»:
«Правительство Гоминьдана в Нанкине в начале 1930-х было наиболее сильным в Китае, но далеко не единственным. В Синьцзяне с Чан Кайши боролись уйгурские сепаратисты и коммунистические партизаны. На Тибете власти от имени малолетнего далай-ламы обращались за помощью к Англии и Индии, чтобы те защитили его суверенитет от Китая. В Маньчжурии властвовал командующий Северо-восточной армией Чана «молодой маршал» Чжан Сюэлян. Южная провинция Юньнань при губернаторе-милитаристе Лун Юне пользовалась автономией. В Гуанчжоу Ван Цзинвэй в 1931 году создал альтернативное нанкинскому «национальное» правительство. И, конечно же, были коммунисты, которые выжили в резне, устроенной Чан Кайши, и организовывали вылазки в Цзянси и Фуцзяни. Причем коммунистов Чан считал самыми опасными противниками внутри страны. «Коммунисты – это болезнь сердца. А японцы – это заболевание кожи», – заметил он однажды».
После смерти основателя Гоминьдана Сунь Ятсена главным кандидатом на роль объединителя Китая в 1925 году стал Чан Кайши. Он поддерживал отношения с СССР, получая существенную помощь вооружениями – от пушек до самолётов. Его главный военный советник Василий Блюхер смог выучить гоминьдановцев обращению с советской техникой и навыкам современного боя. Это помогло Чан Кайши разбить маньчжурских сепаратистов и вынудить Чжан Цзолиня вступить в союз с Гоминданом.
Укрепление власти центрального правительства Китая в Маньчжурии вовсе не устраивало японцев, и Чжан Цзолиня банально отравили «за измену». Власть в Маньчжурии захватил его сын Чжан Сюэлян. «Молодой Чжан» для начала признал правительство Чан Кайши, а потом провёл настоящий аудит КВЖД. Вот что пишет М. Альтшуллер: «Западные эксперты, к которым… прислушивался Чжан Сюэлян, утверждали, что при грамотном управлении дорога может давать ежегодный доход до 50 миллионов рублей золотом. В самом деле: советское руководство постоянно перевозило что-то бесплатно, китайские служащие крали всё, что плохо лежит. Но в действительности падение доходов было вызвано спадом в торговле».
Захват дороги «маршал Чжан» начал с провокаций против советских управленцев. Их буквально терроризировала китайская полиция. Советских специалистов заменяли китайскими, а те саботировали работу. Чжан Сюэлян собрал вокруг КВЖД 300-тысячную армию. Всё те же западные эксперты твердили, что СССР к войне с Китаем не готов. В Забайкалье тогда находился лишь 20-тысячный советский корпус. В начале июля 1929 года маньчжурские части встали по всей линии КВЖД.
Однако китайцы не учли, что советские войска лучше подготовлены и вооружены. К тому же все оперативные планы войны с Китаем разрабатывал Василий Блюхер, который хорошо знал слабые места маньчжурской армии. Советская группировка была за несколько месяцев усилена, довооружена и поддержана десантными кораблями Амурской флотилии. 12 ноября маньчжурские войска были атакованы. Слаженные действия советской авиации, артиллерии, кавалерии, речного десанта и, главное, танковых подразделений вынудили «маршала Чжана» просить мира. 20 ноября «молниеносная война» закончилась, а 3 декабря был подписан протокол, восстанавливающий на дороге советское управление.
Между прочим, в советской историографии долгие годы утверждалось, что КВЖД захватили войска Чан Кайши. А ведь он отказался помогать Чжан Сюэляну в войне с СССР… Это к вопросу об исторической справедливости.
Новое государственное образование Маньчжоу-Го в отношениях с СССР мало чем отличалось от «гуляй-поля» Чжан Сюэляна. Но за спиной Пу И находилась Япония, которая постоянно наращивала силы в Маньчжурии. Поэтому советской стороне приходилось терпеть провокационные вылазки и на КВЖД, и на советско-маньчжурской границе – они продолжались, но уже под покровительством, а нередко и при прямом участии японцев.
В 1938 году на Ленфильме вышла лента «На границе», где снялись Зоя Фёдорова, Николай Крючков и Эраст Гарин. Фильм был, конечно, пропагандистский от начала до конца, но он верно показывал непростую ситуацию на берегах пограничной реки: на одном – советские колхозники, на другом – белогвардейцы. Противники советского строя строят всяческие пакости, а наши люди мужественно отражают вражеские наскоки…
СССР не был готов к войне с Японией за влияние в Маньчжурии. Армия Страны восходящего солнца была намного боеспособней частей «маршала Чжана», которые сдавались Блюхеру дивизиями. Учитывая постоянные провокации и невозможность дать вооружённый отпор, советское правительство в 1933 году предложило Японии купить дорогу. Лучше продать корову, чем дождаться, пока её уведут…
На переговорах, которые тянулись почти два года, японцы сначала назначили оскорбительную цену за магистраль – 50 миллионов иен. 23 марта 1935 года было подписано соглашение о приобретении дороги властями марионеточного Маньчжоу-Го за 140 миллионов иен. Это составляло примерно 50 миллионов золотых рублей, что оказалось значительно меньше средств, вложенных русскими в строительство КВЖД. Эта же сумма, напомню, фигурировала при подсчёте российских потерь от оккупации японцами Северного Сахалина.
А в это время на Курилах…
Сейчас в Японии (и в России – иногда) вспоминают «железный» аргумент против того, чтобы русские владели Курилами. Мол, на протяжении всего времени, что острова принадлежали России, они никак не развивались в хозяйственном плане. А вот когда островами владела Япония…
Ну, хорошо, давайте взглянем на Курилы во времена японского суверенитета после так называемого «обменного договора», когда Япония получила Курилы, вернув России южный Сахалин. А это продолжалось не много не мало – семьдесят лет, с 1875 по 1945 год. Некоторые исследователи, в том числе, и зарубежные, отмечают, что острова свалились на Страну восходящего солнца вроде неожиданного наследства, от которого толку мало, а забот много. Одно дело – завидовать соседу, что у него большое поле, другое – обрабатывать хотя бы клочок такого поля.
Курильская гряда растянулась от Камчатки до Хоккайдо на 1 200 километров. Это при том, что протяжённость всех Японских островов составляет 2 000 километров. Ещё две цифры для полноты картины. Площадь Японского архипелага – 378 тысяч квадратных километров. А площадь Курил – 10 500 квадратов. Понятно, что при таких параметрах любой логистик сойдёт с ума, рассчитывая заброску товаров и продуктов на остров Шумшу, соседствующий с Камчаткой и населённый тремя японскими семьями.
А ещё надо сделать поправку на климат. Японцы уже на Кунашире чувствовали себя, как на Северном полюсе… Поэтому, практически, до конца XIX века новые хозяева Курил не знали, что с ними делать. Экономический потенциал островов строился на добыче морепродуктов и морского зверя. И то, в основном, на Южных Курилах. Поэтому вплоть до Второй мировой войны всё гражданское население островов составляли рыбаки и охотники, приезжавшие сюда работать «вахтовым методом». Более весомым представлялось правительству империи оборонное значение островов. Именно для минимизации военных угроз со стороны России и Соединённых Штатов Курилы обустраивались как долговременные огневые точки с небольшими гарнизонами.
Надо сказать, что Курилы в японских руках хорошо сыграли роль сдерживающего фактора для России. Наша страна лишилась выхода к Тихому океану из Охотского моря и доступа к богатейшим рыбным угодьям его южной части.
На южном Сахалине русские до самой войны 1905 года продолжали разрабатывать природную кладовую. Эти богатства «простым» японцам казались понятнее стратегической ценности Курил.
Любопытно посмотреть на статус Курильских островов в государстве. В отличие от Сахалина, Тайваня и Кореи острова никогда не были японской колониальной территорией. Поэтому после 1875 года все Курилы были включены в провинцию Нэмуро губернаторства Хоккайдо и управлялись как часть Хоккайдо. Ровесница революции Мэйдзи, деревня Нэмуро быстро стала растущим портом. Появились базы рыболовного флота, консервные фабрики, торговые и финансовые конторы. Но административная структуризация вовсе не означала успехов в хозяйственном освоении островов. Мешала их отдалённость и очень разнородное население.
На Курилах жили японцы, русские и айны. Причём айны и русифицированные, и японизированные. А ещё значительной прослойкой курильского «общества» стали бывшие каторжники с Сахалина, которые о своей национальности не задумывались. По подсчётам японцев, после передачи Курил Японии здесь проживало 700-800 айнов и около 200 русских. В путину население незначительно увеличивалось за счёт рыбаков из метрополии. При этом самой незаселённой оставалась центральная часть Курильского архипелага, где расположены относительно мелкие и скалистые острова. В начале XX века на Курилах проживало около 4 000 человек. А ко Второй мировой войне здешнее население насчитывало 18 тысяч.
За семьдесят лет японцы построили на Курилах несколько военных постов, около десятка консервных заводов – в основном, на Шумшу, Парамушире и Итурупе. И ни одного капитального жилого дома!
На первой Сахалинской областной партконференции в октябре 1947 года констатировались проблемы Курильских островов: «Отсутствие связи, отсутствие постоянного населения в Северо-Курильске, где в сентябре 1947 года 60% населения составляли граждане Кореи. Исключительно тяжелым наследством, доставшимся от японцев, явилось отсутствие жилого фонда. Люди живут в землянках».
Понятно, что японцы вовсе не обязывались встречать новых хозяев Курил благоустроенными коттеджами. Но сами-то они как жили столько лет? В норах и шалашах?
Ещё один неприятный аспект обнаружился при передаче островов по «обменному договору» 1875 года. Переместилась к самой Камчатке граница с Японией – теперь она пролегала по проливу между нашим мысом Лопатка и ставшим японским островом Шумшу. Это усугубило ситуацию, сложившуюся после продажи Соединённым Штатам Аляски, которой владела Российская Американская Компания. То есть меньше чем за десять лет (с 1867 по 1875) границы других государств резко приблизились к России. Между Россией и Америкой расстояние стало составлять 4 километра, между Россией и Японией – 10 километров. И это при том, что у нас на Камчатке и на Чукотке не было никаких военных структур, чем беззастенчиво и пользовались «соседи» вплоть до середины 1920-х годов.
Центральные Курилы, как мы уже говорили, это небольшие скалистые острова. Из-за того, что люди здесь почти не селились, острова облюбовали каланы, морские котики, тюлени. Морского зверя били здесь ещё охотники Русской Американской компании, но, когда обнаружили, что численность его падает, объявили мораторий на добычу. И придерживались этого моратория до той поры, пока запасы зверя не восстановились. Но тут острова отошли японцам. До промыслов на северных Курилах у них руки долго не доходили.
Вольготно почувствовали себя представители англосаксонского мира – браконьеры из США, Великобритании и Канады. В русском Охотском море и в акватории японских Курил они били сначала каланов, а когда почти извели эту промысловую выдру, переключились на моржей и котиков. Они также ловили рыбу, выгребая подчистую запасы особо ценных пород, совсем не задумываясь об их восстановлении, уничтожали птичьи гнездовья. Помешать им русские не могли по малочисленности, а японцы – из-за отдалённости Курильских островов от метрополии.
Если учесть, что одна шкурка калана оценивалась на Лондонском пушном аукционе до 200 фунтов стерлингов, можно себе представить меру жадности браконьеров. Суда из Иокогамы, Гонолулу, Бостона, Сан-Франциско и других «центров цивилизации» бороздили воды вокруг Курил вплоть до 1907 года, когда после русско-японской войны в Японии приняли жёсткие меры борьбы с браконьерами и организовали целый флот для этих целей, а русские учли уроки войны и начали строить на Камчатке опорные военные пункты.
Правда, японцы осознали необходимость защиты курильских ресурсов сразу после «обменного договора». Уже в 1875 году колониальное управление в Хоккайдо организовало патрулирование акватории Северных и Центральных Курил. Однако толку было мало: капитаны иностранных зверобойных судов либо бежали с места преступления, либо отказывались признавать незаконность промысла. А если у них было некоторое время до появления японских инспекторов, то просто сбрасывали за борт добычу.
В 1884 году в поездку по Курилам отправилась группа офицеров императорской армии. Задача у них были специфическая – определить оборонный потенциал островов. Но и они поразились наглости иноземцев, грабящих природную кладовую, доставшуюся Японии по договору 1875 года. В записке императору военная комиссия предлагала объявить Северные Курилы запретной территорией и значительно усилить патрулирование остальных островов. То же самое предложил потом и секретарь кабинета министров Канеко Кентаро, когда по заданию императора проверил соответствие записки офицеров курильской действительности. В результате и его доклад оказался под сукном.
А в конце XIX века проблема защиты курильской фауны потеряла актуальность. Не потому, что браконьеры ощутили ответственность перед Богом и человечеством, а потому, что на островах не осталось морского зверя. Катастрофическое сокращение фауны островов зафиксировали Россия, Япония, Англия и Соединённые Штаты, когда в 1911 году подписали договор о запрете котикового промысла.
И вот эту неспособность защитить природные ресурсы, которые достались по «обменному договору», тоже можно внести в список хозяйственных «достижений» Японии за 70 лет владения островами. Не знаю, смогли бы русские защитить природные ресурсы Курил, если бы острова продолжали находиться в юрисдикции России. Но мы сейчас говорим о японском периоде…
Более весомыми оказались успехи японцев в освоении Курил, как не покажется парадоксальным, когда они начали работать в содружестве с русскими. Опорным пунктом для них стала компания «Нитиро», которая закрепилась на Камчатке в тяжёлые для Советской России годы Гражданской войны. Отсюда флотилии рыболовных судов уходили на промыслы к северным Курилам. «Нитиро» получала от них огромную прибыль, не забывая получать и политические дивиденды.
Сначала процитирую статью «Цуцуми Сэйроку, Хирацука Цунэдзиро – двое рыбопромышленников, ставших политиками». Автор знакомит читателей с двумя друзьями и соратниками, «ушедшими в большую политику ради осуществления мечты об участии Японии в освоении богатых ресурсов России. Они призывали к налаживанию связей с Россией и СССР вне зависимости от политического строя, а во время холодной войны через свои личные связи на деле развивали отношения с нашей страной. Оба понимали, что только поддержание мира сможет обеспечить процветание Японии и России».
Особенно умиляют «мечты об участии Японии в освоении богатых ресурсов России». Но одними мечтами дело не обошлось. Цуцуми Сэйроку был тогда одним из руководителей компании «Нитиро». Его называли «королём Камчатки», а в Японии знали как крупнейшего налогоплательщика. Он оказывал влияние на внешнюю политику Японии вплоть до 1950-х годов. После установления дипломатических отношений между СССР и Японской империей в 1925 году «Нитиро» пришлось поумерить аппетиты, потому что русские ввели квотирование выловленной рыбы и заставили всех рабочих, которых нанимала компания, получать визы. Цуцуми Сэйроку, большой сторонник русско-японской дружбы, придумал, как обойти ограничительные меры друзей. Компания запустила у границ советских территориальных вод плавучие рыбоконсервные комбинаты. Теперь нельзя было контролировать ни объёмы вылова рыбы, ни перемещение иностранных рабочих.
В 1930-е годы японцы вообще отменили все запреты на лов рыбы. Причем они «подчищали» ресурсы не только у советских «друзей», но и в курильской акватории. Кроме плавучих заводов, открыли стационары на Шумшу и Парамушире. Каждое лето на северокурильских предприятиях работало до 30-40 тысяч сезонных рабочих. В основном, это были крестьяне из северных префектур Японии, но хватало и корейцев, с которыми обращались как с рабами. Впрочем, корейцев не очень тянуло на голодную и униженную родину – они умудрялись оставаться на островах и в межсезонье от путины до путины.
Ещё большее значение имели промыслы на Южных Курилах. Итуруп и Шикотан славились, например, королевским крабом, консервы из которого экспортировались во многие страны. Однако большая часть населения Южных Курил занималась ловлей трески, которая в сушеном виде хорошо шла на экспорт. На островах также собирали морские водоросли для нужд пищевой промышленности и фармацевтики.
Таким образом, постоянное население с 1875 по 1945 год было только на Южных Курилах. В конце 1930-х годов из 18 тысяч жителей всех Курил около 80 процентов находилось на Кунашире и Итурупе – чуть больше 14 тысяч человек.
Известный американский исследователь Дальнего Востока Джон Стефан пишет: «Не один японец бежал отсюда, истосковавшись по цивилизации. Несмотря на радиосвязь Южных Курил с Японией, другие средства связи развивались медленно. Пароходы нерегулярно доставляли из Нэмуро товары и почту. С ноября по апрель плавучие льды полностью сковывали судоходство. Сибирские ветры сопровождались мощными снегопадами, в результате которых затруднялось сообщение даже между соседними поселками. Страдая от вынужденного безделья по четыре месяца в году, островитяне изощрялись в изобретении лекарства от скуки. Некоторые находили утешение в алкоголе».
Некоторые – это мягко сказано…
Любопытно, что в советскую эпоху Курильские острова пережили поэтапно всё, чем отличалось японское владение. Но об этом – в своё время.
«Вторая империалистическая»
В китайской историографии началом Второй мировой войны считается нападение на Китай Японии 7 июля 1937 года. Для китайцев Вторая мировая началась на два года раньше, чем в Европе, и продолжалась восемь лет! Исследователи называют и более раннюю точку начала Второй мировой. Вот мнение В.А. Никонова:
«Многие историки считают – и не без оснований, – что Вторая мировая война началась вовсе не нападением Германии на Польшу, а еще в 1931 году нападением Японии на Китай. В самой Японии нередко говорят о 15-летней войне, начавшейся в 1931 году. В Китае официально началом Второй мировой считается июль 1937 года. В СССР с середины 1930-х говорили об уже шедшей «второй империалистической войне».
Упрощенный взгляд на советско-китайское сотрудничество во время войны с Японией сводится к огромной помощи Мао Цзэдуну и вооружённым силам коммунистов. Во всяком случае, так десятилетиями подавала наша историография отношения с Китаем. Русский с китайцем – братья навек… А другой лидер, Чан Кайши, заслужил славу головореза, клятвопреступника и вообще «очень плохого человека». На него было принято вешать всех собак за поражение в войне с японцами и за гонения на коммунистов. Впрочем, каковы без революционной ретуши китайские братья-коммунисты, мы с огромным изумлением узнали во время «культурной революции» и жлобского похода НОАК на остров Даманский.
Немного предыстории. В 1927 году Чан Кайши, сосредоточив в своих руках военную, а потому и политическую власть, решил объединить страну, для начала заключив союз с коммунистами. Про китайское гуляй-поле мы уже говорили. Чан начал великий поход на север, по сути, решив полностью включить в орбиту политического влияния Гоминьдана всю Маньчжурию. Однако методы объединения у коммунистов и гоминьдановцев оказались разными. Не по степени жестокости, а по лозунгам, под которыми эта жестокость осуществлялась. Чан быстро разругался с коммунистами и решил отставить их насильно от великого дела объединения. Однако коммунисты к тому времени уже нарастили мускулы и сумели достойно ответить Чану.
В Китае началась гражданская война, которая с небольшими паузами на зализывание ран продолжалась 23 года. За это время японцы сумели создать марионеточное Маньчжоу-Го, провели несколько столкновений с Советским Союзом, напали на США и проиграли войну. А в Китае Чан Кайши и коммунисты всё объединяли родину. Пока у коммунистов не остался весь континентальный Китай, а у Чана – Тайвань.
К 1931 году, к моменту создания Маньчжоу-Го, то есть к моменту фактического вторжения Японии, коммунисты контролировали 10 районов страны на юге – в основном, с сельским населением. Здесь создавались органы власти, аналогичные советским, и вооруженные части Красной армии Китая. В небольшом городе Жуйцзине (провинция Цзянси) с 1931 по 1934 год находилась столица Китайской Советской республики, работало Центральное рабоче-крестьянское правительство. В эти районы и были направлены карательные удары Гоминьдана, так называемые «походы». За три года войска Чана совершили пять таких походов. Шестого коммунисты не стали дожидаться – тоже ушли в поход. Впоследствии он был назван Великим и Северным и оброс пропагандистскими мифами и легендами.
5 июля 1934 года председатель Центрального правительства Китайской Советской Республики Мао Цзэдун выпустил Манифест рабоче-крестьянской Красной армии Китая о походе на Север «для отпора Японии». О сопротивлении Гоминьдану было сказано только, что Красная армия Китая отражает его пятую карательную экспедицию. В основном, повторю, речь шла о борьбе с японцами. Вот какие задачи ставили коммунисты перед китайским народом.
Решительно выступать против передачи правительством Гоминьдана территориальных прав Китая, протестовать против китайско-японских переговоров, против признания марионеточного Маньчжоу-Го.
Немедленно объявить о разрыве дипломатических отношений с Японией, аннулировать все китайско-японские соглашения; объявить всеобщую мобилизацию сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил для войны с Японией.
Вооружить весь народ Китая, создавать партизанские отряды для боевых действий против Японии, оказать поддержку рабоче-крестьянской Красной армии, отправлявшейся на Север для борьбы с Японией.
Конфисковать собственность японских захватчиков и предателей Родины, прекратить выплаты по китайско-японским займам.
Повсеместно создавать народные антияпонские организации.
Таким образом, коммунисты сосредотачивались в борьбе с японскими захватчиками, а гоминьдановцы – пока только в борьбе с коммунистами. И всё же в Советском Союзе в середине 1930-х реальной силой в антияпонском сопротивлении считали Гоминьдан во главе с Чан Кайши.
Вернусь к Манифесту товарища Мао. Он вышел в 1934 году. Именно с этого момента можно считать идеологически оформленным антияпонский фронт. В Великом походе на Север (1934-1935) Красная армия Китая прошла с боями 12 провинций и остановилась у границ Монгольской Народной Республики. Здесь был провозглашён Особый района Китая, который стал базой и антияпонской борьбы, и сопротивления Гоминьдану. Поскольку Особый район находился вблизи советской территории, Советскому Союзу стало проще поставлять коммунистам оружие, боеприпасы, продовольствие и транспорт. Это снабжение стало ещё более актуально после 7 июля 1937 года, когда Япония уже официально вторглась в Китай и началась Вторая китайско-японская война.
Японцы отправили в Китай Экспедиционную армию – около 250 тысяч штыков. Ещё примерно 150 тысяч могла предоставить армия Маньчжоу-Го, состоящая из маньчжур, дауров и монголов. Теперь непримиримым врагам, коммунистам и националистам, пришлось объединяться. Чан Кайши 23 сентября 1937 года подписал соглашение с КПК о едином антияпонском фронте. У Чана было, по разным данным, от 300 тысяч до одного миллиона солдат, у Мао Цзэдуна – 150 тысяч. Гоминьдан организовал из партизан Мао 8-ю армию (свыше 40 тысяч человек) под командованием Чжу Дэ. Вооружённые силы Китая численно превосходили армию захватчиков, но техническое обеспечение китайцев оставляло желать лучшего.
Чан Кайши самонадеянно решил бить японцев силами китайцев. Чтобы никому не остаться должным. Однако народное хозяйство Китая оказалось не готово к длительной войне. 21 августа 1937 года Советский Союз и Китай подписали договор о ненападении. Заодно приняли соглашение о предоставлении кредита Китаю в 500 млн. долларов США. Поставки оружия начались уже в октябре. В Китай пошли танки, зенитные установки, другая техника. Советские лётчики-добровольцы с начала войны участвовали в боевых действиях против японцев. Только в феврале 1938 года наши бомбардировщики уничтожили японский аэродром Ханчжоу под Шанхаем и базу ВВС на Тайване. Сегодня в городе Ухани, печально знаменитом после вспышки коронавируса, стоит памятник советским лётчикам, погибшим за освобождение Китая.
В апреле в провинции Синьцзян завершилось строительство шоссе от советской границы. По ней сразу же было переброшено большое количество артиллерийских орудий и очередная партия истребителей – более 60 машин. В первой половине 1938 года Китаю было предоставлено два кредита на общую сумму 150 миллионов долларов.
Советские договорённости с Китаем о помощи, естественно, вызывали большое недовольство в Токио. Японцы усилили провокации на советско-маньчжурской границе. Они и так не прекращались с 1931 года, когда возникло Маньчжоу-Го. В конце июня 1937 года на Амуре японцы потопили наш бронекатер – погибло 7 членов экипажа. Затем обстреляли канонерку Амурской военной флотилии. При любых раскладах в те годы СССР не смог бы остаться в стороне – война в Китае сковывала японских агрессоров и мешала им вести полномасштабный захват советского Дальнего Востока.
Советскому руководству было ясно, что одной помощью Китаю не обойтись – надо было выстраивать и собственную линию обороны. 1 июля 1938 года вышел приказ Народного Комиссариата Обороны о создании на базе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) Дальневосточного Краснознамённого фронта под командованием маршала В. К. Блюхера.
И в Японии осознавали, что если советско-китайское военное сотрудничество продолжится, то в недалёком будущем японским вооружённым силам на Дальнем Востоке придётся воевать на два фронта – причём со значительно усилившимися противниками. Поэтому, продолжая оккупацию Китая, по замыслу японских стратегов, необходимо было «отодвинуть» советские войска от границы как минимум. А как максимум – перемолоть в вооружённом столкновении силы нового фронта и надолго отбить у русских желание ввязываться в конфликты в Китае и Маньчжурии. Японские милитаристы ждали только предлога для столкновения.
Несколько замечаний по теме. Удивительно, с каким невероятным ожесточением, с какой смертной ненавистью японцы уничтожали китайцев, которые в своё время дали цивилизационную перспективу Японии. Тех самых китайцев, у которых японцы заимствовали письменность, язык, структуру государственного управления, технологии и культурные навыки. В новое время подобную ненависть в схожих исторических условиях демонстрируют украинские радикалы в отношении России, которая стала буквально колыбелью украинской нации…
Японцы своей колыбели отплатили чёрной неблагодарностью – они её просто сожгли. А украинская националистическая гадюка, удобно устроившись на российской груди, с шизофреническим упорством до сих пор грызёт эту грудь. Имя такому психологическому выверту – национальная зависть. И рационально объяснить этот запредельный феномен ненависти к собственным корням просто невозможно. Но урок истории состоит в том, что корни остаются и дают новые – здоровые – побеги. А больные – отсыхают.
