Пробуждение
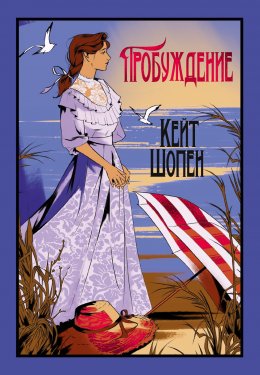
© А. А. Рудакова, перевод, 2025
© Е. С. Скворцова, иллюстрация на обложке, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Иностранка®
Пробуждение
(Роман)
Желто-зеленый попугай в висевшей за дверью клетке неумолчно талдычил:
– Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi![1] Всё в порядке!
Он немного говорил по-испански, а также на языке, которого никто не понимал, разве что пересмешник, который сидел в клетке по другую сторону двери и с одуряющим упорством выводил на ветерке свои переливчатые трели.
Лишенный возможности читать газету в мало-мальском комфорте, мистер Понтелье с недовольным видом поднялся, досадливо крякнув.
Мужчина прошел по галерее и узким «мостикам», соединявшим лебреновские коттеджи друг с другом. До этого он сидел перед дверью главного дома. Попугай и пересмешник принадлежали мадам Лебрен и имели право гомонить сколько угодно. Мистер же Понтелье обладал привилегией покидать их общество, как только они переставали его занимать.
Он остановился перед дверью своего коттеджа – четвертого, предпоследнего, считая от главного здания. И, опустившись в плетеное кресло-качалку, снова принялся за чтение газеты. День был воскресный, газета вчерашняя. Воскресные газеты до Гранд-Айла[2] еще не добрались. Мистер Понтелье уже ознакомился с обзорами рынков и сейчас старательно просматривал передовицы и новости, которые не успел проштудировать накануне, перед отъездом из Нового Орлеана.
Мистер Понтелье носил очки. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, довольно щуплого телосложения и слегка сутулый. У него были прямые, уложенные на косой пробор каштановые волосы и аккуратно подстриженная бородка.
Время от времени он отрывал взгляд от газеты и озирался по сторонам. Главное строение, чтобы отличать его от коттеджей, называли Домом. Сейчас в нем было шумнее, чем обычно. Там по-прежнему щебетали и свистели птицы в клетках. Две юные особы, двойняшки Фариваль, исполняли на фортепиано дуэт из «Цампы»[3]. Мадам Лебрен суетливо сновала с улицы в Дом и обратно, громко отдавая распоряжения дворовому мальчику всякий раз, когда заходила внутрь, и столь же громко снабжая указаниями столовую прислугу, когда выходила.
Это была моложавая, привлекательная женщина, всегда одетая в белое платье с рукавами до локтей и при ходьбе шуршавшая накрахмаленными юбками. Дальше, перед одним из коттеджей, чинно прогуливалась, перебирая четки, дама в черном. Немалая часть обитателей пансиона отправилась на люгере «Бодле» на соседний остров Шеньер-Каминада, чтобы послушать мессу. Несколько молодых людей играли под черными дубами в крокет. Там же находились и двое сыновей мистера Понтелье – крепкие мальчуганы четырех и пяти лет. За ними с рассеянным, задумчивым видом следила няня-квартеронка.
Наконец мистер Понтелье зажег сигару и, выпустив из рук газету, закурил. Он устремил взгляд на белый зонтик, медленно приближавшийся со стороны пляжа. Тот отчетливо вырисовывался между иссохшими стволами черных дубов над лужком, поросшим желтой пупавкой. Залив, истаивавший в синеве горизонта, казался очень далеким. Зонтик продолжал неторопливо приближаться. Под его белоснежным, с розовой подкладкой куполом укрывались от солнца жена мистера Понтелье и молодой Робер Лебрен. Добравшись до коттеджа, эти двое с утомленным видом уселись на верхнюю ступеньку крыльца лицом друг к другу, прислонившись к стойкам перил.
– Что за сумасбродство! Купаться в такой час, в такую жару! – воскликнул мистер Понтелье. Сам он искупался на рассвете. Вот почему утро показалось ему таким долгим. – Ты обгорела до неузнаваемости, – добавил он, оглядывая жену, словно принадлежащую ему ценную личную вещь, претерпевшую некоторый ущерб.
Миссис Понтелье подняла руки – сильные и красивые – и критически осмотрела их, закатав батистовые рукава. При этом она вспомнила о своих кольцах, которые отдала супругу перед уходом на пляж. Женщина молча протянула руку, и муж, сразу сообразив, что ей нужно, достал кольца из жилетного кармашка и положил на ее раскрытую ладонь. Миссис Понтелье нанизала украшения на пальцы, затем обняла свои колени и, покосившись на Робера, засмеялась. Кольца на ее пальцах заискрились. Робер адресовал ей ответную улыбку.
– Что такое? – с ленивым любопытством поинтересовался Понтелье, переводя взгляд с одного на другую.
Там, в воде, случилось нечто забавное, совершенный пустяк, и оба попытались наперебой поведать об этом. Но в их изложении происшествие оказалось и вполовину не столь занимательным. Молодые люди это почувствовали, и мистер Понтелье тоже. Он зевнул и потянулся. После чего встал, объявив, что не прочь отправиться в отель Клайна, чтобы сыграть партию в бильярд.
– Идемте вместе, Лебрен, – предложил он Роберу.
Но тот откровенно признался, что предпочитает остаться и поболтать с миссис Понтелье.
– Что ж, когда он тебе надоест, пошли его подальше, Эдна, – проинструктировал ее муж, собираясь уходить.
– Вот, возьми. – Молодая женщина протянула ему зонтик.
Мистер Понтелье взял его, поднял над головой и, спустившись по лестнице, зашагал прочь.
– Вернешься к ужину?! – крикнула жена ему вдогонку.
Мистер Понтелье на минуту остановился и пожал плечами. Порылся в жилетном кармашке, нащупал десятидолларовую купюру. Он не знал, вернется к ужину или нет. Все будет зависеть от компании, которая соберется у Клайна, и от того, как пойдет игра. Мужчина не сказал этого вслух, но жена его поняла и, рассмеявшись, кивнула ему на прощание.
Оба сынишки, увидев, что отец уходит, бросились за ним. Мистер Понтелье поцеловал их и пообещал принести конфет и арахиса.
У миссис Понтелье были живые, блестящие глаза золотисто-карего оттенка, примерно такого же, как ее волосы. Она имела обыкновение внезапно обращать взгляд на какой-нибудь предмет и замирать, точно теряясь в некоем потаенном лабиринте созерцания или раздумья. Брови ее были немного темнее волос. Густые, почти горизонтальные, они подчеркивали глубину взгляда. Миссис Понтелье была скорее привлекательна, чем красива. Лицо ее пленяло определенной непосредственностью выражения и неуловимо тонкой игрой черт. Манеры ее были очаровательны.
Робер свернул папиросу. Он говорил, что курит папиросы, потому что не может позволить себе сигары. В кармане у него лежала сигара, подаренная мистером Понтелье, и Робер берег ее, чтобы насладиться ею после обеда. Казалось, что с его стороны это вполне уместно и естественно. Цветом кожи Робер Лебрен не отличался от своей спутницы. Его чисто выбритые подбородок и щеки делали это сходство еще более заметным. На открытом лице молодого человека не виднелось и тени озабоченности. Его глаза вбирали и отражали лишь свет и блаженную истому летнего дня.
Миссис Понтелье взяла лежавший на крыльце веер из пальмовых листьев и стала обмахиваться. Робер выпускал изо рта легкие облачка дыма. Оба без умолку болтали обо всем подряд: о забавном эпизоде, происшедшем в воде (он вновь обрел прежнюю занимательность); о ветре, деревьях, уехавших на Шеньер соседях; о детях, игравших под дубами в крокет; о двойняшках Фариваль, которые в этот момент исполняли увертюру к «Поэту и крестьянину»[4].
Робер много говорил о себе. Он был очень молод и мало о чем имел понятие. Миссис Понтелье по той же самой причине говорила о себе мало. Оба с интересом внимали друг другу. Молодой человек рассказывал о своем намерении осенью отправиться в Мексику, где его наверняка будет ждать удача. Он всегда стремился в Мексику, но до сих пор не бывал там. А пока занимал скромную должность в одном из торговых домов Нового Орлеана, где отличное знание трех языков – английского, французского и испанского – придавало ему немалую ценность как клерку и сотруднику, ведающему корреспонденцией.
Летний отпуск Робер, как обычно, проводил с матерью на Гранд-Айле. В прежние времена, которых он не помнил, дом являлся летней загородной резиденцией Лебренов. Теперь, обстроенный дюжиной коттеджей, которые всегда занимали изысканные постояльцы из Quartier Français[5], Дом позволял мадам Лебрен поддерживать беззаботное и комфортное существование, на которое она, по всей видимости, имела право по рождению.
Миссис Понтелье поведала об отцовской плантации на Миссисипи и доме в старинном «мятликовом штате» Кентукки, где провела детство. Она была американкой с небольшой примесью французской крови, кажется никак не проявившейся. Потом молодая женщина прочла письмо от своей сестры, которая жила на востоке страны и была обручена. Робер заинтересовался. Он желал знать, какие отношения у сестер, что представляет собой отец миссис Понтелье и давно ли умерла ее мать.
Когда женщина сложила письмо, настало время переодеваться к раннему ужину.
– А Леонс все не возвращается, – произнесла она, бросив взгляд в том направлении, куда ушел муж.
Робер предположил, что он и не вернется, поскольку у Клайна полно завсегдатаев новоорлеанских клубов.
Когда миссис Понтелье, покинув молодого человека, ушла к себе, тот спустился с крыльца и направился к играющим в крокет, где оставшиеся до ужина полчаса беспечно резвился с мальчиками Понтелье, которые его просто обожали.
Мистер Понтелье вернулся от Клайна только в одиннадцать часов вечера. Он был в отличном настроении, бодр и весьма разговорчив. Его появление разбудило жену, которая, когда он пришел, уже лежала в постели и крепко спала. Раздеваясь, мистер Понтелье стал болтать с нею, пересказывая услышанные за день анекдоты, новости и сплетни. Он вытащил из брюк ворох мятых банкнот и целую пригоршню серебряных монет, которые вместе с ключами, ножом, носовым платком и прочим содержимым карманов, не разбирая, вывалил на бюро. Женщину одолевал сон, и она отвечала мужу односложно. Тому казалось весьма досадным, что супруга – единственный смысл его существования – проявляет столь мало интереса к касающимся его вещам и так мало ценит общение с ним.
Конфеты и арахис для мальчиков мистер Понтелье принести забыл. Все же он очень любил сыновей и пошел в соседнюю комнату, где те спали, чтобы взглянуть на них и убедиться, что они отдыхают с комфортом. Его проверка дала отнюдь не удовлетворительный результат. Он принялся заново устраивать детей в кроватях. Один из мальчиков начал брыкаться и бормотать что-то про корзину с крабами.
Мистер Понтелье вернулся к жене с известием о том, что Рауля лихорадит и ему нужен уход. Затем он зажег сигару, подошел к открытой двери и сел возле нее.
Миссис Понтелье была совершенно уверена, что никакой лихорадки у Рауля нет. Она сказала, что сын отправился в постель совершенно здоровым и его весь день ничто не беспокоило. Однако мистер Понтелье слишком хорошо знал симптомы лихорадки и не мог ошибиться. Он заверил жену, что у ребенка, спящего в соседней комнате, сильный жар. И упрекнул женщину в безразличии, в привычном пренебрежении сыновьями. Если не мать должна ухаживать за детьми, то кто же, черт побери?! У него самого в конторе дел по горло. Он не может быть в двух местах одновременно – добывать средства к существованию семьи на работе и следить, чтобы с ними ничего не приключилось дома. Мужчина говорил нудным, менторским тоном.
Миссис Понтелье поднялась с постели и скрылась в соседней комнате. Вскоре женщина вернулась, села на край кровати и опустила голову на подушку. Она не произнесла ни слова и отказалась отвечать мужу, когда тот стал задавать вопросы. Докурив сигару, он лег и через полминуты погрузился в сон.
Миссис Понтелье к тому времени окончательно проснулась. Она немного всплакнула, после чего вытерла глаза рукавом пеньюара. Затем задула свечу, оставленную мужем, сунула босые ноги в атласные mules[6], стоявшие у изножья кровати, и вышла на веранду, где опустилась в плетеное кресло-качалку и стала тихонько раскачиваться.
Было уже за полночь. Окна всех коттеджей были темными. Единственный слабый огонек мерцал в прихожей Дома. Вокруг не раздавалось ни единого звука, кроме уханья старой совы на верхушке черного дуба да извечного голоса моря, который в этот тихий час не был громок и разносился в ночи как заунывная колыбельная.
Слезы так быстро наворачивались на глаза миссис Понтелье, что промокший рукав ее пеньюара с ними уже не справлялся. Одной рукой она ухватилась за спинку кресла, при этом просторный рукав соскользнул к плечу, обнажив поднятую руку. Женщина уткнулась пылающим мокрым лицом в сгиб локтя и продолжала плакать, больше не пытаясь вытирать лицо, глаза, руки. Она не смогла бы сказать, отчего плакала. Эпизоды, подобные тому, что произошел в спальне, были обычны для ее замужней жизни. Прежде они как будто не имели большого значения в сравнении с безграничной добротой мужа и его неизменной преданностью, которая сделалась чем-то само собой разумеющимся и обязательным.
Не поддающаяся описанию подавленность, возникшая, кажется, в некоем неведомом уголке сознания, наполнила все существо неясной тоской. Словно туман опустился на летний день души. Оно было странным и непривычным, это настроение. Эдна не стала мысленно упрекать мужа, сетуя на судьбу, которая направила ее по тому пути, которым оба они пошли. Она просто хорошенько выплакалась. А над нею пировали москиты, кусая ее упругие, округлые предплечья, впиваясь в обнаженные ступни. Назойливо звенящим маленьким кровососам удалось взять верх над настроением, которое могло бы продержать миссис Понтелье на темной веранде еще полночи.
На следующее утро мистер Понтелье встал рано, ожидая прибытия экипажа, который должен был доставить его на пристань, к пароходу. Он возвращался в город, в свою контору, и до субботы не должен был показаться на острове. Мужчина вновь обрел самообладание, как будто несколько пошатнувшееся минувшей ночью. Ему не терпелось уехать, ибо он предвкушал оживленную неделю на Каронделет-стрит[7].
Мистер Понтелье отдал жене половину денег, которые принес из отеля Клайна накануне вечером. Она, как большинство женщин, любила деньги и приняла их с немалым удовлетворением.
– На них можно купить красивый свадебный подарок сестрице Дженет! – воскликнула миссис Понтелье, разглаживая и пересчитывая купюры.
– О! Сестрица Дженет заслуживает большего, дорогая, – рассмеялся мистер Понтелье, собираясь поцеловать жену на прощание.
Рядом вертелись мальчики, хватая отца за ноги и упрашивая привезти им в следующий раз всякой всячины. Мистер Понтелье был всеобщим любимцем, и попрощаться с ним обязательно являлись и дамы, и джентльмены, и дети, и даже няньки. Пока старый экипаж увозил его прочь по песчаной дороге, жена стояла, улыбаясь и махая рукой, а сыновья кричали ему вслед.
Несколько дней спустя из Нового Орлеана для миссис Понтелье прибыла посылка от мужа. Она была битком набита friandises – роскошными и аппетитными лакомствами. Там были отборные фрукты, паштеты, пара редких бутылок вина, восхитительные сиропы и гора конфет.
Миссис Понтелье всегда щедро делилась содержимым подобных посылок, которые привыкла получать. Паштеты и фрукты уносили в столовую, конфеты раздавали всем подряд. И дамы, привередливо и с некоторой алчностью выбирая угощение изящными пальчиками, дружно заявляли, что мистер Понтелье – лучший в мире супруг. Миссис Понтелье приходилось признавать, что ей повезло, как никому другому.
Мистеру Понтелье при всем желании было трудно убедительно определить, в чем его жена не выполняет свой долг по отношению к детям. Он скорее ощущал это, чем знал, и, проговариваясь о своем ощущении, впоследствии всегда раскаивался и полностью искупал вину.
Если один из маленьких Понтелье во время игры спотыкался и падал, то не бросался, рыдая, за утешением в объятия матери, а чаще всего поднимался, вытирал слезы со щек и песок с губ и возвращался к игре. Оба бутуза держались вместе и, не жалея кулаков и глоток, дружно отстаивали свои позиции в детских драках, как правило одерживая верх над всякими там маменькиными сынками. Няню-квартеронку они считали огромной обузой, годной лишь для того, чтобы застегивать им штанишки да расчесывать на пробор волосы, ибо аккуратная прическа с прямым пробором являлась, по-видимому, непреложным общественным установлением.
Словом, миссис Понтелье не была женщиной-матерью в ее классическом понимании. А тем летом на Гранд-Айле преобладали, кажется, именно таковые. Они были легко узнаваемы: как только их драгоценным отпрыскам грозила какая-нибудь беда, реальная или мнимая, матери тотчас принимались кудахтать, раскрывая свои ограждающие объятия. Эти женщины боготворили детей, поклонялись мужьям и почитали своим священным правом отказаться от собственной личности и отрастить себе крылья ангела-хранителя.
Многие вышеописанные дамы были восхитительны в этой роли, а одна из них являлась подлинным воплощением женской прелести и обаяния. Если бы муж ее не обожал, он был бы просто грубияном, достойным медленной мучительной смерти. Звали это создание Адель Ратиньоль. Чтобы описать эту женщину, не найдется иных слов, кроме избитых фраз, слишком часто служивших для изображения героинь старинных романов и прекрасных дам из наших грез.
В очаровании Адели не было ничего неуловимого или потаенного. Красота ее, яркая и очевидная, сразу бросалась в глаза: золотистые волосы, с которыми не могли справиться ни гребень, ни заколка; бесподобные голубые глаза, которые можно было сравнить только с сапфирами; пухлые губки, такие алые, что при взгляде на них в голову приходили лишь вишни или какие-нибудь другие яркие спелые плоды. С годами Адель Ратиньоль слегка располнела, но это, казалось, ни на йоту не умаляло грациозности каждого ее шага, позы, жеста. Никто не пожелал бы, чтобы ее белая шейка была хоть чуточку стройнее, а прекрасные руки – тоньше. Не нашлось бы рук изящнее, чем у нее. Как приятно было любоваться ими, когда мадам Ратиньоль вдевала нитку в иголку, поправляла на тонком среднем пальце золотой наперсток, делала стежки на детском ночном костюмчике, кроила лиф или слюнявчик.
Мадам Ратиньоль очень любила миссис Понтелье. Нередко она брала свое шитье и приходила посидеть с нею после обеда. Адель была у приятельницы и в тот день, когда из Нового Орлеана доставили посылку. Она расположилась в кресле-качалке и усердно корпела над миниатюрным ночным костюмчиком.
Гостья принесла миссис Понтелье его выкройку – чудо портновской мысли, целиком скрывавшее детское тельце, так что наружу выглядывали только глаза, что придавало малышу сходство с маленьким эскимосом. Этот предмет одежды предназначался для зимней поры, когда через дымоходы в дом проникали предательские сквозняки, а через замочные скважины – коварные струи беспощадного холода.
Относительно теперешних материальных потребностей своих сыновей миссис Понтелье была совершенно спокойна, в том же, чтобы делать предметом своих летних размышлений заботы о зимних ночных одеяниях, смысла она не видела. Однако, не желая показаться нелюбезной и безразличной, принесла газеты, которые расстелила на полу галереи, и под руководством мадам Ратиньоль сняла выкройку наглухо закрытого костюмчика.
На крыльце, как и в прошлое воскресенье, сидел Робер, и миссис Понтелье тоже заняла свое прежнее место на верхней ступеньке, лениво прислонившись к стойке перил. Рядом с нею стояла коробка конфет, которую она время от времени протягивала мадам Ратиньоль.
Эта дама, казалось, испытывала затруднения с выбором, но в конце концов решилась взять палочку нуги, попутно рассуждая, не слишком ли приторно это лакомство и не повредит ли оно ей. Мадам Ратиньоль была замужем семь лет и примерно каждые два года производила на свет очередного младенца. В то время у нее было трое детей, и она задумалась о четвертом. Адель вечно твердила о своем «положении». «Положение» отнюдь не было очевидным, и никто бы о нем не догадался, если бы не ее одержимость этой темой.
Робер начал разуверять мадам Ратиньоль, утверждая, что знавал даму, которая питалась нугой всю бер… Но, увидев, что миссис Понтелье залилась краской, осекся и сменил тему.
Миссис Понтелье, хотя и вышла замуж за креола, не чувствовала себя в креольском обществе непринужденно: раньше она не водила с этими людьми близких знакомств. Тем летом у Лебренов жили исключительно креолы. Все они знали друг друга и ощущали себя одной большой семьей, в которой существовали самые дружеские отношения. Отличительной особенностью этого общества, производившей на миссис Понтелье самое сильное впечатление, являлось полное отсутствие ханжества. Царящая в данной среде вольность речей поначалу была для Эдны непостижима, хотя нетрудно было усмотреть в этой вольности связь с возвышенным целомудрием, казалось присущим креольской женщине от рождения и непогрешимым.
Эдна Понтелье никогда не забудет потрясения, которое испытала, услышав, как мадам Ратиньоль рассказывает старому месье Фаривалю душераздирающую историю одних своих accouchements[8], не скрывая ни единой интимной подробности. Эдна уже начала привыкать к подобным потрясениям, но над румянцем, вспыхивавшим на щеках, была не властна. Ее появление не единожды обрывало на полуслове Робера, развлекавшего забавными историями веселую компанию замужних дам.
По пансиону передавали из рук в руки некую книгу. Когда очередь дошла до миссис Понтелье, та была повергнута в глубокое изумление. Ей казалось, что сей опус следует читать втайне и уединении, хотя остальные этого не делали, и немедленно прятать от посторонних глаз, заслышав приближающиеся шаги. Но книгу открыто подвергали разбору и непринужденно обсуждали за столом. Миссис Понтелье перестала поражаться и заключила, что увидит еще и не такие чудеса.
В тот ясный летний день на веранде собралась весьма приятная компания: мадам Ратиньоль, часто отрывавшаяся от шитья, чтобы поведать какую-нибудь историю или происшествие, и экспрессивно жестикулировавшая своими идеальными руками, а также Робер и миссис Понтелье, сидевшие без дела и время от времени обменивавшиеся словами, взглядами или улыбками, которые указывали на их уже довольно тесную дружескую близость и camaraderie[9].
В течение последнего месяца Робер жил в тени Эдны. Значения этому никто не придавал. Многие предрекали, что молодой Лебрен, приехав в отпуск, посвятит себя поклонению именно миссис Понтелье. С пятнадцатилетнего возраста, то есть вот уже одиннадцать лет, Робер каждое лето на Гранд-Айле становился преданным слугой какой-нибудь прекрасной дамы или девицы. Иногда совсем юной особы или вдовы, но чаще всего интересной замужней женщины. Два сезона подряд он грелся в лучах очарования мадемуазель Дювинь. Но после очередного лета та умерла, и Робер, прикинувшись безутешным, повергся к ногам мадам Ратиньоль в поисках тех крох сочувствия и успокоения, коими она могла его удостоить.
Миссис Понтелье нравилось сидеть и смотреть на свою прекрасную гостью, любуясь ею, точно беспорочной Мадонной.
– Догадывается ли кто-нибудь, какая жестокость скрывается за этой обворожительной внешностью? – сетовал Робер. – Она знала, что когда-то я обожал ее, и позволяла мне себя обожать. Она говорила: «Робер, подойдите, отойдите, встаньте, сядьте, сделайте это, сделайте то, посмотрите, спит ли малыш, отыщите, пожалуйста, мой наперсток, который я оставила бог знает где. Приходите и почитайте мне Доде, пока я шью».
– Par exemple![10] Мне и просить не приходилось, – усмехнулась Адель. – Вы вечно путались у меня под ногами, как липучий кот.
– Вы хотите сказать – как преданный пес? А стоило появиться на сцене Ратиньолю, со мной и обращались как с собакой: «Passez! Adieu! Allez vous-en!»[11]
– Вероятно, я боялась, как бы Альфонс не приревновал, – с обезоруживающей непосредственностью перебила его мадам Ратиньоль.
Все дружно рассмеялись. Правая рука, ревнующая к левой! Сердце, ревнующее к душе! Собственно говоря, креольский муж никогда не ревнует: он из тех, у кого омертвевшая страсть, вышедшая из употребления, сходит на нет.
Тем временем Робер, обращаясь к миссис Понтелье, продолжал повествовать о своей былой безнадежной страсти к мадам Ратиньоль, о бессонных ночах и о всепожирающем пламени, которое заставляло вскипать само море, когда он, Робер, совершал свое ежедневное погружение в его воды. А дама, о которой шла речь, продолжала орудовать иглой, мимоходом отпуская пренебрежительные комментарии:
– Blagueur… farceur… gros bête, va![12]
Робер ни разу не переходил на этот комически серьезный тон, оставаясь с миссис Понтелье наедине. И Эдна никогда не знала наверняка, как его следует понимать. В данный момент она была не в силах угадать, сколько в этом тоне насмешки и сколько искренности. Было ясно, что Робер нередко говорил мадам Ратиньоль слова любви, отнюдь не рассчитывая, что их воспримут всерьез. Эдна радовалась, что сама не сделалась объектом подобного внимания. Это было бы неприемлемо и малоприятно.
Миссис Понтелье взяла с собой принадлежности для рисования, которым иногда по-дилетантски баловалась. Ей были по душе эти любительские занятия. Она находила в них удовлетворение такого рода, которое не давала ей никакая другая деятельность.
Эдна давно подступалась к портрету мадам Ратиньоль. Никогда еще Адель не казалась ей более заманчивой моделью, чем в это мгновение, когда сидела на крыльце, точно некая чувственная Мадонна, и отблески угасающего дня еще ярче подчеркивали ее великолепный румянец.
Робер пересел к миссис Понтелье, устроившись ступенькой ниже, чтобы понаблюдать за ее работой. В ее обращении с кистями проглядывали определенные легкость и свобода, обусловленные не долгим и близким знакомством с принадлежностями для рисования, а врожденными способностями. Молодой человек с пристальным вниманием следил за движениями миссис Понтелье, отпуская по-французски краткие одобрительные замечания, обращенные к мадам Ратиньоль:
– Mais ce n’est pas mal! Elle s’y connait, elle a de la force, oui[13].
Один раз, забывшись, Робер спокойно положил голову на плечо миссис Понтелье. Она с тем же спокойствием отстранила его. Он повторил свой проступок. Эдна могла приписать его лишь бессознательному побуждению, однако это не значило, что следует терпеть подобное поведение. Она не выразила протеста, но вновь отстранила Робера, по-прежнему спокойно и вместе с тем твердо. Он не принес никаких извинений.
Завершенный портрет не имел ничего общего с мадам Ратиньоль. Та была весьма разочарована, обнаружив, что изображение совсем на нее не похоже. Впрочем, работа вышла вполне недурная и во многих отношениях достойная. Миссис Понтелье, очевидно, так не показалось. Критически осмотрев этюд, она размазала по его поверхности краску и скомкала бумажный лист.
На крыльцо взбежали мальчики, за ними на почтительном расстоянии, как они того требовали, следовала квартеронка. Миссис Понтелье велела сыновьям отнести ее краски и принадлежности в дом. Перед этим она попыталась было задержать их, чтобы немного поговорить с ними и приласкать. Но карапузы были очень серьезны. Они явились лишь для того, чтобы исследовать содержимое коробки конфет. Протянув пухлые ручки со сложенными лодочкой ладошками в тщетной надежде, что их наполнят доверху, дети безропотно приняли то количество конфет, которое мать решила им выдать, после чего убежали.
Солнце уже клонилось к западу, нежный, томный бриз, дувший с юга, был напоен обольстительным ароматом моря. Дети, только что переодетые, собирались идти играть под дубами. Они переговаривались высокими, пронзительными голосами.
Мадам Ратиньоль сложила шитье, поместив наперсток, ножницы и нитки внутрь скатанной в рулон материи, который скрепила булавкой. Неожиданно она пожаловалась на дурноту. Миссис Понтелье побежала за одеколоном и веером. Затем она обтерла лицо мадам Ратиньоль одеколоном, а Робер с излишним усердием принялся обмахивать ее веером. Приступ вскоре миновал, и миссис Понтелье не могла не задаться вопросом, не повинно ли в его возникновении чересчур богатое воображение, ведь румянец с лица ее подруги так и не сошел. Она стояла и смотрела, как эта красавица вышагивает по длинным галереям с грацией и величием, присущим, как иногда полагают, королевам. Навстречу мадам Ратиньоль бросились ее малыши. Двое уцепились за ее белые юбки, третьего она взяла у няни и, осыпая тысячами нежностей, понесла сама. Хотя, как всех давно известили, доктор запретил ей поднимать даже булавку!
– Вы пойдете купаться? – осведомился Робер у миссис Понтелье.
Это был не столько вопрос, сколько напоминание.
– О нет, – ответила та с некоторой нерешительностью. – Я устала и, пожалуй, не пойду. – Она перевела взгляд с лица молодого человека на залив, чей звучный рокот доносился до нее точно ласковый, но повелительный призыв.
– Да полно вам! – настаивал он. – Нельзя пропускать купания. Ну же. Вода, должно быть, восхитительна. Она вам не повредит. Идемте!
Робер взял ее большую шляпу из грубой соломки, висевшую на крючке за дверью, и надел Эдне на голову. Они спустились с крыльца и вместе направились к пляжу. Солнце клонилось к западу, дул нежный, теплый бриз.
Эдна Понтелье не смогла бы сказать, почему, желая пойти с Робером на пляж, она должна была сперва отказаться и только потом подчиниться одному из двух противоположных импульсов, которые ею двигали.
Внутри нее начинал смутно брезжить некий свет – свет, который, указывая путь, запрещает по нему следовать. В тот ранний период он лишь приводил ее в замешательство. Он пробуждал в ней мечты, задумчивость, неясную тоску, охватившую ее в ту полночь, когда она предавалась слезам. Словом, миссис Понтелье начинала понимать, какое место занимала во вселенной как человеческое существо, и осознавать свои личные взаимоотношения с миром внутри и вокруг себя. Может показаться, что на душу двадцативосьмилетней молодой женщины обрушился тяжкий груз мудрости – возможно, куда более весомый, чем тот, которым Дух Святой обычно соблаговолит удостаивать представительниц ее пола.
Но истоки вещей, особенно истоки мира, всегда неясны, запутанны, беспорядочны и чрезвычайно пугающи. Сколь немногие из нас возникают из подобных истоков! Какое множество душ гибнет в этом хаосе!
Голос моря чарует. Он никогда не смолкает: шепчет, шумит, рокочет, зовет душу немного поблуждать в пучинах уединения, затеряться в лабиринтах внутреннего созерцания. Голос моря обращается к душе. Прикосновение моря чувственно, море заключает тело в свои нежные, крепкие объятия.
Миссис Понтелье была не из тех женщин, что склонны к откровенности: до сих пор это свойство противоречило ее натуре. Даже будучи ребенком, она жила собственной маленькой жизнью, недоступной окружающим. В раннем детстве Эдна инстинктивно приобщилась к двойному существованию – внешнему, подчиняющемуся правилам, и внутреннему, вопрошающему.
Тем летом на Гранд-Айле она немного приспустила мантию сдержанности, в которую всегда куталась. Возможно, то есть скорее всего, к этому ее разными способами побуждали как неуловимые, так и явные влияния, но наиболее очевидным было влияние Адели Ратиньоль.
Сперва Эдну, обладавшую чувственной восприимчивостью к красоте, привлекло невероятное физическое очарование креолки. Затем – открытость всего ее существования, которое было насквозь видно каждому и составляло столь разительный контраст с обычной сдержанностью самой Эдны, что и могло послужить связующим звеном. Кто скажет, из каких металлов боги куют незаметные узы, которые мы именуем симпатией, но вполне можем назвать и любовью.
Как-то утром обе женщины отправились на пляж вместе, рука об руку, под огромным белым зонтом от солнца. Миссис Понтелье уговорила мадам Ратиньоль не брать детей, хотя не сумела убедить ее оставить дома свернутое рулоном рукоделие: Адель умолила подругу позволить ей сунуть его в свой глубокий карман. Каким-то необъяснимым образом дамам удалось сбежать от Робера.
Путь к пляжу был не из легких, поскольку представлял собой длинную песчаную дорожку, на которую часто и внезапно вторгались окаймлявшие ее с обеих сторон спутанные растения. По обе стороны дорожки тянулись желтые заросли пупавки. За ними находились многочисленные огороды, перемежавшиеся небольшими плантациями апельсиновых и лимонных деревьев. Их далекие темно-зеленые купы искрились на солнце.
Обе женщины были довольно высоки. Мадам Ратиньоль обладала более женственными формами и походила на матрону. Сколь привлекательно телосложение Эдны Понтелье, вы постигали незаметно для себя. Удлиненные очертания ее тела были ясными и симметричными. Время от времени тело это принимало бесподобные позы, в нем не было ни малейшего сходства с шаблонной элегантностью модных картинок. Невзыскательный случайный наблюдатель, проходя мимо, мог и не бросить второго взгляда на эту фигуру. Но человек более восприимчивый и проницательный разглядел бы благородную красоту лепки, грациозную строгость осанки и движений, которые выделяли Эдну Понтелье из толпы.
В то утро на ней было легкое муслиновое платье – белое, с вертикальной волнистой коричневой полосой, проходящей сверху донизу, а также белый льняной воротничок и большая соломенная шляпа, которую она сняла с крючка у двери. Шляпа небрежно покоилась на золотисто-каштановых волосах, слегка волнистых, тяжелых и плотно прилегавших к голове.
Мадам Ратиньоль, куда более заботившаяся о цвете лица, накинула на голову газовую вуаль. На руках у нее были лайковые перчатки с раструбами, защищавшими запястья. Одета она была в белоснежное платье с пышными оборками, очень ей шедшее. Обильно задрапированные, развевающиеся наряды, которые носила Адель, оттеняли ее роскошную, ослепительную красоту намного лучше, чем строгие линии.
Вдоль пляжа размещалось несколько купален грубой, но прочной конструкции, с небольшими закрытыми галереями, обращенными к воде. Каждая купальня состояла из двух отделений, и каждое семейство, отдыхавшее у Лебренов, располагало своим отделением, снабженным всеми необходимыми принадлежностями для купания и любыми другими удобствами по желанию гостей.
Женщины не собирались купаться; они явились на пляж просто для того, чтобы прогуляться и побыть наедине у воды. Отделения Понтелье и Ратиньоль находились под одной крышей и примыкали друг к другу. Миссис Понтелье в силу привычки захватила с собой ключ. Отперев дверь своей купальни, она вошла туда и вскоре вышла с ковриком, который расстелила на полу галереи, и двумя огромными, набитыми волосом подушками, которые прислонила к фасаду постройки.
Дамы устроились рядышком в тени галереи, откинувшись на подушки и вытянув ноги. Мадам Ратиньоль сняла вуаль, вытерла лицо весьма изящным носовым платком и стала обмахиваться веером, который всегда носила с собой, подвешивая к одежде на длинной узкой ленте. Эдна сняла воротничок и расстегнула платье на шее. Потом забрала у мадам Ратиньоль веер и начала обмахивать себя и свою приятельницу. Было очень жарко, и некоторое время притомившиеся женщины лишь обменивались замечаниями о зное, солнце и его слепящих лучах. Но с моря дул бриз, порывистый, сильный ветер, образовывавший на воде пену. Он развевал юбки женщин, и им пришлось повозиться со шпильками и шляпными булавками, поправляя, вынимая и втыкая их заново. На некотором отдалении в воде плескалось несколько человек. В этот час на пляже было очень тихо. На галерее соседней купальни читала свои утренние молитвы дама в черном. Двое юных влюбленных, обнаружив, что под детским навесом никого нет, забрались туда и обменивались страстными признаниями.
Эдна Понтелье, осмотревшись, наконец устремила глаза на море. День был ясный, и взгляд ускользал в голубую даль небес, где над горизонтом лениво повисло несколько белых облачков. В направлении острова Кэт виднелся треугольный парус, другие далекие паруса в южной стороне казались почти неподвижными.
– О ком… о чем вы думаете? – спросила Адель у приятельницы, за лицом которой наблюдала с чуть удивленным вниманием, заинтригованная выражением самоуглубленной сосредоточенности, которое словно подчинило себе все черты и придало им величавое спокойствие.
– Ни о чем, – вздрогнув, ответила миссис Понтелье и тут же добавила: – Как глупо! Однако, сдается мне, этот ответ на подобный вопрос мы даем инстинктивно. Погодите, – продолжала она, запрокидывая голову и прищуривая прекрасные глаза, засверкавшие как два ярких огонька, – дайте-ка вспомнить. Вообще-то, я не осознавала, что о чем-то думала, но, возможно, мне удастся проследить ход своих мыслей.
– О, не берите в голову! – рассмеялась мадам Ратиньоль. – Я не настолько въедлива. На сей раз оставлю вас в покое. Сейчас слишком жарко, чтобы размышлять, особенно о мышлении.
– Но хоть забавы ради, – настаивала Эдна. – Прежде всего, вид водной глади, простирающейся так далеко, и эти неподвижные паруса на фоне голубого неба образовали восхитительную картину, и мне просто хотелось сидеть и любоваться ею. Знойный ветер, дувший мне в лицо, заставил меня вспомнить – без какой-либо очевидной связи – летний день в Кентукки и луг, казавшийся совсем маленькой девочке, бредущей в траве, что была выше пояса, столь же огромным, как океан. Шагая по лугу, она раскидывала руки, точно плыла, и раздвигала высокую траву, как раздвигают воду. О, теперь я вижу связь!
– И куда же вы направлялись в тот день через луг?
– Сейчас уже не помню. Я просто шла наискосок через большое поле. Капор загораживал мне обзор. Я видела только зеленое пространство перед собой, и мне чудилось, будто я обречена шагать вечно и никогда не доберусь до его конца. Не помню, что я ощущала: страх или радость. Должно быть, мне было интересно. Скорее всего, это происходило в воскресенье, – засмеялась Эдна, – и я сбежала от молитв, от пресвитерианской службы, которую отец читал столь мрачно, что от одной мысли об этом у меня и теперь мурашки бегут по коже.
– И с тех пор вы всегда избегаете молитв, ma chère[14]? – весело спросила мадам Ратиньоль.
– Нет! О нет! – поспешила ответить Эдна. – В те дни я была несмышленой малышкой, бездумно следовавшей ложным импульсам. Напротив, в какой-то период моей жизни религия приобрела прочную власть надо мной – с тех пор, как мне исполнилось двенадцать, и до… до… ну, полагаю, до сего времени, хотя я мало размышляла об этом, просто руководствуясь привычкой. Но, вы знаете, – женщина сделала паузу и, устремив быстрые глаза на мадам Ратиньоль, немного подалась вперед, приблизив свое лицо к лицу приятельницы, – этим летом мне иногда кажется, что я снова брожу по зеленому лугу, брожу праздно, бесцельно и бездумно.
Мадам Ратиньоль накрыла своей ладонью руку миссис Понтелье, лежавшую рядом. Видя, что Эдна не убирает руку, она крепко и пылко сжала ее. И даже нежно погладила другой рукой, пробормотав вполголоса:
– Pauvre chérie[15].
Сперва этот порыв немного смутил миссис Понтелье, но вскоре она охотно покорилась участливым ласкам креолки. Эдна не привыкла к явным и откровенным проявлениям привязанности, ни собственным, ни чужим. Они с младшей сестрой Дженет в силу прискорбной привычки часто ссорились. Старшая сестра Эдны, Маргарет, была особой чопорной и важной, вероятно, оттого, что слишком рано взяла на себя обязанности хозяйки дома, поскольку мать девочек умерла, когда те были совсем маленькие. Маргарет не была пылкой, она была практичной. У Эдны время от времени появлялись подруги, но, случайно или нет, все они, казалось, принадлежали к одному типу – замкнутому. Она так и не осознала, что ее собственная сдержанность была по большей части, если не всецело, обусловлена именно этим. В школе самая близкая ее подруга обладала весьма незаурядными умственными способностями, писала велеречивые сочинения, которыми Эдна восхищалась и которым стремилась подражать. С этой девочкой они вели возвышенные беседы об английских классиках, а порой – религиозные и политические споры.
Эдна часто дивилась одной своей наклонности, которая иногда нарушала ее внутренний покой, не порождая никаких внешних проявлений. Она помнила, что в очень раннем возрасте – возможно, в ту пору, когда бороздила океан колышущейся травы, – была страстно влюблена в представительного кавалерийского офицера с печальными глазами, который гостил у ее отца в Кентукки. Она ни на шаг от него не отходила и не могла отвести глаз от его лица с ниспадающей на лоб черной прядью, чем-то походившего на лицо Наполеона. Но кавалерийский офицер незаметно исчез из ее жизни.
В другой раз ее чувства глубоко затронул джентльмен, навещавший молодую даму с соседней плантации. Это случилось после того, как семья переселилась в Миссисипи. Молодой человек был помолвлен с той дамой, и иногда после обеда они заглядывали в гости к Маргарет, приезжая в коляске. Эдна была совсем юной девочкой, только становившейся подростком, и ее жестоко терзало осознание того, что в глазах помолвленного молодого джентльмена она – совершенное ничто. Но и он покинул ее грезы.
Эдна была уже взрослой молодой женщиной, когда ее настигло то, что она считала апогеем своей судьбы. Преследовать ее воображение и будоражить чувства начали лицо и фигура великого трагика. Продолжительность этой страсти придала ей ощущение подлинности. Безнадежность окрасила ее в возвышенные тона великой любви.
Фотография трагика в рамке стояла у Эдны на столе. Любой может иметь у себя портрет известного актера, не вызывая подозрений и пересудов. (Таково было лелеемое ею пагубное соображение.) В присутствии других она восхищалась его выдающимися способностями, передавая снимок по кругу и особо отмечая сходство с оригиналом. А оставшись одна, иногда брала рамку с фотографией и страстно целовала холодное стекло.
Ее брак с Леонсом Понтелье был чистой случайностью, в этом отношении напоминая многие другие браки, маскирующиеся под веления судьбы. Эдна встретила его в разгар своей великой тайной страсти. Он тотчас влюбился, как это часто бывает у мужчин, и добивался ее руки с серьезностью и пылом, которые не оставляли желать ничего лучшего. Леонс нравился Эдне, его безоговорочная преданность ей льстила. Она вообразила, что у них есть общность мыслей и вкусов, но ошиблась в этом. Прибавьте к этому яростное неприятие ее отцом и сестрой Маргарет брака с католиком – и вам уже не нужно будет доискиваться причин, побудивших ее принять предложение месье Понтелье.
Вершина блаженства, которой мог бы стать брак с трагиком, в этом мире была ей не суждена. Как преданная жена человека, который ее боготворил, Эдна сочла, что, навсегда закрыв за собой врата в царство романтики и грез, займет вполне достойное место в реальном мире.
Но трагик быстро исчез, присоединившись к кавалерийскому офицеру, помолвленному молодому джентльмену и нескольким другим, и Эдна оказалась лицом к лицу с реальностью. Она привязалась к мужу, с каким-то необъяснимым удовлетворением осознав, что в ее чувстве нет ни капли страсти или избыточной и наигранной пылкости, которые могли бы ему угрожать.
Ее любовь к детям была неровной, импульсивной. Порой она страстно прижимала их к сердцу, порой забывала о них. В прошлом году часть лета мальчики провели у своей бабушки Понтелье в Ибервиле. Уверенная в том, что сыновья счастливы и благополучны, Эдна по ним не скучала, если не считать редких приступов сильной тоски. Их отсутствие приносило ей определенное облегчение, хотя она не признавалась в этом даже себе самой. Оно как будто освобождало ее от ответственности, которую она безоглядно взвалила на себя и для которой Судьба ее не предназначила.
В тот летний день, когда они с мадам Ратиньоль сидели, обратив лица к морю, Эдна не открыла ей всего. Однако поведала многое. Ее голова лежала на плече Адели, щеки пылали, звук собственного голоса опьянял, и непривычный привкус откровенности кружил голову точно вино или первый глоток свободы.
Послышались приближающиеся голоса. Это был разыскивавший их Робер, окруженный толпой ребятишек. С ним были двое маленьких Понтелье, а на руках он нес маленькую дочку мадам Ратиньоль. Рядом шли другие дети, а за ними с недовольным и покорным видом следовали две няньки.
Дамы тотчас встали и начали отряхивать юбки и разминать мышцы. Миссис Понтелье забросила подушки и коврик в купальню. Дети умчались к навесу и выстроились там в ряд, глазея на вторгшихся под него влюбленных, которые до сих пор обменивались клятвами и вздохами. Молодые люди поднялись, выражая лишь безмолвный протест, и побрели искать другое пристанище. Дети заняли место под навесом, и миссис Понтелье подошла, чтобы присоединиться к ним. Мадам Ратиньоль попросила Робера проводить ее до дома, пожаловавшись на судороги в конечностях и одеревеневшие суставы. Она оперлась на его руку, тяжело повиснув на ней, и они ушли.
– Сделайте мне одолжение, Робер, – промолвила прелестная спутница молодого человека, как только они медленно зашагали к дому.
Опираясь на его руку под округлой тенью зонтика, который Робер держал у них над головами, она посмотрела прямо ему в лицо.
– Пожалуйста, я к вашим услугам, – ответил он, заглядывая в ее глаза, полные озабоченных раздумий.
– Я попрошу только об одном: оставьте миссис Понтелье в покое.
– Tiens![16] – воскликнул Робер, внезапно разразившись ребячливым смехом. – Voilà que Madame Ratignolle est jalouse![17]
– Чепуха! Я не шучу. Это серьезно. Оставьте миссис Понтелье в покое.
– Почему? – спросил молодой человек, которого просьба его спутницы заставила тоже посерьезнеть.
– Миссис Понтелье не такая, как мы. Эта женщина на нас не похожа. Она может совершить фатальную ошибку, если воспримет вас всерьез.
Лицо Робера вспыхнуло от досады. Сняв шляпу, молодой человек стал раздраженно похлопывать ею по ноге.
– А почему она не должна воспринимать меня всерьез? – резко осведомился он наконец. – Разве я комедиант, клоун, чертик из табакерки? Почему? О вы, креолы! Терпения на вас не хватает! Меня что, вечно будут считать гвоздем развлекательной программы? Надеюсь, миссис Понтелье уже воспринимает меня всерьез. Надеюсь, у нее достает проницательности видеть во мне не только blagueur[18]. Если бы я счел, что есть какие-то сомнения…
– Довольно, Робер! – прервала его возбужденные излияния мадам Ратиньоль. – Вы не думаете, что́ говорите. В ваших словах примерно столько же рассудительности, сколько мы вправе ожидать от одного из детей, играющих там, на песочке. Если бы вы когда-либо ухаживали за кем-то из здешних замужних дам с намерением быть убедительным, вы не были бы тем джентльменом, которого все мы знаем, и не смогли бы общаться с женами и дочерьми людей, которые вам доверяют. – Мадам Ратиньоль высказала то, что, по ее мнению, являлось законом и бесспорной истиной.
Молодой человек недовольно передернул плечами и бросил хмурый взгляд на нее.
– О! Вот те раз! – Он с ожесточением нахлобучил шляпу на голову. – Вам следует понимать, что столь нелестные вещи друзьям не говорят.
– Разве все наше общение должно состоять из обмена комплиментами? Ma foi![19]
– Неприятно, когда женщина сообщает тебе… – продолжал Робер, не обращая внимания на ее слова, однако внезапно оборвал себя: – Вот если бы я был таким, как Аробен… Помните Алсе́ Аробена и ту историю с женой консула в Билокси?
И Лебрен поведал историю Алсе Аробена и жены консула, потом еще одну, о теноре французской оперы, получавшем неподобающие письма, а также другие истории, серьезные и веселые. В конце концов миссис Понтелье с ее предполагаемой склонностью принимать молодых людей всерьез была, судя по всему, забыта.
Мадам Ратиньоль, когда они добрались до ее коттеджа, ушла к себе, чтобы часок отдохнуть, что считала весьма полезным. Прежде чем покинуть свою спутницу, Робер попросил у нее прощения за досаду (он назвал ее грубостью), с какой воспринял ее благонамеренное предостережение.
– Вы допустили одну ошибку, Адель, – заявил молодой человек с легкой улыбкой. – Нет ни малейшего вероятия, чтобы миссис Понтелье когда-нибудь восприняла меня всерьез. Вам следовало предостеречь меня самого, чтобы я не воспринимал себя всерьез. Тогда ваш совет мог бы иметь некоторое влияние и дать мне повод для размышлений. Au revoir[20]. Однако у вас усталый вид, – заботливо добавил он. – Не желаете ли чашечку бульона? Хотите, приготовлю вам пунш? Позвольте мне добавить туда капельку ангостуры.
Мадам Ратиньоль приняла его приятное и разумное предложение выпить бульона. Робер сам отправился на кухню, занимавшую отдельное строение в стороне от коттеджей, на задворках Дома, и собственноручно принес ей золотисто-коричневый бульон в изящной чашке севрского фарфора с парочкой слоеных крекеров на блюдце.
Адель высунула из-за завесы, прикрывавшей дверной проем, обнаженную белую руку и взяла из его рук чашку. Она сказала ему, что он bon garçon[21], и слова эти были вполне искренни. Робер поблагодарил ее и вернулся к Дому.
В этот момент на территорию пансиона вошли влюбленные. Они склонялись друг к другу, точно черные дубы над морем. Под их ногами не чувствовалось земли. Эти двое вполне могли бы перевернуться вверх тормашками, столь уверенно ступали они по голубому эфиру. Дама в черном, тащившаяся вслед за ними, выглядела чуть более изнуренной и бледной, чем обычно. Миссис Понтелье и детей видно не было. Робер вгляделся в даль, ища их призрачные силуэты. Они, несомненно, не явятся до самого ужина.
Молодой человек поднялся в комнату матери. Это помещение, все составленное из причудливых углов под странным наклонным потолком, располагалось наверху, под самой крышей Дома. Два широких мансардных окна смотрели на залив, охватывая всю его ширь, насколько доставало человеческого глаза. Обстановка комнаты была легкая, свежая и практичная.
Мадам Лебрен деловито строчила на швейной машинке. На полу сидела маленькая чернокожая девочка и руками приводила в движение подножку. Креольская женщина не подвергает свое здоровье опасностям, которых можно избежать.
Робер пересек комнату и уселся на широкий подоконник одного из окон. Затем достал из кармана книгу и начал энергично, судя по четкости и частоте, с какой он переворачивал страницы, читать. Оглушительно грохотала швейная машинка – громоздкое устарелое устройство. В перерывах между строчками Робер и его мать вели бессвязный диалог.
– Где миссис Понтелье? – спросила женщина.
– На пляже с детьми.
– Я обещала одолжить ей Гонкуров. Не забудь снести книжку вниз, когда будешь уходить. Она на книжной полке над маленьким столиком.
И на протяжении следующих пяти – семи минут – только «бух, бух, бух, бам».
– Куда собирается в экипаже Викто́р? – поинтересовался Робер.
– В экипаже? Виктор?
– Да, там, перед домом. Кажется, он надумал куда-то ехать.
– Позови его.
Бух, бух!
Робер тут же издал пронзительный свист, который, вероятно, был слышен даже на пристани, и уверенно констатировал:
– Он и головы не поднимет.
Мадам Лебрен, бросив шить, подбежала к окну.
– Виктор! – крикнула она и, помахав носовым платком, крикнула снова.
Юноша же, не оборачиваясь, сел на козлы и пустил лошадь галопом.
Мадам Лебрен вернулась к машинке, пунцовая от досады. Виктор был младший сын и брат – tête montée[22], с характером, напрашивавшимся на расправу, и волей, которую не смог бы сломить ни один топор.
– Только прикажи, и я готов вколотить в его башку любое количество ума, какое она в состоянии удержать.
– Если бы был жив ваш отец!
Бух, бух, бух, бам!
Мадам Лебрен имела твердое убеждение, что поведение вселенной и всего с нею связанного несомненно было бы более осмысленным и правильным, не переместись месье Лебрен в первые же годы их супружеской жизни в иные миры.
– Что слышно от Монтеля? – прервал недолгую паузу Робер.
Монтель был джентльмен средних лет, чьи тщеславные помыслы и желания на протяжении последних двадцати лет сводились к тому, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся в семействе Лебрен после ухода месье Лебрена.
Бух! Бух! Бам! Бух!
– У меня где-то завалялось его письмо. – Мадам Лебрен заглянула в ящик швейной машинки и отыскала послание на дне рабочей корзинки. – Он просит передать тебе, что будет в Веракрусе в начале следующего месяца…
Бух! Бух!
– …И если ты еще намерен присоединиться к нему…
Бам! Бух! Бух! Бам!
– Почему ты не сообщила мне раньше, мама? Ты ведь знаешь, я хотел…
Бух! Бух! Бух!
– Смотри, миссис Понтелье возвращается с детьми с пляжа.
– Она опять опоздает на обед. Эта женщина вечно выходит к столу в последнюю минуту.
Бух! Бух!
– Куда ты, сын?
– Где, ты сказала, Гонкуры?
Зала была ярко освещена, каждая лампа включена на всю возможную мощь, так чтобы при этом не чадить и не угрожать взрывом. Лампы были прикреплены к стене через равные промежутки, окружая все помещение. Кто-то нарвал ветвей апельсиновых и лимонных деревьев и сплел из них изящные гирлянды, которые повесили между светильниками. Темная зелень листвы ярко выделялась и поблескивала на фоне белых муслиновых занавесей на окнах, которые развевались, трепыхались и хлопали, повинуясь капризной воле свежего бриза, налетавшего с залива.
Был субботний вечер. После конфиденциального разговора, состоявшегося между Робером и мадам Ратиньоль по дороге с пляжа, минуло несколько недель. К воскресенью в пансион наехало необычно много мужей, отцов, друзей. И члены семей при существенной поддержке мадам Лебрен стремились должным образом развлечь их. Обеденные столы сдвинули в дальний конец залы, стулья расставили рядами и группами. В маленьких семейных компаниях уже успели поделиться новостями и обменяться домашними сплетнями. Теперь все явно были расположены расслабиться, расширить круг конфидентов и придать беседе более общий характер.
Многим детям было позволено пойти спать позже обычного. Несколько ребятишек лежало на полу на животе, разглядывая странички цветных комиксов, привезенных мистером Понтелье. Они делали это с разрешения мальчиков Понтелье, давших почувствовать свой авторитет.
Среди доступных, вернее, предложенных развлечений были музыка, танцы и пара декламаций. Однако в программе импровизированного концерта не было ничего систематично организованного, никаких признаков предварительной подготовки или хотя бы плана.
В начале вечера двойняшек Фариваль уговорили поиграть на фортепиано. Эти четырнадцатилетние девочки всегда были одеты в цвета Пресвятой Девы – синий и белый, – поскольку при крещении их посвятили Богоматери. Они исполнили дуэт из «Цампы», за которым, по настоятельной просьбе окружающих, последовала увертюра к «Поэту и крестьянину».
– Allez vous-en! Sapristi! – верещал попугай за дверью. Он единственный из присутствующих обладал достаточной прямотой, чтобы признать, что этим летом не впервые слышит эту изящную игру.
Старый месье Фариваль, дедушка двойняшек, пришел в негодование из-за того, что девочкам помешали, и настаивал, чтобы птицу унесли и погрузили во тьму. Виктор Лебрен возражал, а его решения были столь же непреложны, как решения Судьбы. К счастью, попугай больше не мешал выступлению: очевидно, в этой импульсивной вспышке он уже выплеснул на двойняшек всю злобу, свойственную его натуре.
Потом юные брат с сестрой прочли стихи, которые все присутствующие неоднократно слышали на зимних концертах в городе.
Маленькая девочка исполнила в центре залы «танец с юбкой». Аккомпанировала ей мать, которая одновременно с жадным восхищением и волнением наблюдала за дочерью. Впрочем, волнение было излишне. Девочка чувствовала себя хозяйкой положения. Одета она была соответствующим случаю образом: в черную тюлевую юбку и черные шелковые чулочки. Ее маленькая шейка и ручки были обнажены, а тщательно завитые локоны топорщились над головой, точно пышные черные перья. Она принимала грациознейшие позы, а когда с ошеломляющей быстротой и внезапностью выбрасывала ногу вверх, ее маленькие, затянутые в черный шелк носки ярко сверкали.
Однако ничто не мешало пуститься в пляс всем остальным. Мадам Ратиньоль танцевать не могла, а потому с радостью согласилась аккомпанировать. Играла она очень хорошо, выдерживая превосходный темп в вальсе и придавая мелодии поистине вдохновляющую выразительность. По ее словам, она продолжала заниматься музыкой из-за детей, ибо они с мужем считали музицирование средством оживить дом и сделать его приятным.
Танцевали почти все, кроме двойняшек, которых невозможно было разлучить даже на короткое время, чтобы одна из них покружилась по комнате в объятиях мужчины. Они могли бы потанцевать друг с другом, но это не пришло им в голову.
Детей отослали спать. Некоторые уходили покорно, другие вопили и протестовали, когда их утаскивали прочь. Им и без того позволили дождаться мороженого, что само по себе знаменовало предел человеческой снисходительности.
Мороженое подали на блюдах вместе с кусками серебристо-золотистого торта. Его приготовили и заморозили днем на кухне две чернокожие работницы под руководством Виктора. Все заявили, что это большой успех: мороженое прекрасное. Правда, хорошо бы еще в нем было чуть меньше ванили и чуть больше сахара, и оно было бы чуть сильнее заморожено, и в порции не попала бы соль[23]. Виктор гордился своим достижением, усердно его расхваливал и навязчиво угощал присутствующих.
После того как миссис Понтелье дважды станцевала с мужем, один раз с Робером и еще один – с месье Ратиньолем, худым высоким мужчиной, которого в танце качало, как тростинку на ветру, она вышла на галерею и устроилась на низком наружном подоконнике, откуда можно было наблюдать за всем происходящим в зале и любоваться заливом. Восток был залит мягким сиянием. Всходила луна, и ее таинственный блеск отбрасывал на далекую, беспокойную водную гладь миллионы искр.
– Не хотите ли послушать игру мадемуазель Райс? – спросил Робер, выходя к миссис Понтелье.
Разумеется, Эдна хотела послушать ее игру, однако боялась, что мадемуазель Райс не поддастся на уговоры. Эта сварливая, уже немолодая особа вследствие своего придирчивого нрава и склонности пренебрегать правами других людей вечно ссорилась с окружающими.
– Я ее упрошу, – заявил молодой человек. – Скажу, что ее желаете слушать вы. Вы ей нравитесь. Она согласится. – Он повернулся и торопливо направился к одному из дальних коттеджей, куда, шаркая ногами, удалялась мадемуазель Райс.
Робер без особого труда уговорил ее сыграть.
Мадемуазель Райс вошла с ним в залу во время перерыва в танцах. При входе она отвесила неуклюжий, высокомерный поклон. Это была невзрачная женщина с маленьким увядшим лицом и телом и блестящими глазами. Одевалась она абсолютно безвкусно и носила сбоку на волосах розетку из выцветшего черного кружева с букетиком искусственных фиалок.
– Узнайте у миссис Понтелье, что ей хотелось бы услышать в моем исполнении, – велела мадемуазель Райс Роберу.
Пока тот передавал эти слова устроившейся под окном Эдне, мадемуазель Райс совершенно неподвижно сидела перед фортепиано, не касаясь клавиш. Когда присутствующие увидели входящую пианистку, всех охватило удивление и неподдельное удовлетворение. Люди притихли, воцарилась атмосфера ожидания. Эдна была слегка смущена тем, ка́к ее оповестили о благосклонности надменной маленькой особы. Она не осмелилась выбрать произведение и умоляла, чтобы мадемуазель Райс играла всё, что ей заблагорассудится.
Эдна, по ее собственному выражению, была страстно влюблена в музыку. Хорошо исполненные мелодии обладали способностью вызывать в ее воображении разные картины. Ей нравилось по утрам иногда сидеть в комнате, где играла или упражнялась мадам Ратиньоль. Одна пьеса, которую эта леди играла для миссис Понтелье, была короткая, меланхоличная минорная вещица. На самом деле у пьесы было какое-то другое название, но Эдна именовала ее «Одиночество». Когда она слышала эту музыку, перед ее мысленным взором возникала фигура человека, стоящего у пустынного утеса на берегу моря. Человек этот был обнажен. Он смотрел на улетающую вдаль птицу, и вся поза его выражала безнадежное смирение.
Другая пьеса вызывала в ее воображении изящную молодую женщину в ампирном платье, которая мелкими жеманными шажками шла по длинной аллее между высокими живыми изгородями. Слушая третью пьесу, Эдна представляла играющих детей, четвертая непременно приводила на ум степенную даму, гладящую кошку.
Как только мадемуазель Райс взяла начальные аккорды, по позвоночнику Эдны пробежала сильная дрожь. Она не в первый раз слышала, как играет настоящий музыкант. Но, возможно, впервые оказалась готова к этому, впервые ее существо было в состоянии воспринять отпечаток непреложной истины.
Эдна уже предвкушала зримые картины, которые, как она думала, проступят и вспыхнут перед ее мысленным взором.
Ожидание было тщетным. Она не увидела образов одиночества, надежды, тоски или отчаяния. Но сами эти страсти пробудились в душе, раскачивая и захлестывая ее, словно волны, которые ежедневно накатывали на великолепное тело Эдны. Женщина дрожала, она задыхалась, и слезы ослепляли ее.
Мадемуазель закончила играть, встала, отвесила церемонный, надменный поклон и удалилась, ни на миг не задержавшись, дабы выслушать выражения признательности и аплодисменты. Проходя по галерее мимо Эдны, музыкантша похлопала ее по плечу.
– Ну, понравилась вам моя музыка? – с улыбкой спросила она.
Молодая женщина, будучи не в силах ответить, лишь судорожно сжала руку пианистки. Мадемуазель Райс заметила ее волнение и даже слезы. Она снова похлопала миссис Понтелье и проговорила:
– Вы единственная, ради кого стоило играть. Другие? А!..
И, шаркая, побрела по галерее в свою комнату.
Однако насчет «других» мадемуазель Райс ошибалась. Ее игра вызвала бурю восторгов:
– Что за страсть!
– Что за артистизм!
– Я всегда говорила, что никто не играет Шопена так, как мадемуазель Райс!
– А последняя прелюдия! Bon Dieu![24] Потрясающе!
Становилось поздно, и все уже собирались расходиться. Но тут кому-то, возможно Роберу, в этот таинственный час, под этой таинственной луной явилась в голову мысль о купании.
Во всяком случае, предложил это Робер, и ни единого возражения не последовало. Когда он подавал пример, не находилось никого, кто не был бы готов следовать за ним. Впрочем, Робер не подал примера, он лишь указал дорогу, а сам потащился позади, рядом с влюбленными, которые всё норовили отстать и держались особняком. Молодой человек шагал между ними – то ли из вредности, то ли из озорства, он и сам хорошенько не понимал.
Понтелье и Ратиньоли шли впереди, женщины опирались на руки своих мужей. Эдна слышала у себя за спиной голос Робера и порой различала отдельные слова. Она гадала, почему он не присоединился к ним. Это было на него не похоже. В последнее время он, бывало, не показывался ей на глаза целый день, а назавтра проявлял свою преданность с удвоенным пылом, точно желая наверстать потерянные часы. В те дни, когда какой-нибудь предлог служил для того, чтобы разлучить ее с Робером, Эдна скучала по нему, как скучают по солнцу в пасмурный день, хотя, пока оно светило, его почти не замечали.
Люди небольшими группами направились к пляжу. Они болтали и смеялись, некоторые пели. В отеле Клайна играл оркестр, и сюда доносились отголоски мелодии, приглушенные расстоянием. Вокруг витал странный, редкостный аромат, в котором чувствовались запахи моря, водорослей и сырой, свежевспаханной земли, смешанные с густым благоуханием белых цветов с близлежащего поля. На море и сушу опустилась невесомая ночь. Она не принесла с собой ни тяжелой тьмы, ни теней. Мир был окутан белым светом луны, похожим на таинственный нежный сон.
Большинство вошли в воду, как в родную стихию. Море было теперь спокойно и лениво вздымало широкие волны, перетекавшие одна в другую и разбивавшиеся только у берега, образуя маленькие пенные гребни, которые сворачивались кольцами и откатывались назад, словно медлительные белые змеи.
Миссис Понтелье все лето пыталась научиться плавать. Ее инструктировали и мужчины, и женщины, а иногда даже дети. Робер почти ежедневно проводил с нею систематические занятия, но, видя тщетность своих усилий, уже был готов сдаться. В воде ее охватывал некий неуправляемый страх, если рядом не было того, кто мог в любой момент протянуть руку и поддержать ее. Но в эту ночь Эдна была похожа на шатающегося, спотыкающегося, ищущего опору малыша, который внезапно осознает свои силы и делает первые шаги – храбро и чересчур самонадеянно.
Она была готова кричать от радости. Она и закричала, когда при помощи одного-двух размашистых гребков ее тело поднялось к поверхности воды. Женщину охватило ликующее чувство, точно ей была дарована некая сила или важная способность, позволяющая контролировать работу тела и души. Переоценив свои силы, она ощутила прилив отваги и безрассудства. Ей захотелось заплыть очень далеко, туда, куда еще не уплывала ни одна женщина.
Ее неожиданное свершение вызвало изумление, похвалы и восхищение. Каждый поздравлял себя с тем, что именно его методы обучения привели к достижению желанной цели. «Как это, оказывается, просто!» – поразилась про себя Эдна.
– Какой пустяк! – сказала она вслух. – Как же я раньше не поняла, что это так легко. Подумать только, какую уйму времени я потеряла, барахтаясь, словно дитя!
Миссис Понтелье не пожелала присоединяться к группам, устраивавшим меж собой соревнования и заплывы, но, опьяненная своим недавно обретенным умением, поплыла одна. Женщина обратила лицо к морю, чтобы впитать в себя впечатление простора и одиночества, которое сообщал ее взволнованному воображению вид обширной водной глади, встречающейся и сливающейся с освещенным луной небом. Плывя, она будто устремлялась к беспредельности, чтобы затеряться в ней.
Один раз Эдна обернулась к берегу и взглянула на оставшихся там людей. Она проплыла совсем небольшое расстояние – то есть небольшое для опытного пловца. Но ее непривычному взору водное пространство позади показалось преградой, которую она никогда не сумеет преодолеть без посторонней помощи. Мгновенное виде́ние гибели поразило ее душу и на секунду ужаснуло и оглушило рассудок. Однако усилием воли она собрала дрогнувшие силы и сумела добраться до суши.
Эдна ни словом не обмолвилась о своей встрече со смертью и приступе ужаса, лишь сказала мужу:
– Я решила, что утону там одна.
– Ты заплыла не так уж далеко, дорогая, я за тобой наблюдал, – заметил он.
Эдна сразу же отправилась в купальню, переоделась в сухую одежду и была готова вернуться домой еще до того, как выйдут из воды остальные. Она собралась уходить. Все стали звать ее и кричать ей вслед. Она отмахнулась и продолжала идти, уже не обращая внимания на возобновившиеся оклики друзей, пытавшихся ее задержать.
– Порой я склоняюсь к мысли, что миссис Понтелье капризна, – заметила мадам Лебрен, которая очень развеселилась и теперь опасалась, что внезапный уход Эдны положит конец удовольствию.
– Верно, – согласился мистер Понтелье. – Иногда бывает, но не часто.
Эдна не прошла и четверти дороги до дома, как ее догнал Робер.
– Вы решили, что я испугалась? – спросила она его без тени досады.
– Нет, я понял, что вы не боитесь.
– Тогда зачем вы меня догнали? Почему не остались с ними?
– Я не подумал.
– О чем не подумали?
– Ни о чем. Какая разница?
– Я очень устала, – жалобно промолвила Эдна.
– Знаю.
– Ничего вы не знаете. Откуда вам знать? Я в жизни не была так вымотана. Но это ощущение нельзя назвать неприятным. Сегодня вечером меня захлестнула тысяча эмоций. Я не могу распознать и половины из них. Не обращайте на мои слова внимания, я просто размышляю вслух. Интересно, взволнует ли меня в будущем еще что-нибудь так, как взволновала сегодня игра мадемуазель Райс? Интересно, придет ли еще на землю такая ночь, как нынешняя? Она похожа на сон. А окружающие люди – на каких-то загадочных сверхъестественных созданий. Должно быть, рядом бродят духи.
– Несомненно, – прошептал Робер. – Разве вы не знали, что сегодня двадцать восьмое августа?
– Двадцать восьмое августа?
– Да. Каждый год двадцать восьмого августа в полночь, если светит луна (а луна должна светить обязательно), из залива выходит дух, который веками обитал на этих берегах. Этот обладающий всепроникающим взором дух выискивает какого-нибудь смертного, достойного составить ему компанию, заслуживающего того, чтобы его на несколько часов вознесли в сферы, населенные полубожественными существами. До сих пор эти поиски всегда оказывались бесплодными, и разочарованный дух снова погружался в море. Но нынче вечером он нашел миссис Понтелье. Возможно, дух уже никогда полностью не освободит ее от чар. Возможно, она уже никогда не позволит бедному недостойному смертному пребывать в тени ее божественной особы.
– Не подтрунивайте надо мной, – попросила Эдна, уязвленная кажущейся несерьезностью молодого человека.
Тот не стал оправдываться, но этот тон с едва заметной жалобной ноткой словно укорял его. Робер не мог этого объяснить. Он не мог сказать собеседнице, что проникся ее настроением и понял ее. И ничего не ответил, лишь предложил ей руку, поскольку, по собственному признанию миссис Понтелье, она была вымотана. До этого Эдна шла одна, безвольно повесив руки, позволив белым юбкам волочиться по росистой дорожке. Она взяла Робера под локоть, но не оперлась на него. Рука ее была вялой, словно мысли женщины были где-то в другом месте, словно они неслись впереди и она пыталась догнать их.
Робер помог Эдне устроиться в гамаке, подвешенном перед дверью ее комнаты между стойкой крыльца и стволом дерева.
– Вы останетесь здесь и дождетесь мистера Понтелье? – спросил он.
– Да, я останусь здесь. Спокойной ночи.
– Принести вам подушку?
– Здесь была подушка. – Женщина в темноте ощупывала гамак.
– Она, верно, испачкалась. Дети валяли ее повсюду.
– Неважно.
Отыскав подушку, Эдна подложила ее под голову и с глубоким вздохом облегчения вытянулась в гамаке. Ей не были свойственны барственность или чрезмерная изнеженность. Она не слишком любила лежать в гамаке, и когда это делала, то без кошачьей тяги к сладострастной праздности, а из стремления к благотворному покою, который, казалось, овладевал всем ее телом.
– Мне побыть с вами до прихода мистера Понтелье? – спросил Робер, усаживаясь сбоку на ступеньку и берясь за веревку для гамака, привязанную к стойке крыльца.
– Если желаете. Не раскачивайте гамак. Вы не принесете мне белую шаль, которую я оставила в Доме на подоконнике?
– Вы замерзли?
– Нет, но скоро замерзну.
– Скоро? – рассмеялся Робер. – Вам известно, который теперь час? Вы что, собираетесь остаться здесь надолго?
– Не знаю. Так вы принесете шаль?
– Конечно принесу, – ответил молодой человек, вставая.
Он направился к Дому по траве. Эдна наблюдала, как его фигура мелькает в полосах лунного света. Уже перевалило за полночь. Было очень тихо.
Когда Робер вернулся с шалью, миссис Понтелье взяла ее в руки. Накидывать шаль на плечи она не стала.
– Вы сказали, что я должен остаться до прихода мистера Понтелье?
– Я сказала: можете остаться, если желаете.
Молодой человек снова сел и свернул сигарету, которую выкурил в безмолвии. Миссис Понтелье тоже ничего не говорила. Никакие слова не могли оказаться более значительными, чем эти минуты тишины, или более насыщенными впервые пробудившейся пульсацией желания.
Когда послышались приближающиеся голоса купальщиков, Робер пожелал миссис Понтелье доброй ночи. Та не ответила. Молодой человек решил, что она уснула. И когда он ушел, Эдна опять наблюдала, как его фигура мелькает в полосах лунного света.
– Что ты здесь делаешь, Эдна? – удивился муж, обнаружив ее лежащей в гамаке. – Я думал, что найду тебя уже в постели. – Он вернулся вместе с мадам Лебрен и оставил ту у Дома.
Жена не ответила.
– Ты спишь? – спросил мистер Понтелье, наклоняясь поближе, чтобы рассмотреть ее.
– Нет. – Когда Эдна взглянула на него, глаза ее ярко и напряженно блистали, ничуть не подернутые сонной пеленой.
– Тебе известно, что уже второй час? Идем! – Мистер Понтелье поднялся на крыльцо и вошел в комнату. – Эдна! – позвал он изнутри несколько минут спустя.
– Не жди меня, – отозвалась женщина.
Мистер Понтелье высунул голову в дверь.
– Ты там простудишься, – раздраженно проворчал он. – Что за блажь? Почему ты не заходишь?
– Здесь не холодно, и у меня есть шаль.
– Тебя сожрут москиты.
– Здесь нет москитов.
Миссис Понтелье слышала, как муж ходит по комнате; каждый звук свидетельствовал о его нетерпении и досаде. В другое время она явилась бы по его требованию. Эдна по привычке подчинилась бы его желанию – не из податливости или покорности его повелениям, а так же бездумно, как мы ходим, двигаемся, сидим, стоим, следуем по ежедневной жизненной колее, доставшейся нам в удел.
– Эдна, дорогая, ты скоро? – снова осведомился Леонс, на сей раз ласково, с просительной ноткой.
– Нет, я собираюсь остаться здесь.
– Это больше чем блажь! – взорвался он. – Я не могу позволить тебе остаться там на всю ночь. Ты должна немедленно вернуться в дом!
Извиваясь всем телом, женщина поудобнее устроилась в гамаке. Она ощутила, как в ней воспламенилась ее воля, упорная и строптивая. В этот момент Эдна могла лишь артачиться и сопротивляться. Она спросила себя, говорил ли с ней муж подобным образом раньше и слушалась ли она его приказов. Разумеется, слушалась, она это помнила. Но не могла понять, зачем или как должна была подчиняться.
– Леонс, ложись спать, – проговорила Эдна. – Я намерена остаться здесь. В дом я идти не хочу и не собираюсь. Не говори со мной больше так, я не стану тебе отвечать.
Мистер Понтелье, уже переодевшийся ко сну, накинул поверх какую-то одежду. Затем, открыв бутылку вина, небольшой отборный запас которого хранил в своем личном буфете, осушил бокал и, выйдя на галерею, предложил вино жене. Та отказалась. Мужчина придвинул к себе кресло-качалку, уселся в него, закинув ноги в шлепанцах на перила, и стал дымить сигарой. Он выкурил две сигары, после чего ушел в дом и выпил еще один бокал вина. Миссис Понтелье вторично отказалась от предложенного бокала. Мистер Понтелье снова сел, закинув ноги на перила, и через подобающие промежутки времени выкурил еще несколько сигар.
Эдна начала ощущать себя как человек, который постепенно пробуждается ото сна, сладостного, фантастического, несбыточного сна, чтобы снова столкнуться с угнетающей душу реальностью. Ее одолевала физическая потребность во сне. Состояние экстаза, поддерживавшее и поднимавшее ее дух, покинуло ее, сделав беспомощной и покорной той обстановке, которая над ней довлела.
Наступил самый тихий час ночи, предрассветный, когда мир будто затаивает дыхание. Луна висела низко и превратилась в спящем небе из серебряной в медную. Больше не ухала старая сова. Склонив кроны, перестали стонать черные дубы.
Эдна, одеревеневшая от долгого неподвижного лежания в гамаке, встала. Неверным шагом взошла на крыльцо, бессильно ухватившись за стойку перил, прежде чем войти в дом.
– Ты идешь, Леонс? – спросила она, обернувшись к мужу.
– Да, дорогая, – ответил тот, провожая взглядом облачко дыма. – Только докурю сигару.
Она проспала всего несколько часов. Это были беспокойные, лихорадочные часы, растревоженные неясными снами, которые ускользали от нее, оставляя в полупробужденном сознании лишь ощущение чего-то недостижимого. Эдна встала и оделась в прохладе раннего утра. Бодрящий воздух несколько успокоил ее чувства. Однако для восстановления сил и помощи она не обратилась ни к внешним, ни к внутренним источникам. Женщина слепо следовала двигавшему ею побуждению, точно целиком отдалась в чужие руки и сняла со своей души всякую ответственность.
Большинство людей в этот ранний час все еще спали в своих постелях. На ногах были лишь несколько человек, собиравшихся на Шеньер к мессе. Влюбленные, сговорившиеся накануне вечером, уже направлялись к пристани. За ними на небольшом расстоянии следовала дама в черном с воскресным молитвенником в бархатном переплете с золотыми застежками и воскресными серебряными четками. Поднялся и старый месье Фариваль, почти согласный заниматься всем, чем придется. Он надел большую соломенную шляпу и, взяв с подставки в холле зонтик, последовал за дамой в черном, ни разу ее не обогнав.
Маленькая негритянская девочка, что приводила в движение швейную машинку мадам Лебрен, рассеянно и медлительно мела галереи. Эдна послала ее в Дом разбудить Робера.
– Передай ему, что я собираюсь на Шеньер. Лодка готова. Скажи, чтобы поторопился.
Вскоре Робер присоединился к миссис Понтелье. Раньше она никогда не посылала за ним. Никогда о нем не спрашивала. И, кажется, никогда в нем не нуждалась. Эдна как будто не осознавала, что совершает нечто необычное, вызывая его к себе. Робер, по-видимому, также не усмотрел в этом ничего из ряда вон выходящего. Но при виде миссис Понтелье лицо его озарилось тихим светом.
Они вместе отправились на кухню пить кофе. Ожидать сколько-нибудь изысканного обслуживания за недостатком времени не приходилось. Молодые люди стали у окна, и повар подал им кофе и булочки, которыми они подкрепились прямо у подоконника. Эдна сказала, что было вкусно.
Она не позаботилась заранее ни о кофе, ни о чем-либо другом. Робер поведал ей, что часто замечал: ей недостает предусмотрительности.
– Разве мне недостало предусмотрительности подумать о поездке на Шеньер и разбудить вас? – рассмеялась она. – «Разве я один должен обо всем думать?» – говорит Леонс, когда он в дурном настроении. Я его не виню. Он никогда не бывал бы в дурном настроении, если бы не я.
Они пошли коротким путем по песку. Издали виднелась забавная процессия, направлявшаяся к пристани: влюбленные, которые брели плечом к плечу; дама в черном, неуклонно следовавшая за ними; шаг за шагом отстававший старый месье Фариваль и завершавшая шествие босоногая девушка-испанка с красным платком на голове и корзинкой на локте.
Робер знал эту девушку и немного поболтал с ней в лодке. Никто из присутствующих не понял, о чем они говорили. Звали ее Марьекита. У нее было круглое лукавое пикантное личико и красивые черные глаза. Маленькие кисти она сложила на ручке корзинки. Ступни у нее были широкие и грубые. Она не пыталась их прятать. Эдна взглянула на них и заметила между коричневыми пальцами песок и ил.
Бодле ворчал из-за присутствия Марьекиты, якобы занимавшей слишком много места. На самом деле его раздражало присутствие старого месье Фариваля, который воображал, будто как моряк из них двоих он лучше. Однако Бодле не хотел придираться к такому старику, как месье Фариваль, поэтому придирался к Марьеките. Обращаясь к Роберу, девушка вела себя заискивающе. А в следующий момент становилась развязной, вертела головой, строила Роберу глазки и корчила рожи Бодле.
Влюбленные держались в стороне. Они ничего не видели и не слышали. Дама в черном уже в третий раз перебирала четки. Старый месье Фариваль без умолку рассуждал о том, что́ известно об управлении лодкой ему и неизвестно Бодле.
Эдне все это было по душе. Она прошлась взглядом по Марьеките, от безобразных коричневых пальцев на ногах до красивых черных глаз и обратно.
– Почему она так на меня смотрит? – спросила девушка у Робера.
– Может, считает тебя красоткой. Спросить у нее?
– Нет. Она ваша зазноба?
– Она замужняя дама, и у нее двое детей.
– О, ну и что! Франсиско сбежал с женой Сильвано, у которой четверо детей. Они забрали все его деньги, одного из детей и украли его лодку.
– Замолчи!
– Она что, понимает?
– Да тише же!
– А те двое, что льнут друг к другу, женаты?
– Конечно нет, – рассмеялся Робер.
– Конечно нет, – повторила Марьекита с серьезным утвердительным кивком.
Солнце было уже высоко и начинало припекать. Эдне казалось, что порывистый бриз наполняет палящим зноем поры на ее лице и руках. Робер держал над ней свой зонтик. Когда пошли лагом, паруса туго натянулись: их переполнял ветер. Старый месье Фариваль, глядя на паруса, над чем-то саркастически посмеивался, а Бодле себе под нос честил старика на чем свет стоит.
Плывя через залив на Шеньер-Каминаду, Эдна чувствовала себя так, словно ее сорвало с некоего прочного якоря, у которого прошлой ночью, когда рядом бродил таинственный дух, ослабла и лопнула цепь, и теперь она вольна ставить паруса и плыть куда заблагорассудится. Робер без умолку болтал с нею, он больше не замечал Марьекиту. В бамбуковой корзинке у девушки лежали креветки. Они были покрыты испанским мхом[25]. Марьекита с раздражением примяла мох и сердито пробормотала что-то себе под нос.
– Поедем завтра на Гранд-Терр?[26] – шепотом спросил Робер у Эдны.
– Что мы будем там делать?
– Поднимемся на холм к старому форту, будем смотреть на вертких золотых змеек и наблюдать за греющимися на солнце ящерицами.
Эдна устремила взгляд в сторону Гранд-Терра и подумала, что хотела бы побыть там наедине с Робером. Вместе с ним сидеть на солнце, слушать рев океана и следить за ящерицами, снующими среди руин старого форта.
– А через день или два можно сплавать в Байю-Брюлов, – продолжал молодой человек.
– Что будем делать там?
– Что угодно… Бросать рыбам наживку.
– Нет, вернемся на Гранд-Терр. Оставьте рыбу в покое.
– Поедем, куда пожелаете, – кивнул Робер. – Я попрошу Тони прийти и помочь мне залатать и оснастить мою лодку. Нам не понадобится ни Бодле, ни кто-то еще. Не побоитесь пиро́ги?
– О нет.
– Тогда я покатаю вас как-нибудь вечером, при луне, в пиро́ге. Быть может, ваш Дух залива шепнет вам, на каком из этих островов спрятаны сокровища, и даже укажет точное место.
– И мы в одночасье станем богачами! – засмеялась Эдна. – Я бы отдала все это пиратское золото и все сокровища, которые мы откопаем, вам. Думаю, вы знаете, как их потратить. Пиратское золото – не та вещь, которую можно отложить про запас или употребить с пользой. Его можно только транжирить и пускать по ветру, любуясь тем, как улетают золотые крупицы.
– Мы поделили бы сокровища и промотали их вместе, – сказал Робер, и лицо его зарделось.
Вся компания поднялась к прелестной маленькой готической церкви Лурдской Богоматери, чьи коричнево-желтые стены искрились в солнечных лучах. Лишь Бодле остался возиться с лодкой да Марьекита ушла со своей корзинкой креветок, метнув на Робера недовольно-укоризненный, как у ребенка, взгляд.
На церковной службе Эдну охватили чувство подавленности и оцепенение. У нее начала болеть голова, и огни на алтаре закачались перед глазами.
В другое время она, возможно, сделала бы усилие и взяла себя в руки, но ныне ее единственной мыслью было вырваться из удушливой атмосферы церкви и очутиться на свежем воздухе. Она поднялась и, пробормотав извинения, перешагнула через ноги Робера. Старый месье Фариваль встрепенулся, охваченный любопытством, привстал, но, увидев, что Робер последовал за миссис Понтелье, снова опустился на место. Взволнованным шепотом он задал вопрос даме в черном, но женщина, не отрывавшая глаз от страниц своего бархатного молитвенника, его не заметила и не ответила.
– У меня закружилась голова, и меня почти сморило, – пожаловалась Эдна, бессознательно поднося руки к голове и сдвигая назад соломенную шляпу. – Я уже не могла присутствовать на службе.
Они стояли на улице в тени церкви. Робер был сама заботливость.
– Было глупо вообще думать о том, чтобы сюда ехать, тем более оставаться. Идемте к мадам Антуан, там вы сможете отдохнуть. – Он взял Эдну за руку и повел прочь, беспокойно и неотрывно глядя ей в лицо.
Как тихо было вокруг, лишь голос моря шелестел за тростниками, росшими в соленых водах. Среди апельсиновых деревьев мирно расположилась длинная вереница маленьких, серых, потрепанных штормами домишек. Наверное, на этом плоском, сонном островке всегда воскресенье, думала Эдна.
Они остановились и, перегнувшись через забор из леса-плавника, попросили воды. Юноша, акадиец[27] с нежным лицом, черпал ведром воду из цистерны, представлявшей собой не что иное, как врытый в землю ржавый буй с отверстием с одной стороны. Вода, которую юноша подал им в жестяном ведерке, не была холодной, но остудила разгоряченное лицо Эдны и хоть немного освежила ее.
Домик мадам Антуан находился в дальнем конце деревни. Она приветствовала их со всем местным гостеприимством, словно открыла дверь, чтобы впустить солнечный свет. Это была тучная женщина с тяжелой, неуклюжей походкой. Она не говорила по-английски, но когда Робер дал ей понять, что сопровождающей его даме нехорошо и она желает отдохнуть, мадам Антуан приложила все усилия, чтобы Эдна чувствовала себя как дома и свободно располагала хозяйкой.
В доме было безукоризненно чисто, а большая белоснежная кровать с балдахином так и манила к себе. Она помещалась в маленькой боковой комнате, окна которой выходили на узкую травянистую лужайку, доходившую до навеса, где килем вверх лежала сломанная лодка.
Мадам Антуан к мессе не ходила. Ее сын Тони пошел в церковь, но она предполагала, что он скоро вернется, и пригласила Робера сесть и подождать его. Однако тот вышел, уселся за дверью и закурил. В просторной передней комнате мадам Антуан занималась приготовлением обеда. Она отваривала в огромном камине кефаль над красными углями.
Эдна, оставшись в маленькой боковой спальне одна, сняла с себя бо́льшую часть одежды. Затем вымыла в стоявшем между окнами тазу лицо, шею и руки. Сбросила туфли и чулки и растянулась в самом центре высокой белой постели. Какой роскошью показался отдых на этой чужой старомодной кровати с приятным деревенским ароматом лавра, исходившим от простыней и матраса! Эдна потянулась, расправляя сильные члены, которые слегка ныли. Несколько раз пропустила пальцы сквозь распущенные волосы. Подняла перед собой округлые руки, осмотрела их и растерла сперва одну, потом другую, внимательно разглядывая красивую, упругую поверхность своей плоти, будто впервые видела ее. Потом непринужденно сцепила руки над головой и в этой позе начала погружаться в сон.
Сначала Эдна лишь дремала, сонно прислушиваясь к происходящему вокруг. До нее доносилась тяжелая, шаркающая поступь мадам Антуан, расхаживавшей туда-сюда по посыпанному песком полу. Под окнами квохтали куры, выискивая в траве крупинки гравия. Затем послышались голоса Робера и Тони, беседовавших под навесом. Эдна не шевелилась. Застыли даже оцепеневшие грузные веки на сонных глазах. Голоса всё звучали: протяжный акадийский говор Тони и быстрая, мягкая, плавная французская речь Робера. Эдна не слишком хорошо понимала по-французски, если только не обращались к ней напрямую, и голоса молодых людей сливались с другими дремотными, приглушенными звуками, убаюкивая ее.
Она проснулась с убеждением, что спала долго и крепко. Голоса под навесом затихли. Из соседней комнаты больше не слышались шаги мадам Антуан. Даже куры ушли копаться в земле и квохтать куда-то в другое место. Кровать была накрыта москитной сеткой, которую, войдя, опустила старая хозяйка, пока миссис Понтелье спала. Эдна неторопливо встала с постели и, заглянув в щель между занавесями на окне, по косым солнечным лучам поняла, что день уже клонится к вечеру. Робер по-прежнему сидел под навесом, в тени, прислонившись к покосившемуся килю перевернутой лодки. Он читал книгу. Тони рядом уже не было. Эдна задалась вопросом, куда подевалась остальная компания. Умываясь над маленьким тазом, стоявшим между окнами, она бросила два-три взгляда на Робера.
Мадам Антуан положила на стул несколько груботканых чистых полотенец и поставила рядом коробочку poudre de riz[28]. Эдна слегка припудрила нос и щеки, внимательно рассматривая себя в маленьком кривом зеркальце, висевшем на стене над тазом. Глаза у нее были ясные и совсем не сонные, лицо разрумянилось.
Завершив туалет, Эдна вышла в соседнюю комнату. Она была ужасно голодна. Там никого не оказалось. Однако стоявший у стены стол была застелен скатертью и накрыт на одну персону. Рядом с тарелкой лежала коричневая буханка с хрустящей корочкой и стояла бутылка вина. Эдна крепкими белыми зубами откусила прямо от буханки. Налила в бокал немного вина и залпом осушила его. Затем тихонько выскользнула за дверь и, сорвав с низко свисающей ветки апельсин, кинула им в Робера, не знавшего, что она проснулась и встала.
Все его лицо озарилось, когда он увидел ее и подошел к ней под апельсиновое дерево.
– Сколько лет я спала? – спросила Эдна. – Кажется, остров совершенно изменился. Должно быть, уже народилась новая раса, как пережитки прошлого остались только мы с вами. Сколько веков назад умерли мадам Антуан и Тони? И когда исчезли с лица земли наши люди с Гранд-Айла?
Робер фамильярно поправил оборку у нее на плече.
– Вы проспали ровно сто лет, – ответил он. – Меня оставили здесь охранять ваш сон, и вот уже сотню лет я сижу под навесом и читаю книгу. Единственное зло, которого я не сумел предотвратить, – это засохшая жареная птица.
– Даже если она превратилась в камень, я все равно ее съем, – заверила Эдна, заходя с ним в дом. – Но в самом деле, куда делись месье Фариваль и остальные?
– Уехали несколько часов назад. Когда они обнаружили, что вы спите, то решили вас не будить. В любом случае я бы этого им не позволил. Для чего я здесь?
– Интересно, будет ли Леонс волноваться? – вслух подумала женщина, усаживаясь за стол.
– Конечно нет. Он же знает, что вы со мной, – ответил Робер, возясь с кастрюльками и накрытыми крышками блюдами, которые оставили стоять на очаге.
– Где мадам Антуан и ее сын? – спросила Эдна.
– Ушли к вечерне и, кажется, навестить каких-то друзей. Когда вы будете готовы отправиться в дорогу, я доставлю вас обратно на лодке Тони.
Робер помешивал тлеющие угольки до тех пор, пока жареная курица снова не начала шипеть. Он подал Эдне щедрое угощение, сварил кофе и выпил его вместе с ней. Мадам Антуан кроме кефали почти ничего не приготовила, но, пока Эдна спала, Робер разжился на острове и другой провизией. Он, как ребенок, радовался ее аппетиту и тому удовольствию, с каким она ела раздобытую им пищу.
– Уедем прямо сейчас? – спросила миссис Понтелье, осушив бокал и сметая в кучку хлебные крошки.
– Солнце еще не настолько низко, как будет через два часа, – ответил Робер.
– Через два часа солнце зайдет.
– Ну и пусть себе заходит, эка важность!
Они довольно долго дожидались под апельсиновыми деревьями, пока не вернулась тяжело отдувавшаяся и переваливавшаяся с ноги на ногу мадам Антуан с тысячей извинений за свое отсутствие. Тони вернуться не отважился. Он был робок и по собственной воле не посмел бы предстать ни перед одной женщиной, не считая своей матери.
Было очень приятно сидеть под апельсиновыми деревьями, пока солнце опускалось все ниже и ниже, окрашивая небо на западе в пламенеющие медные и золотые тона. Тени становились все длиннее и ползли по траве, точно бесшумные фантастические чудовища.
Эдна и Робер сидели на земле – то есть он лежал на земле рядом с ней, время от времени теребя подол ее муслинового платья. Мадам Антуан опустилась тучным телом, широким и приземистым, на скамью у двери. Она болтала весь вечер и настроилась на сказительский лад. И каких только историй у нее не было! Она покидала Шеньер-Каминаду всего дважды, и то на весьма короткий срок. Всю свою жизнь мадам Антуан, переваливаясь с ноги на ногу, бродила по острову, собирая легенды о баратарийцах[29] и о море. Наступил вечер, озаренный луной. Эдна так и слышала шепот мертвецов и приглушенный звон золота.
Когда они с Робером сели в лодку Тони, оснащенную красным треугольным парусом, во мраке и среди тростников реяли туманные призрачные фигуры, а по воде скользили фантомные корабли, спешащие в укрытие.
Передавая младшего сын Понтелье, Этьена, матери, мадам Ратиньоль объяснила, что тот вел себя очень плохо. Он не пожелал ложиться и устроил сцену, после чего она взяла на себя попечение о нем и успокоила его как могла. Рауль был в постели и уже два часа как спал.
Малыш Этьен был одет в длинную белую ночную рубашку, которая беспрестанно путалась у него в ногах, пока мадам Ратиньоль вела его за руку. Пухлым кулачком он тер осоловевшие от сонливости и дурного настроения глаза. Эдна взяла его на руки и, усевшись в качалку, стала приголубливать и ласкать, называя разными нежными именами и баюкая.
Было не больше девяти часов вечера. Никто, кроме детей, еще не ложился.
Леонс, по словам мадам Ратиньоль, поначалу очень волновался и хотел немедленно отправиться на Шеньер. Но месье Фариваль заверил его, что миссис Понтелье всего лишь сморили сон и усталость, что Тони позднее доставит ее обратно целой и невредимой, и в конце концов Леонса отговорили пересекать залив. Он ушел к Клайну, разыскивая какого-то хлопкового комиссионера, с которым хотел переговорить по поводу ценных бумаг, векселей, акций, облигаций или чего-то подобного, мадам Ратиньоль в точности не помнила. Сказал, что надолго не задержится. Сама она страдала от жары и вялости, сообщила Адель. С собой у нее имелись бутылочка с нюхательной солью и большой веер. Она не согласилась побыть с Эдной, ведь месье Ратиньоль был один, а больше всего на свете он ненавидел оставаться в одиночестве.
Когда Этьен заснул, Эдна осторожно отнесла его в заднюю комнату, Робер тоже вошел туда вслед за ней и поднял москитную сетку, чтобы ей было проще уложить ребенка в кроватку. Квартеронка куда-то запропастилась. Когда они вышли из коттеджа, Робер пожелал Эдне доброй ночи.
– Вы знаете, что мы провели весь этот долгий день вместе, Робер, – с самого утра? – спросила женщина перед тем, как попрощаться.
– Весь за исключением тех ста лет, когда вы спали. Спокойной ночи. – Робер пожал ей руку и пошел прочь, в сторону пляжа.
Он не присоединился ни к кому из гуляющих, но направился к заливу в одиночку.
Эдна осталась снаружи, ожидая возвращения мужа. У нее не было желания ложиться спать. Не хотелось ей и идти к Ратиньолям или присоединяться к мадам Лебрен и компании беседовавших перед Домом людей, чьи оживленные голоса доносились до нее. Она задумалась о своем нынешнем пребывании на Гранд-Айле и попыталась разобраться, чем это лето отличается от всех остальных, что были в ее жизни. Но лишь осознавала, что сама она, ее нынешнее «я» чем-то разнится с «я» прежним. О том, что теперь она смотрит на все другими глазами и привыкает к своему новому состоянию, расцвечивающему и изменяющему окружающую обстановку, Эдна еще не догадывалась.
Она задавалась вопросом, почему Робер удалился, оставив ее одну. Ей не приходило в голову, что молодой человек мог устать оттого, что провел весь этот долгий день с ней. Сама же она не устала, и ей казалось, что он тоже не утомился. Ей было жаль, что Робер ушел. Было бы гораздо естественнее, если бы он остался, ведь у него не было абсолютно никакой необходимости покидать ее.
Ожидая мужа, Эдна тихонько напевала песенку, которую пел Робер, когда они пересекали залив. Она начиналась словами «Ah! si tu savais»[30], и каждый куплет заканчивался все тем же «si tu savais».
Исполнение Робера не было претенциозным. Он был музыкален и не фальшивил. Эдну неотступно преследовали его голос, мотивы, весь напев.
Однажды вечером, когда Эдна, по своему обыкновению немного опоздав, вошла в столовую, там, судя по всему, завязался необычайно оживленный разговор. Говорили сразу несколько человек, и надо всеми, даже над голосом мадам Лебрен, возвышался голос Виктора. Эдна поздно вернулась с купания, одевалась в некоторой спешке, и лицо у нее раскраснелось. Ее головка над изящным белым платьем напоминала пышный, редкостный цветок. Она заняла свое место за столом между старым месье Фаривалем и мадам Ратиньоль.
Когда миссис Понтелье села и уже собиралась приступить к супу, который подали, едва она появилась в зале, несколько человек одновременно сообщили ей, что Робер Лебрен уезжает в Мексику. Эдна отложила ложку и растерянно огляделась по сторонам. Робер был с нею все утро, читал ей, но даже словом не обмолвился ни о какой Мексике. Днем она его не видела, но слышала, как кто-то упомянул, что Робер в Доме, наверху у матери. Она и в голову это не взяла, хотя позднее удивилась, что молодой человек не присоединился к ней, когда она отправилась на пляж.
Эдна посмотрела на Робера, который занимал место рядом с мадам Лебрен, восседавшей во главе стола. Лицо молодой женщины являло собой олицетворение недоумения, которое она и не думала скрывать. Отвечая на ее взгляд, Робер под прикрытием улыбки поднял брови. Вид у него был сконфуженный и напряженный.
– Когда он уезжает? – спросила Эдна у окружающих, точно Робера тут не было и он не мог ответить сам.
– Сегодня вечером! Прямо сегодня! Представляете? Что на него нашло! – одновременно понеслось со всех сторон по-французски и по-английски.
– Немыслимо! – воскликнула Эдна. – Разве может человек в любой момент податься с Гранд-Айла в Мексику, так же как отправляется к Клайну, на пристань или на пляж?
– Я постоянно говорил, что собираюсь в Мексику. Я твердил это годами! – возразил Робер возбужденным и недовольным тоном, с видом человека, который отмахивается от гнуса.
Мадам Лебрен постучала по столу черенком ножа.
– Пожалуйста, позвольте Роберу объяснить, почему он уезжает и отчего именно сегодня, – громогласно провозгласила она. – Вообще эта столовая, когда все говорят одновременно, с каждым днем все больше похожа на бедлам. Порой – да простит меня Господь – мне положительно хочется, чтобы Виктор лишился дара речи.
Виктор саркастически рассмеялся и поблагодарил мать за ее праведное желание, в котором он, однако, не усмотрел никакой пользы для окружающих, разве что оно могло предоставить более широкие возможности и свободу высказывания ей самой.
Месье Фариваль считал, что Виктора в ранней юности следовало увезти в открытый океан и утопить. Виктор заявил, что куда логичнее было бы расправляться подобным образом с несносными стариками, от которых нет никакого спасу. Мадам Лебрен стала понемногу впадать в истерику, а Робер обругал брата не самыми лестными словами.
– Объяснять мне, в сущности, абсолютно нечего, мама, – отрезал он.
Но тем не менее объяснил – глядя в основном на Эдну, – что может встретиться с тем джентльменом, к которому намеревался присоединиться в Веракрусе, только сев на такой-то пароход, который отплывет из Нового Орлеана в определенный день; что Бодле этим вечером отбудет на своем люгере с грузом овощей, а значит, у него, Робера, есть возможность вовремя добраться до города и сесть на судно.
– Но когда вы все это задумали? – спросил месье Фариваль.
– Сегодня днем, – ответил Робер с оттенком раздражения.
– В котором именно часу? – допытывался старый джентльмен с придирчивым упорством, словно проводил в суде перекрестный допрос преступника.
– В четыре часа пополудни, месье Фариваль, – ответил Робер резко и с надменным видом, напомнив Эдне некоего господина на подмостках.
Она заставила себя съесть бо́льшую часть супа и теперь ковыряла слоистые кусочки рыбы в court bouillon[31] вилкой.
Влюбленные, воспользовавшись общим разговором о Мексике, шепотом обсуждали вещи, которые, как они справедливо полагали, никому, кроме них, не интересны. Дама в черном однажды получила из Мексики пару четок тонкой работы, к которым прилагалась особая индульгенция, но она так и не смогла узнать, действует ли эта индульгенция вне мексиканских границ. Отец Фошель из кафедрального собора попытался это объяснить, но, к сожалению, не преуспел. Дама умоляла Робера поинтересоваться данным вопросом и по возможности уточнить, имеет ли она право на индульгенцию, приложенную к поразительно изящным мексиканским четкам.
Мадам Ратиньоль выразила надежду, что Робер будет проявлять крайнюю осторожность в общении с мексиканцами, которые, по ее мнению, являются коварным народом, беспринципным и мстительным. Адель вовсе не считала, что, осуждая разом целую нацию, выказывает по отношению к ней несправедливость. Лично она была знакома всего с одним мексиканцем, который готовил и продавал превосходные тамале[32] и которому она безоговорочно доверяла, настолько угодлив он был. Но настал день, и его арестовали за то, что он зарезал свою жену. Мадам Ратиньоль так и не узнала, повесили его или нет.
Виктор развеселился и попытался рассказать анекдот о мексиканской девице, которая одну зиму подавала шоколад в ресторане на Дофин-стрит. Его никто не слушал, кроме старого месье Фариваля, у которого эта забавная история вызвала неудержимый приступ смеха.
Эдна подумала, не сошли ли они все с ума, если так разговорились и расшумелись по этому поводу. Самой ей было совершенно нечего сказать о Мексике и мексиканцах.
– В котором часу вы уезжаете? – спросила она у Робера.
– В десять, – ответил тот. – Бодле хочет дождаться луны.
– У вас уже все собрано?
– Да. Я возьму только саквояж, а чемодан уложу в городе.
Молодой человек отвернулся, чтобы ответить на какой-то вопрос, заданный ему матерью, и Эдна, допив черный кофе, вышла из-за стола.
Она отправилась прямо к себе. В маленьком коттедже после улицы казалось тесно и душно. Но ей было все равно, у нее нашлась сотня разных дел, требовавших ее внимания. Эдна начала прибираться на туалетном столике, ворча на неряшливость квартеронки, укладывавшей детей спать в соседней комнате. Собрала одежду, висевшую на спинках стульев, и убрала каждую вещь на место – в шкаф или ящик комода. Переоделась, сменив платье на более удобный и просторный капот. Привела в порядок волосы, с необычайной энергией причесав их расческой и щеткой. Затем пошла к сыновьям и помогла квартеронке уложить их.
Мальчики дурачились и болтали – они готовы были делать что угодно, лишь бы не спать. Эдна отослала квартеронку ужинать, разрешив ей не возвращаться. Потом села и рассказала детям сказку. Вместо того чтобы успокоить, это только взбудоражило их и прогнало сон. Эдна оставила сыновей, жарко споривших о том, чем кончится сказка, которую мать обещала закончить следующим вечером.
Вошла чернокожая девочка и сообщила: мадам Лебрен просит, чтобы миссис Понтелье пришла и посидела с ними в Доме до отъезда мистера Робера. Эдна ответила, что уже разделась и не очень хорошо себя чувствует, но, возможно, заглянет в Дом позже. Она опять начала одеваться и уже успела снять пеньюар, но, еще раз передумав, снова надела его, вышла на улицу и села у двери. Разгоряченная и недовольная, женщина некоторое время энергично обмахивалась веером. Явилась мадам Ратиньоль, чтобы узнать, в чем дело.
– Меня, должно быть, вывел из равновесия весь этот шум и гам за столом, – ответила Эдна. – А кроме того, я терпеть не могу потрясений и сюрпризов. Сама мысль о том, что Робер уезжает с такой смехотворной поспешностью и театральностью, неприятна. Точно это вопрос жизни и смерти! Он пробыл со мной все утро, но ни словечка об этом не проронил.
– Да, – согласилась мадам Ратиньоль. – По-моему, он оказал всем нам – особенно вам – весьма мало внимания. В остальных подобное меня не удивило бы; эти Лебрены склонны к геройству. Но от Робера, надо заметить, я такого не ожидала. Так вы не пойдете? Бросьте, голубушка, это будет не по-дружески.
– Нет, – с некоторой угрюмостью возразила Эдна. – Мне лень снова одеваться, да и не хочется.
– Вам и не нужно одеваться. У вас вполне приличный вид, наденьте только пояс. Взгляните на меня!
– Нет, – заупрямилась Эдна, – но вы идите. Мадам Лебрен может обидеться, если мы обе не придем.
Мадам Ратиньоль поцеловала на прощание Эдну и ушла. По правде говоря, ей очень хотелось поучаствовать в до сих пор продолжавшейся оживленной общей беседе о Мексике и мексиканцах.
Чуть позже подошел Робер с саквояжем в руках.
– Вы плохо себя чувствуете? – спросил он.
– О нет, вполне сносно. Вы уезжаете прямо сейчас?
Молодой человек зажег спичку и взглянул на часы.
– Через двадцать минут, – сообщил он.
После резкой короткой вспышки пламени тьма некоторое время казалась еще гуще. Робер сел на скамеечку, оставленную на крыльце детьми.
– Возьмите стул, – предложила Эдна.
– Сойдет и это. – Он надел шляпу, потом снова нервно снял ее и, вытерев лицо носовым платком, посетовал на жару.
– Возьмите, – сказала Эдна, протягивая ему веер.
– О нет! Благодарю. Это ни к чему. Вы на время останетесь без веера, и вам станет еще хуже.
– Мужчины вечно говорят подобные нелепости. Я не встречала никого, кто сказал бы про веер что-нибудь иное. Надолго вы уезжаете?
– Возможно, навсегда. Не знаю. Это зависит от очень многих обстоятельств.
– А если не навсегда, то на какое время?
– Не знаю.
– Мне это кажется совершенно глупым и неуместным. Я недовольна. Не могу понять, по каким причинам вы напустили на себя таинственность и утром не обмолвились об отъезде ни словом.
Робер хранил молчание, не предпринимая попыток защитить себя. И лишь после паузы заметил:
– Не расставайтесь со мной в дурном настроении. Не помню, чтобы раньше я вас раздражал.
– Я и не хочу расставаться с вами в дурном настроении, – поморщилась Эдна. – Но как вы не понимаете? Я привыкла видеть вас, привыкла, что вы все время рядом, и ваш поступок кажется мне недружеским, более того – бесчувственным. Вы даже не оправдываетесь. А ведь я рассчитывала на ваше общество, думала о том, как приятно будет увидеть вас в городе грядущей зимой.
– Я тоже, – вырвалось у него. – Возможно, это… – Робер внезапно встал и протянул ей руку. – Прощайте, дорогая миссис Понтелье, прощайте. Не забы… Надеюсь, вы меня не забудете.
Эдна вцепилась в протянутую руку, будто пытаясь удержать его.
– Напишете мне, как доберетесь, хорошо, Робер? – попросила она.
– Напишу. Благодарю вас. Прощайте.
Как это было не похоже на Робера! На подобную просьбу хороший знакомый откликнулся бы чем-то более сердечным, чем «Напишу. Благодарю вас. Прощайте».
Очевидно, молодой человек уже простился с людьми в Доме, поскольку, спустившись с крыльца, он сразу же направился к Бодле, который стоял с веслом на плече, ожидая его. Они ушли в темноту. Эдна слышала только голос Бодле. Робер, по-видимому, даже не поздоровался со своим спутником.
Молодая женщина судорожно кусала носовой платок, стараясь сдержаться и даже от самой себя скрыть, как скрыла бы от других, обуревавшее, нет, терзавшее ее чувство. Глаза ее были полны слез.
Она впервые распознала симптомы зарождающейся влюбленности, которые ощущала еще в детстве, затем в отрочестве и в ранней молодости.
Реальность, остроту прозрения не ослабил ни единый намек или указание на превратности. Прошлое Эдны ничего не значило. Оно не преподало ей урока, к которому она была готова прислушаться. Будущее же было тайной, в которую она никогда не пыталась проникнуть. Важно было одно лишь настоящее. Оно было с нею и мучило ее, как и тогда, горькой убежденностью: она утратила то, чем владела, ей отказано в том, чего требует ее страстное, недавно пробудившееся естество.
– Вы очень скучаете по своему другу? – спросила мадемуазель Райс однажды утром, неслышно подойдя сзади к миссис Понтелье, только что вышедшей из своего коттеджа и направлявшейся на пляж.
С тех пор как Эдна наконец овладела искусством плавания, бо́льшую часть дня она проводила в воде. Поскольку пребывание на Гранд-Айле подходило к концу, молодая женщина ощущала, что не сможет уделять слишком много времени развлечению, которое одно доставляло ей по-настоящему приятные мгновения. Когда мадемуазель Райс приблизилась, тронула ее за плечо и заговорила с нею, она, казалось, подхватила ту мысль, которая постоянно крутилась в голове у Эдны; точнее, то чувство, которое постоянно владело ею.
Отъезд Робера почему-то отнял у всего на свете яркость, краски, смысл. Окружающая обстановка ничуть не изменилась, но все существование Эдны потускнело, словно выцветшая одежда, которую уже не стоит надевать. Она искала Робера повсюду, в других людях, которых наводила на разговоры о нем. По утрам поднималась в комнату мадам Лебрен, не обращая внимания на стук старой швейной машинки. Устраивалась там и время от времени подавала реплики, совсем как Робер. Разглядывала комнату, задерживаясь на висевших на стене картинах и фотографиях. Нашла в одном из углов старый семейный альбом, который изучала с живейшим интересом, обращаясь к мадам Лебрен за разъяснениями относительно множества фигур и лиц, обнаруженных на его страницах.
Там был и снимок молодой мадам Лебрен, державшей на коленях крошку Робера – круглолицего младенца с кулачком во рту. Одни только глаза малютки выдавали в нем будущего мужчину. А еще там была его фотография в килте, в возрасте пяти лет, с длинными кудрями и хлыстиком в руке. Это рассмешило Эдну. Смеялась она и над портретом мальчика в первых длинных брюках. Другой же портрет, сделанный перед тем, как Робер – худощавый длиннолицый юноша с глазами, полными огня, честолюбивых намерений и грандиозных замыслов, – отбыл в колледж, заинтересовал ее. Однако в альбоме не нашлось ни одной недавней фотографии, которая давала бы представление о Робере, уехавшем пять дней назад и оставившем после себя невосполнимую пустоту.
– О, Робер перестал фотографироваться, когда ему пришлось платить за это самому! Он говорит, что знает более разумное применение своим деньгам, – объяснила мадам Лебрен.
Она получила от него послание, написанное перед отплытием из Нового Орлеана. Эдна пожелала увидеть это письмо, и мадам Лебрен посоветовала ей поискать его на столе, комоде либо на каминной доске.
Письмо обнаружилось на книжной полке. Поскольку в глазах Эдны конверт, его размеры и форма, почтовая марка, а также почерк имели огромное значение и обладали притягательностью, прежде чем вскрыть его, она внимательно изучила каждую подробность. В письме содержалось всего несколько строк, в которых Робер сообщал, что отплывет из города сегодня днем, что он отлично упаковал свой чемодан и что у него все хорошо. Он посылал матери привет и умолял, чтобы остальные его не забывали. Эдне он ничего передать не просил, лишь в постскриптуме говорилось, что если миссис Понтелье желает прочесть до конца книгу, которую он ей читал, то мама найдет ее у него в комнате, среди других книг на столе. Эдна ощутила укол ревности оттого, что матери Робер написал, а ей нет.
Кажется, все считали само собой разумеющимся, что миссис Понтелье скучает по молодому человеку. Даже ее муж, приехавший в следующую после отбытия Робера субботу, выразил сожаление по поводу его отъезда.
– Как ты тут без него, Эдна? – поинтересовался Леонс.
– Мне очень скучно, – призналась женщина.
Мистер Понтелье виделся с Робером в городе, и Эдна засыпала мужа вопросами. Где они встретились? На Каронделет-стрит, утром. Зашли куда-то, выпили и выкурили по сигаре. О чем говорили? Главным образом о его перспективах в Мексике, которые мистер Понтелье считал многообещающими. Как выглядел Робер? Каким он показался – серьезным, веселым, каким? Довольно бодрым и всецело поглощенным идеей своей поездки, что мистер Понтелье находил совершенно естественным для молодого человека, вознамерившегося искать счастья и приключений в незнакомой, чужой стране.
Эдна досадливо топнула ногой и выразила удивление тем, что дети продолжают играть на солнце, когда могли бы находиться под деревьями. Она подошла и увела их в тень, отчитав квартеронку за нерадивость.
Ей отнюдь не представлялось абсурдным, что она делает предметом разговора Робера и заставляет мужа говорить о нем. Ее чувство к Роберу нисколько не походило на то, которое она испытывала к мужу теперь, в прошлом или надеялась испытать когда-либо. Эдна всю жизнь привыкла держать в тайне свои мысли и эмоции, не высказывая их вслух. Они никогда не принимали форму противоборства. Они принадлежали ей, и только ей. Женщина была убеждена, что лишь она имеет на них право и, кроме нее, они больше никого не касаются. Однажды Эдна заметила мадам Ратиньоль, что никогда не пожертвовала бы собой ни ради своих детей, ни ради кого-либо еще. Последовал довольно жаркий спор. Казалось, две женщины то ли не понимают друг друга, то ли говорят на разных языках. Эдна пыталась успокоить приятельницу, объяснить.
«Я откажусь от всего несущественного, расстанусь со своими деньгами, отдам за детей даже жизнь, но не себя. Выразиться яснее я не в силах. Я лишь начинаю осознавать то, что мне открывается». – «Не знаю, что вы назвали бы существенным и что подразумеваете под несущественным, – весело заметила мадам Ратиньоль. – Но женщина, готовая отдать за детей жизнь, не сможет сделать для них большего – так говорит вам ваша Библия. Я уверена, что не смогла бы сделать больше». – «О, вы бы смогли!» – засмеялась Эдна.
Вот почему она не удивилась вопросу мадемуазель Райс в то утро, когда эта дама, последовав за ней на пляж, похлопала ее по плечу и спросила, не сильно ли она скучает по своему юному другу.
– А, доброе утро, мадемуазель, это вы? Ну конечно же, я скучаю по Роберу. Вы собираетесь купаться?
– Зачем это мне купаться в самом конце сезона, когда я не ступала в воду все лето, – нелюбезно парировала та.
– Простите, – растерянно пробормотала Эдна, которой следовало помнить, что неприязнь мадемуазель Райс к воде служила постоянным поводом для шуток.
Некоторые относили ее на счет накладных волос или боязни намочить фиалки, тогда как другие приписывали естественному отвращению к воде, которое, как иногда считается, сопутствует артистическому темпераменту. Мадемуазель достала из кармана бумажный пакетик с шоколадными конфетами и протянула Эдне, чтобы показать, что не сердится. Она любила конфеты за их свойство подкреплять силы; по ее словам, при небольшом объеме они содержали много питательных веществ. И спасали ее от голодной смерти, ибо стол у мадам Лебрен был совершенно невыносим; никому, кроме такой нахалки, как мадам Лебрен, не пришло бы в голову предлагать людям подобную еду и требовать, чтобы они за нее платили.
– Ей, должно быть, очень одиноко без сына, – промолвила Эдна, желая сменить тему. – К тому же любимого сына. Вероятно, ей было тяжело его отпускать.
– Любимого сына! – Мадемуазель злорадно рассмеялась. – О боже! Кто вам такое сказал? Алина Лебрен живет для Виктора, и только для Виктора. Она избаловала его, превратив в никчемное существо, коим он теперь и является. Эта женщина боготворит сыночка и землю, по которой он ходит. Робер же в каком-то смысле молодец, он отдает все деньги, которые зарабатывает, родным, а себе оставляет лишь жалкие гроши. Да уж, любимый сын! Я и сама скучаю по бедняжке, дорогая моя. Мне нравилось видеть и слушать его – он единственный Лебрен, который чего-то стоит. Робер часто навещает меня в городе. Мне нравится играть с ним в две руки. А Виктор! Повесить его мало. Не знаю, почему Робер еще давным-давно не избил его до смерти.
– Я думала, он весьма терпелив с братом, – заметила Эдна, радуясь, что говорит о Робере, неважно в связи с чем.
– О! Он хорошенько отлупил его год или два назад, – припомнила мадемуазель. – Из-за одной испанской девицы, на которую Виктор имел какие-то притязания. Однажды он встретил Робера, то ли болтавшего, то ли гулявшего, то ли купавшегося с этой девчонкой, то ли несшего ее корзину, точно не помню, и повел себя так оскорбительно и злобно, что Робер тотчас задал ему трепку, которая довольно надолго обуздала Виктора. Самое время повторить урок.
– Ее звали Марьекита?
– Марьекита? Да, именно, Марьекита. Я и забыла. О, она хитрая бестия, эта Марьекита!
Эдна покосилась на мадемуазель Райс и удивилась, отчего так долго выслушивает колкости этой дамы. По какой-то причине молодая женщина чувствовала себя подавленной, почти несчастной. До этого она не собиралась заходить в воду, но теперь все же надела купальный костюм и оставила мадемуазель сидеть в тени детской палатки. К концу сезона вода становилась все холоднее. Эдна ныряла и плавала с энергией, которая будоражила и воодушевляла ее. Она долго не вылезала из воды, в глубине души надеясь, что мадемуазель Райс не будет ее ждать.
Но мадемуазель дождалась. На обратном пути она была очень дружелюбна и восторгалась обликом Эдны в купальном костюме. Она говорила о музыке. Выразила надежду, что Эдна посетит ее в городе, и написала свой адрес огрызком карандаша на клочке открытки, который нашла у себя в кармане.
– Когда вы уезжаете? – спросила Эдна.
– В следующий понедельник. А вы?
– На следующей неделе, – ответила Эдна и добавила: – Приятное было лето, не так ли, мадемуазель?
– Что ж, – пожав плечами, согласилась мадемуазель Райс, – довольно приятное, если бы не москиты и не двойняшки Фариваль.
В Новом Орлеане у Понтелье был очаровательный дом на Эспланад-стрит: большой сдвоенный коттедж с просторной верандой перед фасадом, круглые каннелированные колонны которой поддерживали наклонную крышу. Здание было выкрашено в ослепительно-белый цвет, наружные ставни, или jalousies, были зелеными. Во дворе, содержавшемся в безупречном порядке, произрастали цветы и растения всех видов, какие только имеются в Южной Луизиане.
Внутреннее убранство по сравнению с обстановкой обычных домов было образцовым. Полы устланы мягчайшими коврами, на дверях и окнах – пышные, изысканные занавеси. На стенах – со вкусом и понятием отобранные картины. Хрусталь, серебро, тяжелые камчатные скатерти, которые можно было ежедневно видеть на столе, являлись предметом зависти многих женщин, чьи мужья были не столь щедры, как мистер Понтелье.
Мистер Понтелье обожал прогуливаться по собственному жилищу, тщательно инспектируя различные предметы обстановки и мелочи, чтобы убедиться, что все в порядке. Он очень дорожил своим имуществом, главным образом потому, что оно принадлежало ему, и получал неподдельное удовольствие от созерцания любой картины, статуэтки, редкостной кружевной занавеси, после того как покупал эту вещь и размещал ее среди своих домашних идолов.
Во вторник после обеда (вторник был приемным днем миссис Понтелье) в дом сплошным потоком тянулись посетительницы, прибывавшие в экипажах, на трамвае[33] или пешком, если позволяли погода и расстояние. Их впускал светлокожий мальчик-мулат во фраке, державший в руках миниатюрный серебряный поднос для визитных карточек. Горничная в белом плоеном чепце предлагала гостям на выбор ликер, кофе и шоколад. Миссис Понтелье, одетая в красивое платье для приемов, весь день сидела в гостиной, принимая посетительниц. Вечером вместе с женщинами иногда заходили их мужья.
Этому порядку миссис Понтелье неукоснительно следовала вот уже шесть лет, с тех пор как вышла замуж. На неделе они с мужем в определенные вечера ходили в оперу и иногда на представления пьес.
Утром мистер Понтелье уходил из дома между девятью и десятью часами и редко возвращался раньше половины седьмого или семи вечера: ужин подавался в половине восьмого.
Как-то вечером во вторник, через несколько недель после возвращения с Гранд-Айла, супруги Понтелье сели за стол одни. Детей укладывали спать, время от времени до родителей доносился топот улепетывающих босых ножек и вслед ему – голос квартеронки, в котором слышались мягкий протест и мольба. На сей раз миссис Понтелье была не в наряде для вторничных приемов, а в обычном домашнем платье. Ее муж, весьма наблюдательный по части подобных вещей, заметил это, пока прислуживавший за столом мальчик подавал ему суп.
– Устала, Эдна? Кто у тебя был? Много посетительниц? – осведомился мистер Понтелье.
Он попробовал суп и стал приправлять его перцем, солью, уксусом, горчицей – всем, что имелось под рукой.
– Довольно много, – ответила Эдна, евшая суп с явным удовольствием. – Меня не было дома. Я увидела их карточки, когда вернулась.
– Не было дома! – воскликнул супруг с чем-то похожим на неподдельный ужас в голосе, отставив уксусник и воззрившись на нее сквозь очки. – Что могло заставить тебя выйти из дому во вторник? Какие такие дела?
– Никакие. Мне просто захотелось прогуляться, и я ушла.
– Что ж, надеюсь, ты запаслась подходящим предлогом, объясняющим свое отсутствие, – сказал, несколько успокоившись, мистер Понтелье, бросая в суп щепотку кайенского перца.
– Нет, никаких предлогов у меня не было. Я велела Джо говорить, что меня нет, и все.
– Ну, дорогая, надо думать, к настоящему времени ты успела понять, что люди так не поступают. Мы обязаны соблюдать les convenances[34], если рассчитываем всегда шагать в ногу с процессией. Раз ты почувствовала, что сегодня днем тебе необходимо уйти из дома, следовало изобрести подобающее объяснение своему отсутствию. Этот суп и впрямь невозможен. Странно, что кухарка до сих пор не выучилась готовить приличный суп. На любом городском прилавке с бесплатными обедами[35] подают блюда куда лучше. Миссис Белтроп являлась?
– Принеси поднос с карточками, Джо. Я не помню, кто заезжал.
Мальчик удалился и через минуту вернулся с серебряным подносиком, полным дамских визитных карточек. Он протянул подносик миссис Понтелье.
– Передай его мистеру Понтелье, – велела та.
Джо подал поднос мистеру Понтелье и забрал суп.
Мистер Понтелье изучил имена всех посетительниц, приезжавших к жене с визитом, зачитывая некоторые вслух и сопровождая чтение комментариями.
– Обе мисс Деласидас. Нынче утром я проделал большую работу по сделкам на срок для их отца. Милые девочки; пора бы им замуж. Миссис Белтроп. Вот что я тебе скажу, Эдна: ты не можешь позволить себе пренебрегать миссис Белтроп. Да Белтроп может десять раз купить нас с потрохами! По мне, так его бизнес стоит кругленькую сумму. Напиши-ка ты ей записку. Миссис Джеймс Хайкемп. Хе! Чем меньше тебе придется иметь дело с миссис Хайкемп, тем лучше. Мадам Лафорсе. Ей тоже пришлось добираться из самого Кэрролтона, бедной старушке! Мисс Уиггс, миссис Элинор Болтонс… – Он отодвинул карточки в сторону.
– Боже мой! – воскликнула Эдна, кипя от злости. – Почему ты относишься к этому столь серьезно и поднимаешь такой шум?
– Я вовсе не поднимаю шум. Однако нам следует относиться к этим кажущимся мелочам со всей серьезностью. Подобные вещи немаловажны.
Рыба подгорела. Мистер Понтелье к ней не притронулся. Эдна же заявила, что легкий привкус горелого ей не мешает. Жаркое пришлось мистеру Понтелье не по вкусу, к тому же ему не понравилось, как поданы овощи.
– Мне кажется, – заметил он, – что в этом доме расходуется достаточно денег, чтобы мужчина по меньшей мере один раз в день мог поесть без ущерба для собственного самоуважения.
– Раньше ты считал нашу кухарку сокровищем, – равнодушно возразила Эдна.
– Возможно, так и было, когда она к нам пришла. Но и кухарки – всего лишь люди. За ними нужен надзор, как и за любой другой категорией персонала, который мы нанимаем. Представь, если бы я не следил за служащими в своем офисе, а просто позволил бы им вести дела по-своему. Очень скоро они причинили бы мне и моему бизнесу немалый ущерб.
– Куда ты? – спросила Эдна, увидев, что муж встает из-за стола, не проглотив ни кусочка, если не считать нескольких ложек щедро приправленного супа.
– Я собираюсь поужинать в клубе. Доброй ночи. – Мистер Понтелье вышел в прихожую, взял с вешалки шляпу и трость и покинул дом.
Эдне подобные сцены были не в новинку. В прошлом они нередко доставляли ей сильное огорчение. Бывало, что у нее полностью пропадало всякое желание доедать свой ужин. Иногда она отправлялась на кухню, чтобы сделать кухарке запоздалый выговор. А однажды пошла к себе в комнату, целый вечер изучала кулинарную книгу и составила меню на неделю, после чего ее преследовало чувство, что, в сущности, она не сочинила ничего достойного.
Но в тот вечер Эдна все же доела ужин в одиночестве, с деланой обстоятельностью. Лицо ее раскраснелось, глаза горели каким-то внутренним огнем. Покончив с ужином, она пошла к себе, велев мальчику-слуге сообщать всем визитерам, что ей нездоровится.
Комната Эдны представляла собой красивый, просторный покой, нарядный и эффектный, освещенный мягким неярким светом, уже притушенным горничной. Женщина пересекла его, встала у раскрытого окна и устремила взгляд на густые садовые заросли. Там, среди благоухания и неясных петляющих очертаний цветов и листьев, кажется, сосредоточились вся таинственность и волшебство ночи. Эдна искала и находила себя именно в этом сладостном полумраке, который соответствовал ее настроениям. Но голоса, доносившиеся до нее из темноты, с небес над головой и со звезд, отнюдь не утешали ее. Они глумились над нею, в них слышались заунывные ноты, полные обреченности, лишенные даже надежды.
Эдна отошла от окна и начала ходить по комнате взад и вперед, из конца в конец, без остановки и отдыха. В руках у нее был тонкий носовой платок, который она изорвала на полоски, скатала в комок и отшвырнула прочь. Один раз она остановилась и, сняв с пальца обручальное кольцо, бросила его на пол. Увидев его на ковре, она наступила на него каблуком, стремясь раздавить. Но маленький каблучок не оставил на крошечном мерцающем обруче ни царапины, ни вмятины.
Обуреваемая чувствами, Эдна схватила со стола хрустальную вазу и запустила ее в плитки камина. Ей хотелось что-нибудь уничтожить. Раздавшийся грохот был именно тем, чего она желала услышать.
В комнату поспешно вошла встревоженная звоном разбившегося хрусталя горничная, чтобы узнать, в чем дело.
– Всего лишь разбилась ваза, – сказала Эдна. – Не беспокойтесь, оставьте это до утра.
– О! Вы можете поранить осколками ноги, мэм, – настаивала служанка, собирая разлетевшиеся по ковру черепки. – А вон ваше кольцо, мэм, под стулом.
Эдна протянула руку, забрала у горничной кольцо и надела его себе на палец.
На следующее утро мистер Понтелье, уходя к себе в контору, осведомился у Эдны, не желает ли она встретиться с ним в городе, чтобы присмотреть кое-какие новые украшения для библиотеки.
– Не думаю, что нам нужны новые украшения, Леонс. Не покупай больше ничего. Ты слишком расточителен. Сдается мне, ты и не помышляешь о том, чтобы копить или откладывать деньги.
– Богатыми становятся, зарабатывая деньги, моя милая Эдна, а не копя их, – парировал муж.
Ему было досадно, что жена не испытывает желания пойти с ним и выбрать новые украшения. Он поцеловал ее на прощание и заявил, что она неважно выглядит и обязана заняться собой. Женщина была необычайно бледна и очень спокойна.
Когда мистер Понтелье выходил из дома, Эдна стала на веранде перед домом и рассеянно сорвала с ближайшего шпалерника несколько веточек жасмина. Она вдохнула аромат цветов и сунула их за пазуху своего белого утреннего платья. Мальчики возили по тротуару игрушечную тележку, которую нагрузили кубиками и прутиками. Квартеронка следовала за ними маленькими быстрыми шажками, изображая по такому случаю напускную увлеченность и оживление. На улице громко расхваливал свой товар торговец фруктами.
Эдна с отсутствующим выражением лица смотрела прямо перед собой. Она не ощущала в душе интереса ни к чему вокруг. Улица, дети, торговец фруктами, росшие рядом цветы – все это были составляющие чуждого мира, который внезапно стал ей противен.
Женщина вернулась в дом. С утра она намеревалась поговорить с кухаркой о вчерашних оплошностях, но муж избавил ее от этой неприятной миссии, для выполнения которой она столь плохо подходила. Доводы мистера Понтелье обычно убеждали тех, кого он нанимал. Хозяин покинул дом, будучи совершенно уверенным в том, что сегодняшний вечер, а возможно, и несколько последующих они с женой проведут за ужином, заслуживающим этого названия.
Час или два Эдна потратила на изучение своих старых набросков. Она видела их изъяны и недочеты, бросающиеся в глаза. Женщина попыталась немного поработать, но обнаружила, что у нее нет настроения. Наконец она отложила несколько набросков – тех, которые сочла наименее жалкими, и когда чуть позже оделась и вышла из дома, захватила их с собой. В уличном наряде Эдна выглядела благородно и изысканно. Приморский загар уже сошел, и ее лоб в обрамлении густых золотисто-каштановых волос снова стал чистым, белым и гладким. На лице ее виднелись немногочисленные веснушки, а также маленькая темная родинка у нижней губы и еще одна на виске, полуприкрытая волосами.
Шагая по улице, Эдна думала о Робере. Она по-прежнему находилась во власти своего увлечения. Пыталась забыть молодого человека, осознавая никчемность воспоминаний. Но мысль о нем была сродни одержимости, которая никогда не отпускала ее. Эдна не перебирала подробности их знакомства, не вспоминала какие-то особенные или необычные черты личности Робера. Ее мысли подчинило себе само его бытие, его существование, иногда угасая, как бы истаивая в тумане забвения, иногда вновь возрождаясь с прежней силой и наполняя душу непонятной тоской.
Эдна направлялась к мадам Ратиньоль. Их дружба, завязавшаяся на Гранд-Айле, не ослабла, и после возвращения в город они виделись довольно часто. Ратиньоли жили недалеко от дома Эдны, на углу переулка, где месье Ратиньоль владел и управлял аптекой, предприятием прибыльным и процветающим. Прежде дело вел его отец, так что месье Ратиньоль был в о́круге на хорошем счету и обладал завидной репутацией человека честного и здравомыслящего. Его семья обитала в просторной квартире над аптекой, вход в которую находился сбоку, под porte cochère[36]. Во всем их образе жизни, по мнению Эдны, было нечто очень французское, очень иностранное. В большом уютном салоне, протянувшемся на всю ширину здания, раз в две недели Ратиньоли устраивали для своих друзей soirée musicale[37], иногда для разнообразия дополнявшийся карточной игрой. У них был знакомый, игравший на виолончели. Второй знакомый приносил флейту, третий – скрипку, кто-то умел петь, некоторые играли на фортепиано, каждый в меру своего вкуса и мастерства. Музыкальные вечера у Ратиньолей пользовались большой известностью, и получить на них приглашение почиталось за честь.
Эдна застала приятельницу за сортировкой одежды, вернувшейся утром из прачечной. Увидев Эдну, которую без церемоний проводили к хозяйке, Адель тотчас оставила свое занятие.
– Ситэ разберет вещи не хуже меня, и вообще это ее обязанность, – заверила она Эдну, которая стала извиняться за то, что помешала.
Затем, вызвав молодую чернокожую женщину, Адель вручила ей список вещей и наказала очень внимательно сверяться с ним. Она велела обратить особое внимание на то, вернули ли батистовый носовой платок месье Ратиньоля, утерянный на прошлой неделе, а также непременно отложить в сторону предметы, требующие починки и штопки. После этого, обняв Эдну за талию, мадам Ратиньоль повела ее в парадную часть дома, в салон, где было прохладно и сладко благоухали пышные розы в вазах у камина.
Здесь, дома, в неглиже, оставлявшем ее руки почти обнаженными и демонстрировавшем роскошные, плавные изгибы белой шеи, мадам Ратиньоль выглядела прекраснее, чем когда-либо.
– Возможно, однажды я сумею написать ваш портрет, – сказала Эдна с улыбкой, когда дамы сели. Она достала рулон с набросками и стала разворачивать его. – Полагаю, мне снова следует начать работать. У меня такое чувство, будто я хотела что-то сделать. Что вы о них думаете? Как по-вашему, стоит ли взяться за это снова и поучиться еще? Я могла бы позаниматься с Лэйдпором.
Эдна понимала, что мнение мадам Ратиньоль в подобном вопросе почти ничего не стоит, что она сама не просто задумалась об этом, но уже приняла решение. Однако ей требовались слова похвалы и поощрения, которые смогут вдохнуть жизнь в ее предприятие.
– У вас огромный талант, милочка!
– Ерунда! – запротестовала весьма довольная Эдна.
– Огромный, говорю я вам! – настаивала мадам Ратиньоль, которая, сощурив глаза и склонив голову набок, один за другим рассматривала наброски сперва вблизи, а затем на расстоянии вытянутой руки. – Безусловно, этот баварский крестьянин достоин того, чтобы его вставили в рамку. А эта корзина с яблоками! Я никогда не видала такого жизнеподобия. Почти поддаешься искушению протянуть руку и взять одно из них.
Похвала приятельницы, пусть даже с осознанием Эдной истинной ценности рисунков, невольно заставила ее поддаться чувству, граничащему с самодовольством. Она отложила для себя несколько набросков, а остальные отдала мадам Ратиньоль, которая сочла, что этот подарок куда дороже, чем он стоил в действительности, и с гордостью продемонстрировала рисунки своему мужу, когда тот чуть позже явился из своей аптеки на полдник.
Месье Ратиньоль был одним из тех людей, которых называют солью земли. Его жизнелюбие было безгранично и сочеталось с добросердечием, необычайной отзывчивостью и здравым смыслом. Он и его жена говорили по-английски с акцентом, который был заметен только из-за неанглийского произношения, а также определенной тщательности и обдуманности при выборе слов. У мужа Эдны ни малейшего акцента не было. Ратиньоли прекрасно понимали друг друга. Если когда-либо и свершалось на этой планете слияние двух человеческих существ в одно, то, несомненно, именно в их союзе.
Садясь с ними за стол, Эдна подумала: «Лучше блюдо зелени»[38], хотя ей не понадобилось много времени, чтобы обнаружить на столе не блюдо зелени, но аппетитное угощение, простое, отборное и во всех отношениях удовлетворительное.
Месье Ратиньоль был рад видеть миссис Понтелье, хотя нашел, что выглядит она не так хорошо, как на Гранд-Айле, и посоветовал ей укрепляющее средство. Он много рассуждал на различные темы: немного о политике, затем о городских новостях и соседских сплетнях. Вещал с воодушевлением и серьезностью, которые придавали каждому произносимому им слову преувеличенную важность. Его супруга живо интересовалась всем, что он говорил, опускала вилку, чтобы послушать, перебивала, снимала слова у него с языка.
Расставшись с ними, Эдна почувствовала себя скорее подавленной, чем умиленной. Мимолетное видение семейной гармонии, которое предстало перед нею, не вызывало у нее ни зависти, ни тоски. Подобный образ жизни ей не подходил, и она видела в нем только ужасающую и безнадежную скуку. Ею овладело нечто вроде сострадания к мадам Ратиньоль – сожаление об этом бесцветном существовании, которое никогда не поднимало ту, которая его вела, выше уровня бессмысленного довольства, во время которого ее душу ни разу не посетило страдание, при котором она никогда не ощутит вкус безумия жизни. Эдна полуосознанно задалась вопросом, что сама она имела в виду под «безумием жизни». Эти слова мелькнули у нее в голове как некое непроизвольное, инородное внушение.
Эдна не могла не понимать, что растоптать свое обручальное кольцо и разбить хрустальную вазу о камин было очень глупо, очень по-ребячески. Вспышек, толкавших ее на подобные бессмысленные выходки, больше не случалось. Молодая женщина начала поступать так, как ей нравилось, и чувствовать то, что ей хотелось. Она прекратила проводить все вторники дома и не отдавала визиты тем, кто к ней являлся. Не прилагала тщетных усилий к тому, чтобы вести хозяйство en bonne ménagère[39], уходила из дому и возвращалась, когда ей заблагорассудится. И, насколько было возможно, потакала своим мимолетным прихотям.
Мистер Понтелье был довольно галантным мужем до тех пор, пока встречал в жене молчаливую покорность. Но ее новый, неожиданный образ действий совершенно обескураживал. Он шокировал Леонса. Затем его разозлило ее абсолютное пренебрежение своими обязанностями. Когда мистер Понтелье стал грубым, Эдна сделалась дерзкой. Она решила больше не отступать ни на шаг.
– Мне кажется, что женщина, являющаяся хозяйкой большого дома и матерью, поступает крайне неразумно, целыми днями торча в своем ателье, вместо того чтобы стараться на благо семьи.
– Мне хочется рисовать, – возразила Эдна. – Возможно, я не всегда буду этого хотеть.
– Ну так рисуй себе, ради бога! Но не посылай ко всем чертям семью! Возьми мадам Ратиньоль: она продолжает заниматься музыкой, однако не бросает на произвол судьбы все прочее. И музыкантша из нее получше, чем из тебя художница.
– Она не музыкантша, а я не художница. Я махнула на все рукой отнюдь не из-за живописи.
– А из-за чего же?
– О! Я не знаю. Оставь меня в покое. Ты мне докучаешь.
Иногда мистеру Понтелье приходила в голову мысль, не делается ли понемногу его жена психически неуравновешенной. Он ясно видел, что она не в себе. Вернее, он не мог видеть, что в действительности Эдна становится собой и день за днем сбрасывает с себя то фальшивое «я», в которое все мы облекаемся, как в одежду, и появляемся в ней перед миром.
Мистер Понтелье оставил жену в покое, как она просила, и ушел к себе в контору. Эдна тоже поднялась в свое ателье – светлую комнату на верхнем этаже дома. Она работала с большой энергией и увлеченностью, не добиваясь, однако, того результата, который хоть сколько-нибудь удовлетворял ее.
На какое-то время она поставила на службу искусству всех домочадцев. Ей позировали сыновья. Сперва это занятие казалось им забавным, но вскоре оно утратило свою привлекательность, когда мальчики обнаружили, что это вовсе не игра, затеянная специально для их развлечения. Перед мольбертом Эдны часами просиживала квартеронка, терпеливая, как дикарь, за детьми же присматривала горничная, а в гостиной копилась пыль. Но и горничная отслужила свой срок в качестве модели, когда Эдна заметила, что ее спина и плечи вылеплены по классическим канонам, и волосы, выбивавшиеся из-под чепца, стали для нее источником вдохновения. Работая, Эдна порой тихонько напевала: «Ah! Si tu savais!»
Это пробуждало в ней воспоминания. Она снова слышала плеск воды, хлопанье па́руса. Видела отблески луны на поверхности залива и чувствовала мягкие, порывистые дуновения горячего южного ветра. Едва заметный ток желания пробегал по ее телу, кисть чуть не падала из пальцев, и глаза загорались огнем.
Случались дни, когда Эдна бывала очень счастливой, сама не зная почему. Она была счастлива, что живет и дышит, и все ее существо будто сливалось в единое целое с солнечным светом, красками, ароматами, благодатным теплом прекрасного южного дня. Тогда ей нравилось бродить в одиночестве по странным и незнакомым местам. Она открыла для себя множество солнечных, дремотных уголков, созданных для того, чтобы мечтать там. И как же отрадно оказалось мечтать в уединении и тишине.
Случались дни, когда Эдна бывала несчастной, также сама не зная почему. Ей чудилось, что не стоит ни радоваться, ни сожалеть о том, что она живет и дышит. Жизнь представлялась гротескной неразберихой, а люди – червями, слепо ползущими навстречу неизбежной гибели. В такие дни она не могла ни работать, ни лелеять грезы, волновавшие и будоражившие ее.
Именно в таком настроении Эдна пустилась на поиски мадемуазель Райс. Она не позабыла неприятного впечатления, оставшегося у нее с их последней встречи, но тем не менее испытывала желание увидеть эту даму – прежде всего для того, чтобы послушать ее игру. Она отправилась разыскивать пианистку в довольно ранний час, сразу после полудня. К сожалению, визитную карточку мадемуазель Райс Эдна то ли куда-то дела, то ли потеряла, и, узнав ее местожительство из адресной книги, выяснила, что та живет неподалеку, на Бьенвиль-стрит. Однако адресная книга, попавшая ей в руки, была в лучшем случае прошлогодняя, и, наведавшись по указанному адресу, Эдна обнаружила, что дом населяет респектабельное семейство мулатов, сдававших chambres garnies[40]. Они обитали там уже полгода и абсолютно ничего не знали о мадемуазель Райс, да, собственно, и о прочих своих соседях тоже. Все их жильцы – люди самого высокого положения, заверили они Эдну. Та не стала задерживаться, чтобы обсудить с мадам Пупонн классовые различия, а поспешила в соседнюю бакалейную лавку, уверенная в том, что мадемуазель оставила ее хозяину свой новый адрес.
Лавочник сообщил явившейся с расспросами посетительнице, что знает мадемуазель Райс намного лучше, чем ему хотелось бы. А по правде говоря, и знать ничего не хочет ни о ее обстоятельствах, ни о ней – самой неприятной и непопулярной женщине, когда-либо жившей на Бьенвиль-стрит. Он возблагодарил небеса за то, что мадемуазель Райс покинула округу, и столь же благодарен им за то, что не имеет понятия, куда она переселилась.
Как только возникли эти непредвиденные препятствия, желание миссис Понтелье увидеть мадемуазель Райс возросло вдесятеро. Она гадала, кто мог бы предоставить искомые сведения, как вдруг ее осенило, что ей наверняка поможет мадам Лебрен. Эдна знала, что справляться у мадам Ратиньоль, которая находилась с музыкантшей в весьма прохладных отношениях и предпочитала ничего о ней не знать, бесполезно. Однажды Адель прошлась насчет мадемуазель Райс почти с той же резкостью, что и бакалейщик.
Эдне было известно, что мадам Лебрен уже вернулась в город, поскольку была середина ноября. Был ей известен и адрес Лебренов: Шартр-стрит.
Их дом с железными решетками перед дверью и на нижних окнах внешним обликом напоминал тюрьму. Решетки были пережитком старого régime[41], и никому никогда не приходило в голову их снять. Сбоку к дому примыкала высокая стена, огораживавшая сад. Калитка и входная дверь были заперты. Эдна позвонила в колокольчик у садовой калитки и стала ожидать на тротуаре, когда ее впустят.
Ей открыл Виктор. У него за спиной маячила чернокожая женщина, вытиравшая руки о передник. Прежде чем увидеть этих двоих, Эдна услышала их перепалку: женщина – неслыханное дело! – отстаивала право на выполнение своих обязанностей, в которые входило и отпирание входной двери.
Виктор был удивлен и обрадован, увидев миссис Понтелье, и не пытался этого скрыть. Это был миловидный темнобровый девятнадцатилетний юноша, очень похожий на мать, но намного превосходивший ее импульсивностью. Он велел чернокожей служанке немедленно пойти и сообщить мадам Лебрен, что ее желает видеть миссис Понтелье. Женщина пробурчала, что отказывается от одних обязанностей, раз уж ей не позволяют выполнять другие, и вернулась к прерванному занятию – прополке сада. После этого Виктор сделал ей выговор в виде залпа оскорблений, столь торопливых и бессвязных, что Эдна не разобрала их. Как бы то ни было, выговор оказался убедительным, ибо служанка бросила тяпку и с ворчанием потащилась в дом.
Эдна входить не пожелала. На боковой веранде, где стояли стулья, плетеный шезлонг и маленький столик, царила благодать. Женщина села, ибо устала после долгой прогулки, и начала тихонько покачиваться, разглаживая складки своего шелкового зонтика. Виктор придвинул к ней свой стул. Юноша сразу же объяснил, что оскорбительное поведение чернокожей служанки вызвано ее дурной вышколенностью, поскольку он еще не успел взять дело в свои руки. Виктор приехал с острова лишь накануне утром и рассчитывал на следующий день вернуться обратно. Он проводил на Гранд-Айле всю зиму, жил там, поддерживая в пансионе порядок и готовя его к летнему приему гостей.
Однако мужчине порой необходим отдых, сообщил Виктор миссис Понтелье, а посему он время от времени подыскивает предлог, чтобы наведаться в город. Но боже, что было накануне вечером! Юноша не хотел, чтобы об этом узнала мать, а потому перешел на шепот. Воспоминания заставили его сиять как медный грош. Конечно, он и помыслить не мог о том, чтобы откровенно поведать миссис Понтелье обо всем случившемся: она ведь женщина и не поймет таких вещей. Однако все началось с того, что какая-то девушка стала глядеть на него и улыбаться сквозь ставни, когда он проходил мимо. О, какая она была красавица! Разумеется, он улыбнулся в ответ, подошел и заговорил с нею. Миссис Понтелье его совсем не знает, если полагает, что он из тех, кто упустит подобную возможность. Юноша невольно позабавил Эдну. Должно быть, в ее взгляде засквозил какой-то интерес или любопытство. Язык у мальчишки развязался, и через некоторое время миссис Понтелье, возможно, обнаружила бы, что ее потчуют цветистыми россказнями, не появись на веранде мадам Лебрен.
Эта дама, по своему летнему обыкновению, все еще носила белое. Взгляд ее излучал чрезвычайное радушие. Не заглянет ли миссис Понтелье в дом? Не желает ли отведать чего-нибудь? Почему она не заходила раньше? Как поживают дорогой мистер Понтелье и милые детки? Может ли миссис Понтелье припомнить такой теплый ноябрь?
Виктор подошел и опустился на плетеный шезлонг позади стула матери, откуда ему было хорошо видно лицо Эдны. Еще во время беседы с ней он взял у нее из рук зонтик и теперь, лежа на спине, раскрыл его и крутил у себя над головой. Мадам Лебрен начала жаловаться, что возвращаться в город было та́к грустно, что нынче она видит та́к мало людей, что даже Виктору, когда он приезжает с острова на день или два, есть чем заняться и заполнить досуг. Тут юноша скорчил гримасу и озорно подмигнул Эдне, а она почему-то почувствовала себя сообщницей преступления и постаралась принять суровый и осуждающий вид.
От Робера пришло всего два послания, и из них мало что можно почерпнуть, сообщили ей. Виктор, когда мать попросила его принести письма, заявил, что они вовсе не стоят того, чтобы за ними ходить. Он и так помнил их содержание, которое, надо сказать, будучи подвергнуто проверке, отбарабанил весьма гладко.
Одно письмо было написано в Веракрусе, другое – в Мехико. Робер встретился с Монтелем, который сделал все возможное для продвижения Робера по службе. Пока что финансовое положение молодого человека по сравнению с тем, какое было у него в Новом Орлеане, не улучшилось, но перспективы, безусловно, были весьма заманчивы. Он описывал Мехико, здания, людей и их обычаи, условия жизни, которые там обнаружил. Передавал приветы родным. Вложил в конверт чек для матери и выразил надежду, что она будет с любовью вспоминать о нем в беседах со всеми его друзьями. Таково было примерное содержание обоих писем. Эдна сочла, что, будь у Робера для нее сообщение, его бы ей передали. Ею снова начало овладевать угнетенное состояние духа, в котором она ушла из дому, и ей вспомнилось, что она хотела разыскать мадемуазель Райс.
Мадам Лебрен знала, где живет мадемуазель Райс. Она дала Эдне адрес, сожалея, что та не согласилась провести остаток дня у нее, а визит мадемуазель Райс нанести в какое-нибудь другое время. Дело было уже к вечеру.
Виктор проводил Эдну до улицы, раскрыл ее зонтик и держал его над ней, пока вел к трамваю. Юноша умолял миссис Понтелье не забывать, что его сегодняшние откровения были строго конфиденциальны. Эдна рассмеялась и немного подразнила его, слишком поздно вспомнив, что ей следует сохранять достоинство и сдержанность.
– Как хороша была сегодня миссис Понтелье! – сказала мадам Лебрен сыну.
– Обворожительна! – согласился Виктор. – Атмосфера города пошла ей на пользу. Словно совсем другая женщина.
Кое-кто утверждал, что мадемуазель Райс всегда выбирает квартиры под самой крышей с той целью, чтобы ее не беспокоили попрошайки, бродячие торговцы и визитеры. В ее маленькой гостиной было множество окон. По большей части грязных, но зато почти всегда распахнутых настежь, так что это не имело особого значения. Зачастую они впускали в комнату немало дыма и копоти, но вместе с тем много света и воздуха. Из окон виднелся изгиб реки, мачты судов и большие трубы миссисипских пароходов. Все помещение гостиной заполнял собой великолепный рояль. В соседней комнате мадемуазель Райс спала, а в третьей, и последней, стояла бензиновая плита, на которой она стряпала, когда не хотела спускаться в ближайший ресторанчик. Там же она и ела, держа все столовые принадлежности в старинном буфете, измаранном и обшарпанном за те сто лет, что им пользовались.
Деликатно постучав в дверь гостиной мадемуазель Райс и войдя, Эдна обнаружила, что та стоит у окна и то ли штопает, то ли латает старую прюнелевую гетру. Увидев миссис Понтелье, маленькая музыкантша громко рассмеялась. Смех ее сопровождался конвульсивными подергиваниями лица и всех мышц тела. В предвечернем свете мадемуазель Райс казалась поразительно некрасивой. Она по-прежнему носила выцветшие кружева и искусственный букетик фиалок в волосах.
– Итак, вы наконец-то вспомнили обо мне, – произнесла мадемуазель. – Я говорила себе: «Ба! Она никогда не придет».
– Вам хотелось, чтобы я пришла? – с улыбкой поинтересовалась Эдна.
