Прошлое время
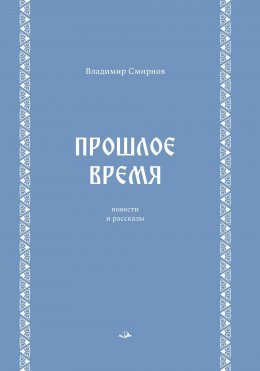
© Смирнов В. Н., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024
Лесное Заволжье
(очерки истории)
Глава 1. Галич и Москва
Лесное Заволжье – это обширный край, простирающийся к северу и северо-востоку от Костромы и включающий костромские, ярославские, вологодские, вятские земли с городами Галич, Солигалич, Чухлома, Буй, Судиславль, а также Вологда, Котельнич, Макарьев и другие. Когда-то эти места отличались труднопроходимыми лесами, которые и составляли основу жизни местного населения. До X–XI вв., в дославянские времена, там обитали финно-угорские племена коми, чудь, меря и другие. Во времена славянской экспансии они были частично вытеснены пришедшими племенами на север, а частично ассимилировались с ними.
В труднейших условиях ограниченности жизненно важных ресурсов, малоурожайности земель, сурового климата жители лесного Заволжья сумели выстоять, черпая силы исключительно в особенностях своего характера: терпении, добродушии, доброжелательности. Лесное Заволжье прямо или косвенно играло заметную роль в становлении Русского государства, будучи прикрытием с востока московских земель. Действительно, в Средневековье Московское княжество на западе граничило с Литовским, Тверским, Рязанским княжествами, которые достаточно часто выступали противниками Москвы. Основанные в XII в. Кострома на Волге, Вологда на р. Вологда, Галич-Мерьский на Галическом озере, а также основанные позже Хлынов на Вятке и другие города издавна считались уделами московских великих князей. Отсюда приходили ополчения для борьбы Москвы со степью, с Литвой, а также с другими князьями.
Однако именно здесь в XV веке была развязана кровавая междоусобица внутри семейства потомков Дмитрия Донского. Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), великий князь Владимирский и Московский, внук Ивана Калиты (1304–1340) и праправнук Александра Невского (1220–1263), имел 11 детей. На год его кончины в живых было 5 сыновей и 3 дочери. Уже после его смерти родился ещё один сын – Константин.
В своем завещании Дмитрий Донской великокняжеский престол оставил старшему сыну – Василию, которому исполнилось к тому времени 7 лет. В завещании говорилось: «А отымет Бог сына моего старейшего Василья, а хто будет под тем сын мой, и тому сыну моему стол Васильев, великое княжение». Под Василием, т. е. младше Василия, был второй сын покойного великого князя – Юрий Дмитриевич. В завещании не была предусмотрена возможность передачи великокняжеской власти сыну Василия Дмитриевича. Такой порядок ввёл сам Василий I. На основании этого впоследствии и возникла многолетняя тяжба дяди (Юрия Дмитриевича) с племянником, сыном Василия I, Василием Васильевичем.
Родословная таблица семьи Дмитрия Донского
По завещанию Дмитрия Донского, второму сыну – Юрию Дмитриевичу – в удел отводились подмосковный город Звенигород, а также Руза, Галич, земли на Востоке. Василий Дмитриевич скончался в 1425 году, когда сыну его, Василию, было всего 10 лет. Юрий, князь Звенигородский и Галический, будучи в то время мужчиной в расцвете сил (ему было около 50 лет), опираясь на завещание Дмитрия Донского и существовавший до того правопорядок престолонаследия («по отчине, а не по роду»), не хотел признавать власть малолетнего племянника, а желал сам занять великокняжеский престол. Однако московская знать во главе с митрополитом Фотием воспротивилась этому, считая, что удельный князь приведёт в Москву свое боярство, будет менять привычный порядок. Этому же воспротивился и могущественный князь литовский Витовт, дочь которого, Софья, являлась матерью малолетнего великого князя. Юрий Дмитриевич вынужден был смириться, однако после смерти Витовта в 1431 году возобновил свои притязания, объясняемые не только стремлением установить справедливость, но и желанием вернуть Русь в положение победительницы, как это было во времена Донского. Он чувствовал себя способным организовать освобождение земли от татаро-монгольского ига. Надо сказать, что основания для такой надежды у него были: ещё в 1395 году, будучи 21 года от роду, он был во главе успешного похода русских полков на булгар и татар Поволжья, о чём летописец писал: «…и никто не помнит только далече Русь воевать Татарскую землю». В 1408 году он снова успешно воевал с татарами. Таким образом, военный опыт у него был. Он и на стезе государственной показал себя положительно – умел наладить добрые отношения с Великим и Нижним Новгородами. Он строил церкви, а для росписей церквей своего удела привлекал известнейших изографов – Андрея Рублева, Феофана Грека и других.
Считая военное решение вопроса неправильным, князь Юрий обратился в Орду за помощью в споре. Тогдашний хан Золотой Орды Улу-Мухамет решил спор в пользу Василия, видимо, почувствовал в дяде более опасного противника Орды, чем мог быть юный Василий. В 1432 году Василий получает ярлык от хана на великое княжение. Видимо, князь Юрий смирился бы с этим приговором, но он сам и его род Юрьевичей вскоре получил тяжкое оскорбление от матери великого князя Софьи Витовтовны, послужившее толчком к обострению отношений.
Всё случилось из-за пояса Дмитрия Донского, который оказался у Юрьевичей в качестве приданого одному из сыновей и который Софья Витовтовна сочла украденным Юрьевичами. Она публично сорвала пояс со старшего сына князя Юрия – Василия Косого – и обвинила его в воровстве. Такое не прощается – князь Юрий встал, как бы сейчас сказали, на тропу войны, и в 1433 году пошел на Москву «ратно и оружно». Спешно собранное Василием войско не смогло ему противостоять, звенигородские и галические полки вошли в столицу великого княжества. Василий с семьей сбежал в Кострому, куда 25 апреля 1433 года и прибыл Юрий Дмитриевич, уже объявивший себя великим князем. Он дает в удел племяннику Коломну, никаких репрессий не проводит, хотя его сыновья – Василий Косой и Дмитрий Шемяка – считали это неправильным, могущим привести к непоправимым последствиям, что и случилось: из Москвы в Коломну начался повальный переход московских жителей – бояр, слуг. Юрий Дмитриевич москвичами не был признан законным государем. Он, видимо, мог бы принять соответствующие меры, но, будучи человеком чести, просто по-человечески огорчился таким отношением людей и вернулся в Галич, возвратив племяннику – Василию II – право великого княжения.
Его сыновья с тем не смирились, а с дружиной галических и вятских ратников разбили под Костромой великокняжеское войско. Василий II пошел войной на Галич, взял его, разграбил и сжег. Князь Юрий ушел на север. Собрав ратные силы, он весной 1434 года занял Москву, 31 марта 1434 года снова объявив себя великим князем Московским, скрепив грамотами союз с некоторыми князьями. Василий бежал.
Трудно сказать, как бы развивались дальше события, но внезапно летом 1434 года великий князь Московский Юрий Дмитриевич скончался от сердечного приступа в возрасте шестидесяти лет.
Его сыновья Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный помирились с Василием II, Василий же Косой объявил через глашатаев, что он как старший сын становится великим князем Московским. Не поддержанный родными братьями, вступив под Ростовом в решающую битву с двоюродным братом, он проиграл её, был пленен и по приказу Василия II в 1436 году ослеплен. Так закончился этот трудный, напряженный период истории Московского княжества. Прошло 11 лет. 6 июля 1445 года, отражая нападение татар у Суздаля, войско великого князя Василия II потерпело неудачу. Он сам был взят в плен, получил много ранений.
Узнав об этом, москвичи пришли в ужас, боясь татарского набега. Его, к счастью, не последовало, но пришла другая беда: страшный пожар выжег стольный город. 26 октября за большой выкуп отпущенный татарами великий князь вернулся в Москву, превращенную огнем в пепелище. Живший эти годы в своем уделе, в Угличе, Дмитрий Шемяка решил воспользоваться ситуацией. Образовался заговор против Василия II. Князья Дмитрий Шемяка и Иван Можайский решили объединиться, сместить Василия и поставить великим князем Московским Дмитрия Шемяку. Заговорщики оправдывали свои действия слабостью великого князя, его любовью к татарам.
Захватив Москву, они пленили семью Василия, затем и его самого. По приказу Дмитрия Шемяки Василия ослепили и сослали в Углич. В феврале 1446 года Дмитрий Шемяка провозглашает себя великим князем Московским.
Был ли он готов к этому? Был ли он достоин этого? На оба вопроса ответить, видимо, можно отрицательно. Государственных и военных талантов у него не было. Это показали последующие события. Проводимая им денежная реформа, когда перечеканивались монеты с уменьшением вдвое веса монет того же достоинства, что и ранее, привела к недовольству населения, поскольку покупательная способность денег снизилась и цены выросли.
Галич средних веков
Великий Новгород, чувствуя слабость власти, перестает платить в московскую казну. Золотая Орда требует дани, грозит войной. Казанские татары взяли в осаду Великий Устюг и отошли только тогда, когда им заплатили большой выкуп. Чувствуя всеобщее недовольство, Шемяка решил сделать доброе дело – освободить Василия II (Тёмного) с семьей и дать ему в удел Вологду, что и было сделано.
Сразу же в Вологду стали съезжаться князья, бояре, духовенство, уговаривая Василия II бороться за великое княжение. Препятствием было крестное целование, обещание, данное Василием II Дмитрию Шемяке, не искать великокняжеского престола. Однако игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон взял на себя клятвопреступление князя. Дорога к престолу была открыта. Привлекши на свою сторону князя Тверского Бориса путем обручения его пятилетней дочери со старшим сыном Василия Иваном (будущим великим князем Иваном III), которому исполнилось 6 лет, Василий решился. В поддержку Василия выступили князья Оболенский, Ряполовские, Иван Стрига, Ощера, а также татарские царевичи из Казани с войском, вошедшим в столицу. Шемяка ушел на север в Галич, захватив как заложницу Софью Витовтовну, мать Василия, которую вскоре отпустил. В феврале 1447 года Шемяка дал клятву не искать более великого княжения. Мы знаем, что клятвы такого рода нарушались легко, и уже через полгода Шемяка снова заявил о своих намерениях. Митрополит направил ему грамоту с угрозой проклятья, но жажда власти у Шемяки была неутолима. Он осадил Кострому, но был отбит.
Василий II решил окончательно расправиться с мятежным двоюродным братом. Большое ополчение под началом великого князя и князя Оболенского зимой 1450 г. выступило на Галич, оплот Дмитрия Шемяки, получив благословение митрополита. Шемяка имел в своем распоряжении пушки. Город был укреплен, к тому же позиция для войска Шемяки была удобная – оно располагалось на крутой горе, подступы которой отличались глубокими оврагами. Московские войска, имея численное превосходство, подступали от Галического озера через овраги. Шемяка мог бы в овражистой пересеченной местности устроить засады и иные препятствия, но он этого не сделал и ждал на горе неподвижно.
Московское войско штурмом дружно пошло на приступ горы.
Как говорит летопись, сеча была кровопролитной, но скоротечной. Шемяка не сумел использовать преимущества местности и наличие пушек. Полководец, видимо, он был слабый. Рать Василия Тёмного одолела противника – галических да вятских мужиков (надо думать, необученных и недостаточно вооруженных).
Это было последнее крупное кровопролитие русских людей в княжеской междоусобице.
Дмитрий Шемяка бежал в Великий Новгород, который, будучи в давнишней вражде с Москвой, принял его доброжелательно. В 1452 году Василий II посылает против него рать к Великому Устюгу. Шемяка ушел на север. Неизвестно, что бы ещё предпринял амбициозный князь, но вскоре он, по некоторым данным, был отравлен в Новгороде и скончался в 1453 году. Галический удел был присоединен к Москве. Вятская земля также входила ранее в удел Шемяки.
Жители её поставляли воинские силы галическим князьям ещё с тех пор, когда отец Василия II присоединил Вятку к московским областям, лишив новгородцев права управлять ею. Н. М. Карамзин показывает Вятку народной державой, сохранившей дух вольности, основанный на новгородских законах.
Василий II послал туда сильное войско, взявшее городки Котельнич и Орлов, после чего Вятская земля обязана была платить московскому государю дань и поставлять ему воинскую силу.
Так закончилась многолетняя междоусобица XV века, противостояние князей галических и московских. Галические полки больше не занимали Москву, а московские рати не ходили в походы на Галич.
Вообще Галич подвергался нашествиям противника неоднократно, например, в 1429 году город был опустошен татарами во время их разбойничьего набега, тогда же была разграблена и Кострома. Татары увели с собой многих жителей в плен, но рязанские и московские дружины догнали захватчиков и отбили полон и другую добычу татар.
Ну, и князь Московский дважды ходил походом на Галич. Первый раз это было в 1434 году после поражения московской рати в битве с галичанами, возглавляемыми сыновьями Юрия Дмитриевича, на реке Кусь у Костромы, тогда Василий II (Тёмный) в отместку разоряет Галич. Именно после этого князь Звенигородский и Галический Юрий Дмитриевич захватывает Москву и становится великим князем московским.
Во второй раз московское войско, возглавляемое Василием Тёмным, в 1450 году осаждает Галич и наносит поражение сыну Юрия Дмитриевича – Дмитрию Шемяке – в кровопролитной битве в Галиче, после чего великий князь занимает город и присоединяет галический удел к Москве.
Лесное Заволжье
За прошедшие пять с половиной веков Москва стала многомиллионным столичным городом. Галич же сейчас – районный центр Костромской области, о котором в энциклопедическом словаре сказано: «Галич, город в Костромской области, на Галичском озере. Железнодорожный узел. Машиностроение, легкая, мебельная промышленность. Краеведческий музей. Известен с 13 века». И всё.
Москва с тех времен выросла и расцвела, Галич же остался провинциальным городком примерно с пятьюдесятью тысячами жителей. Москва «отомстила» удельному княжеству, князья которого посягнули на великокняжеский престол.
Глава 2. Новая династия
Прошло полтора века. За это время на русской земле произошли огромные изменения. Главным из них было утверждение абсолютизма на Руси – великий князь московский (позже царь) стал самовластным хозяином земли Русской. Территория Московского княжества расширилась до невероятных размеров – Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирь и многие другие земли покорились белому царю к началу XVII века. Никто уже не оспаривал установившийся порядок престолонаследия; верховная власть передавалась от отца к старшему сыну. Дядья монарха, как бы юн он ни был, отнюдь не выступали с притязанием на престол, как это было в XV веке. Да и великих князей Тверского, Рязанского, Серпуховского и других не было – был один великий князь московский, остальные считались его слугами. К такому порядку все привыкли за эти годы (он давал, по крайней мере, гарантии против кровавых междоусобий и битв между русскими людьми).
Но в 1598 году последний царь из рода Рюриковичей, сын Ивана Грозного Федор Иоаннович скончался, пресеклась династия Рюриковичей, правивших Русью более 700 лет. Началась смута. В 1604 году от Литвы московскую границу пересек человек, объявивший себя сыном Ивана Грозного Дмитрием, обещавший народу мир и благоденствие и призывавший служить ему как законному государю. Кто был самозванец? По свидетельству Н. М. Карамзина, им оказался бедный сын боярский, галичанин Юрий Отрепьев, служивший в доме у Романовых и Черкасских.
Он был пострижен в монахи вятским игуменом Трифоном и назван Григорием, жил он в Галической обители Иоанна Предтечи и других, затем в Чудовом монастыре, откуда сбежал в Литву. История самозванца известна. Правление его в Москве продолжилось одиннадцать месяцев. Смутное же время длилось до 1613 года, когда был созван Земский собор для избрания царя. По свидетельству летописца, первым кандидатуру Михаила Романова, отец которого приходился двоюродным братом покойному царю Федору Иоанновичу, предложил какой-то дворянин из Галича (история не сохранила его имя) и один из донских атаманов. Михаила единодушно избрали на царский престол 21 февраля 1613 года.
После долгих уговоров шестнадцатилетний Михаил, находившийся в Ипатьевском монастыре в Костроме с матерью, инокиней Марфой, соглашается принять царство. Так история распорядилась, что и здесь город Галич проявился в самом неожиданном виде.
Глава 3. В лесах Заволжья
События государственного уровня, описанные в предыдущих главах, происходили на фоне жизни простых людей Лесного Заволжья. Поэтому интерес представляет не только жизнь династий великих мира сего, но и жизнь простых людей – тех самых галичан, костромичей, вологодцев, вятичей, от которых проистекали события исторические.
Как жили эти люди в лесах Заволжья?
С тех пор как племена чуди, меря и другие местные народы уступили свои исконные земли руси или соединились с ними, прошло много лет. Как память остались названия рек, городов, в частности, город Галич Мерьский, основанный ранее XIII века, упоминаемый впервые в летописи 1237 году в связи с нашествием татар на костромские и галические земли.
Город строился на берегу Галического озера, о чем свидетельствуют остатки земляных древних укреплений в виде валов в полутора километрах от нынешнего центра города.
Первая галическая крепость была построена непосредственно на озерном берегу, на склоне холма. Земляные валы с боков Нижнего городища (так называлась крепость) возвышались по краям оврагов. Со стороны, противоположной озеру, был вырыт специальный глубокий ров, а сверху насыпан мощный вал. До конца XIV – начала XV в. это Нижнее городище служило укреплением города.
К середине XV в. старые укрепления были дополнены Верхним городищем (крепостью на Шемякиной горе), которая примыкала к напольной стороне старой крепости. Там, где новая крепость не защищалась оврагами, были насыпаны валы, по верху которых были построены деревянные стены с башнями. Внутри размещался княжеский двор и церковь. Над городом возвышалась княжеская цитадель как символ могущества власти удельного князя. А вокруг в эти годы началась закладка форпостов княжества – монастырей, а также храмов. Галическая земля отличалась большим количеством святых мест – церквей, монастырей, например, по сборнику 1908 года действовали Макарьевский женский Троицкий монастырь (основан в 1439 г.), Высоковский Успенский мужской монастырь, Свято-Троицкий женский монастырь в 40 верстах от Галича, Николаевский Староторжский женский монастырь на берегу Галического озера (основан в XV в.), Паисиев мужской монастырь в 1,5 верстах от Галича, основанный в XIV в., Богородский Федоровский женский монастырь в Солигалическом уезде, Железоборовский Предтеченский мужской монастырь в 16 верстах от г. Буя, где был пострижен известный Григорий Отрепьев, Авраамиев Городецкий Покровский монастырь в 12 верстах от Чухломы и другие. Говорят, что, когда великий князь московский Василий Тёмный завоевал город Галич в войне с кланом Юрьевичей, то он увез в Москву чудотворный образ Божьей Матери из Успенской церкви и поместил его в своей церкви, а ключ взял с собой. Но той же ночью икона явилась на старое место в Галич. Ниже пойдет речь об островке среди лесов Заволжья – нескольких деревнях Галического уезда в 35 километрах от Галича. Здесь, как в капле воды, отразилась жизнь огромной нашей родины как жизнь части Лесного Заволжья. Здесь тоже не избежали разграбления церкви, часовни, которых достаточно много было в округе. Близкая нашему роду церковь Вознесения в селе Жуково была разломана, а кирпич пошел на помещение склада «Заготлен» в райцентре. Храм в селе Бобынино был превращен в мастерскую по ремонту тракторов. В деревнях Дегтярево и Извал разрушены были часовни и т. д. Характерно, что после Великой Отечественной войны жители этих деревень покинули свои дома. Говорили, что бог от них отвернулся. Так это или не так, но округа, имевшая до революции множество деревень и достаточно плотно населенная, осталась без бога, без того, что многие века формировало нравственные начала у людей, внушая святые заповеди «не убий, не укради, чти отца своего…».
Церкви рушились, кладбища зарастали.
Край наш – речной, везде речки, речушки и реки. Поблизости от наших деревень две реки – Нея и Шуя. Первая впадает в Унжу, вторая – в Немду, являющиеся притоками
Волги. Обе летом сравнительно неширокие, разливаются только весной. В наших краях они берут начало. Поближе к нам была Нея. Она лентой вьется среди берегов и как на нитку бусинки собирает около себя лесные деревни. Деревни в Лесном Заволжье были чаще всего небольшие. Например, в родной деревне Якунино был 21 дом. Но были и большие села – в Антушево до Великой Отечественной войны стояло около сотни вместительных деревянных домов.
Как правило, деревни в наших краях располагались на возвышенностях, поскольку места – холмистые, ледник тут прошел в давние времена основательно. У подножия естественного холма, на котором стояла деревня, текла речка, такая же, как наша Нея. Если с крыши дома окинуть взглядом места нашего детства, то вокруг можно увидеть леса и перелески, а на холмах – крыши деревень, которые видны километров за десять. Среди золотого осеннего марева лесов выделялась белая колокольня церкви св. Софии в деревне Антушево
(построенной, говорят, на пожертвования одной из ветвей семейства М. Ю. Лермонтова).
В лесных местностях жизнь трудна, тем более что климат суровый, почвы подзолистые; как говорят сейчас – это зона рискованного земледелия. В старославянские времена было, как известно, подсечное земледелие, когда выжигали леса и обрабатывали затем несколько лет удобренную почву, выжигая затем последующие участки. Теперь это невозможно. При низких урожаях семье было трудно прокормиться. Трудоспособное население в крестьянстве работой не обеспечивалось. Недалеко от наших деревень – у деревни Бушнево – проходил Сибирский тракт, многие по этому тракту вынуждены были уходить на заработки летом в города – до Москвы было около 500 километров, до Питера 800. Отходники занимались там знакомым плотницким,
печным или столярным делом.
Между тем, в 1904–1905 гг. тишину наших лесов нарушили паровозные гудки – между Шуей и Неей была построена железная дорога (сейчас Транссибирская магистраль —
от Москвы в Сибирь). Если раньше предки наши до Москвы на лошадях добирались полторы – две недели, то теперь чугункой могли доехать за сутки с небольшим. С железной дорогой (от нашей деревни Якунино она проходила в трех километрах) появились рабочие места – строили станции,
требовались рабочие на железнодорожный путь.
Особую сферу деятельности составляли лесозаготовки. До 1941 года появились и развили бурную деятельность лесозаготовительные организации. Вырубались леса, древесина свозилась на близлежащие железнодорожные станции и отгружалась на стройки пятилетки. У села Бушнево
был построен лесопильный завод.
В войну началась интенсивная заготовка леса – пиловочника (длиной по 1 м леса любой породы – береза, осина:
хвойный лес был в основном вырублен). Пиловочник грузился в вагоны и отвозился в депо ст. Буй Северной железной дороги для топки паровозов. Заготавливали лес подростки,
женщины, инвалиды в любую погоду – мороз, снег, дождь.
За это полагался паек – 600 граммов хлеба.
Особо надо сказать о коллективизации крестьян в
начале 30-х годов XX века. Крестьяне – народ консервативный, особо в колхоз люди не рвались. Недовольных раскулачивали со ссылкой на север или в Сибирь. Руководили раскулачиванием комбеды, в которых состояли самые бедные люди в деревне, т. е., как говорили остальные жители, – самые ленивые. Раскулачивали иногда потому, что хозяин отличался чем-то от прочих, имел, например, две коровы, две лошади.
Тогда не было ни судов, ни прокуратуры, местная власть только зарождалась. Например, был такой случай.
Приехал из РИКа (исполнительного районного комитета) мужчина в коже и с портфелем. Выступая, сказал, что безвластию надо положить конец и надо выбрать свою местную советскую власть. После обсуждения на должность председателя сельсовета была предложена кандидатура Ивана Коновалова из деревни Михеево: он безлошаден, все равно ему без лошади делать нечего. То есть, он бедняк, а эта власть – власть бедняков.
Вместо суда официального распространен был самосуд. Вора (а именно это преступление чаще других имело место) судили своим судом. Особо не любили конокрадов (чаще всего, это были цыгане).
На деревни приходили разнарядки по раскулачиванию. Однажды, в 1931 году, председатель сельского совета, такой же мужик, сообщил отцу, что его семья у властей на примете. В доме деда тогда жили наш отец Николай Николаевич и его младший брат Александр Николаевич. Один прошел две войны – первую мировую и Гражданскую, второй – красный командир, демобилизован по ранению.
В семьях было в то время четверо детей, две старухи (мать братьев и бабка). Вроде бы при многодетной семье и определенных заслугах перед отечеством опасности раскулачивания быть не должно.
Тем не менее, решили произвести официальный (с составлением соответствующего акта, при участии представителей власти) раздел общего имущества на две части, чтобы войти в разряд середняков. Согласно акту, подлежало разделу: дом старый, двор пристроенный, изба сбоку, четыре сарая, амбар, баня, мякинница, две избушки, овин, конюшня, а также две коровы, одна лошадь, две овцы, шесть куриц, один петух, один поросенок, телега, тарантас, плуг, борона, сани дровни и сани пошевни, а также хомуты, шлея, седелки, два самовара и т. д.
Земля составляла огувенник усадебный, пашня в полях общества на два пая, сенной покос в полях общества тоже на два пая.
При создании колхоза кормилец – конь Ванька – был переведен в общественный скотный двор. Александр
Николаевич (бывший красный командир) избран председателем колхоза имени 14 лет Октября, туда входили три деревни – Якунино, Демино и Бураково. Общих хозяйств в колхозе набралось около пятидесяти.
Колхозу была выделена сельскохозяйственная техника. Прибывшую колонну первых тракторов встречали всем селом, включая грудных младенцев. Трактора эти были для всех прямо-таки чудом.
Старший из братьев – Николай – после демобилизации в 1921 году устроился на железную дорогу.
Каков был быт крестьян в то время? До войны деревни, в общем-то, как-то держались. В каждой семье было много ребятишек, родившихся в промежутке между Гражданской и отечественной войнами. В сравнительно небольшой деревне Якунино было более 50 детей и подростков. Чаще всего дети находились на улице. Игрушек фабричных практически не было. Играли в «лодыжки» (костяшки от ног скота), а весной в лапту, в «лунки», в прятки. Интересна игра с попаданием в деревянный шарик палкой, игра наподобие городков. Водящий бегает за сбитым шариком и ставит снова на место до тех пор, пока не промахнется напарник, который после промаха становился водящим.
Любимым занятием детей и подростков была лапта, где играющие делились на две команды, одна из которых была, так сказать, активной, а другая пассивной. Игрок из «пассивной» команды подбрасывал мяч, «активный» палкой бил по нему в воздухе. В это время «активные» для получения права очередного удара бежали до определенной черты в сторону «пассивных», а кто-то из последних должен был попасть в «активных» мячом. Замечательная игра!
Надо отметить, что жизнь детей и подростков не заключалась только в играх. Трудиться приходилось с детства. Старшие нянчились с малышами, а с наступлением тепла все уходили в лес по грибы и ягоды. Дары природы использовались детьми весьма активно. Сначала по весне из земли появлялись «песты» (хвощ полевой), затем наступала очередь щавеля лугового, березового сока, соснового сока (это не жидкость, а будущий годичный слой дерева, снимавшийся тонкой стальной струной с палочками на концах и употреблявшийся в виде белых сладких лент). Затем шли грибы и ягоды. Родители уходили на работу, а подростки – в лес (взрослым в лес ходить было как-то не принято, только если по грибы в дождливый день). Грибы сушили, солили, бруснику и клюкву замачивали, малину и чернику сушили (в русских печках это очень хорошо получалось). Все эти дары леса были подспорьем в голодноватое то время наряду с огородной продукцией (капустой, морковью, брюквой, свеклой, ну и конечно, картошкой, которая воистину была как второй хлеб). Всё это позволяло выжить, но требовало больших трудов. Если в семье были девушки, то им родители готовили заблаговременно приданое. Невеста должна быть одетой и обутой, должна быть приготовлена постель, включая матрас, одеяла, простыни, наволочки, подушки (после сватания перед свадьбой жених приезжал за постелью). До этого заправленная и снабженная постельным бельем кровать невесты стояла для всеобщего обозрения, а поверх одеяла и покрывала лежали платья и юбки невесты. Было принято ходить к молодой, смотреть, перебирать, пересчитывать это имущество. Родители должны были снабдить молодую сундуком или шкафом, или кроватью. Мужчины в нашей местности были в большинстве мастеровые, столярку делали сами на свой вкус.
Свадьбы летом не играли, а больше к зиме. Женились и выходили замуж кто по любви, а кто через посредника
(сватов, сваху). С влюбленными обоюдно всё было просто: если родители согласны – засылай сватов. Жених приезжал на выездных санках с родителями и сватами. За стопкой водки обсуждали план бракосочетания – день венчания, где праздновать, кому что покупать. Если же жених был не очень завидный да к тому же из большой семьи, то суженую он искал с помощью сватов чаще подальше от своей деревни. Невеста такого жениха чаще всего была либо из бедной семьи, либо в возрасте, либо с изъяном. Ответ сватам мог быть разный – иные женихи за зиму раза по 3–4 засылали сватов в разные деревни.
Сосватанная девица по обычаю «выла», т. е. как бы плакала в голос, расставаясь с родительской семьей, причем расставание с родными, батюшкой и матушкой, с милыми подругами должно было быть длительным, т. к. послушать «вытьё» приходили женщины и девицы со всей округи. Слушая «вытьё», без дела женщины не сидели: кто вязал, кто прял пряжу. Не надо забывать, что каждое хозяйство сеяло лен, в каждой семье был ткацкий станок, чтобы одевать семью. Венчаться к церкви ехали свадебным поездом: впереди шаферы, затем молодые, потом прочие. Заряженные в легкие санки (кошовки) лошади были украшены – в гриву и в хвосты заплетались разноцветные ленты, под дуги прикреплялись колокольчики, на конях была т. н. «выездная» сбруя. (Позднее, когда венчаться было ехать некуда по причине разорения храмов, свадебным поездом ездили в сельсовет – регистрироваться.) После свадьбы молодую «приводили» в семью мужа
(так и говорили, что такая-то приведена, скажем, из Кочеремова или Антипина). Для свекра она теперь становилась снохой (для свекрови – невесткой). Если у мужа был брат, он приходился ей деверем, а сестра мужа – золовкой. Родители мужа называли теперь родителей молодой жены сватом и сватьей, как и те их. Для молодого мужа брат жены становился шурином, сестра жены – свояченицей, а её брат – свояком (свояками считались и женатые на сестрах).
Где могли встретиться молодые люди, чтобы потом идти по жизни рука об руку? В каждой деревне был свой престольный праздник, привязанный к определенному дню, там и можно было повстречать свою судьбу.
В деревне Якунино это было Преображение Христово (Яблочный Спас) 19 августа, в деревне Демино – Ильин день 2 августа и т. д. В этот день в деревне собиралась родня и друзья со всех окрестных сел, приходили в гости самые дальние родственники. Собиралась молодежь со всей округи вечером праздничного дня. Ходили по улице парами или толпой, танцевали в основном под гармонь, реже под балалайку на площадке посреди деревни, где заранее были сделаны скамьи из досок. При этом чаще всего плясали
«русского» или «цыганочку», но особенно в моде была «костромская кадриль», или, как её называли впоследствии —
«семизарядная». Это групповой танец в семь фигур, танцевать одновременно выходили две пары, причем средняя фигура, т. н. «махоня», предполагала парную пляску (две девушки напротив друг дружки или два парня, или парень с девушкой), при этом ещё в процессе, так сказать, переплясов пелись частушки. Ах, какие это были частушки! Иногда споет танцор такую, что от хохота присутствующих галки на деревьях разлетались. Частушки были иногда и вольного содержания, особенно если в круг выходили подвыпившие женщины, озорные и веселые.
Надо сказать, что праздник не всегда проходил мирно – вдруг вспыхивала драка. Местные ребята, жившие на левобережной стороне р. Неи, испытывали какую-то неприязнь к правобережным (и наоборот). Начинали драку обычно младшие возрастом, а потом, как бы в их защиту, подключались старшие. И вот уже трещат колья огородов и в темной деревне – электричества же не было! – слышны были только свист и крики. Милиции в деревнях не было.
Интересно отметить, что часто и родители хулиганов не видели в драке ничего особенного. Одна благообразная старушка как-то говорила: «Что за праздник без драчи. И вспомнить потом нечего».
Зимние праздники отличались от летних. Здесь уже лавочками на лужайке не обойтись, и девушки деревни брали инициативу. Они находили помещение, мыли полы, обеспечивали освещение, скамейки, музыку, наутро наводили порядок. Такое праздничное мероприятие в теплой избе называлось «беседой». В беседе собиралась молодежь, а посмотреть на неё приходили и местные жители. А как ещё развлекаться? Кино, радио или телевизоров ещё не было.
Уже после войны начали привозить киноленты, и все ходили смотреть кино в клуб (или избу-читальню, если не было клуба). Можно после беседы пообсуждать, кто как одет, кто как выглядит, не засиделась ли в девках та или иная красавица. Потенциальным женихам тоже надо было дать оценку. В 30-х годах XX века женщины ещё ходили на беседу с прялками, т. е. пряли пряжу, а между делом пели хором, танцевали. Ребята щепали лучину для освещения (керосин был дорог, керосиновые лампы появились позже, после войны).
Тогда, после войны, основным развлечением было уже кино в клубе, а после него – танцы. Киномеханик приезжал сначала с динамо-машиной – крутили её желающие парни за бесплатный просмотр фильма, а потом с передвижным
«движком», как называли передвижную электростанцию. В процессе фильма ленты часто рвались, движок внезапно переставал работать, что-то в нем ломалось, но тяга к развлечениям была настолько велика, что публика охотно прощала эти недочеты. Лишь иногда в темноте клубного зала раздавался свист и крики: «Сапожники!..» Почему так ругали киномеханика, неизвестно. Фильм заканчивался, скамейки отодвигались от центра зала, и начинались танцы.
В роли носителей культуры, в том числе и танцевальной, выступали часто учительницы местной семилетней школы.
Танцевали уже вальсы, танго, фокстроты, а также молдаванеску, даже бальные танцы, ну и конечно, когда уходили учительницы, – нашу незабываемую костромскую кадриль с частушками. Мамы и бабушки с удовольствием смотрели на всё это, а затем уходили к вящей радости молодежи, которая начинала чувствовать себя гораздо свободней. Парочками шли потом домой, парни провожали девушек куда-нибудь в соседнюю деревню, иногда за несколько километров.
Все знали, кто с кем «гуляет», обычно относились к этому с пониманием, редко вспыхивали драки по сердечным делам.
Да и девушки были достаточно уверены в себе, плясуньи, хохотуньи, пальца в рот не клади, постоять за себя умели, и если выбирали кого из парней, то четко давали это понять другим претендентам.
Дети школьного возраста, конечно же, ходили в школу. Если наши родители заканчивали 1–3 класса церковно-приходской школы в д. Жуково, то наше поколение, как правило, могло уже получить семилетнее, а то и десятилетнее образование. В близлежащих деревнях была на две-три деревни начальная школа (четыре класса), а в семилетнюю школу надо было ходить за 3–4 километра. Хороших дорог, естественно, не было. По проселочной дороге, иногда по жуткой грязи, в резиновых сапогах, брели будущие Ломоносовы, причем в одиночку не ходили – по лесу же надо было двигаться. Давала мамка с собой бутылку молока да хлеба кусок или картошки. Перекусив в школе, после учебы отправлялась команда домой. Дома, если успевали, засветло делали уроки, а нет, так под коптилку писали: «Мама мыла раму…» и другие ученые тексты. Уставали, конечно, но все понимали – надо учиться, неграмотным дороги в жизни нет.
Из начальной школы, будучи уже постарше, дети поступали в семилетнюю или в десятилетнюю, для этого приходилось переезжать в интернат при школе. Жили и на частных квартирах, и в общежитии. Родители привозили на месяц картошки, крупы, давали немножко денег – много-то ни у кого не было, все были одинаково бедны, особенно после войны. Добирались до школы на поезде – вечером в воскресенье уже приходилось собираться, иногда согласно расписанию местного поезда – в ночь уезжать из дома, чтобы к девяти утра быть на уроке.
Подростки начинали работать рано – в леспромхозах, на сезонных работах, на железной дороге – надо было выживать.
Ещё не забыты были в наших деревнях первая мировая и Гражданская войны, когда грянула Великая Отечественная.
На нашей маленькой станции (железнодорожном разъезде) Монаково, куда семья Николая Николаевича Смирнова переехала из деревни Якунино в 1938 году, был магазин, где продавалась водка и другие продукты. В день начала войны
(а день был солнечный, светлый) толпы молодых, здоровых мужиков из ближайших деревень осадили магазин. Никто не хотел умирать, но понимали многие, что этот праздник для них – последний. И действительно, Ярославская Коммунистическая дивизия, сформированная из этих людей, необученная и недовооруженная, была брошена вскорости на защиту Москвы. Участь её была трагична, она была разбита. На запросы молодых вдов присылали иногда ответы, что такой-то среди убитых и раненых не числится, такая была мясорубка. Все годные для службы в армии мужчины призывались в армию. Остались только работники МТС (машинно-тракторных станций) и железной дороги.
На войне было смертельно опасно, но в тылу (мы жили в 500 км от Москвы) было тоже несладко. По всей стране – голод. Рабочим-железнодорожникам выдавали хлеба по карточкам по 600 граммов на день, служащим – по 500 граммов, детям и иждивенцам – по 150 г. В деревнях и этого не было. Было трудно родителям, особенно в больших семьях, надо было всех обуть, одеть, накормить, а зарплаты были низкие. Отцу нужно было платить налог: требовалось сдать государству 300 л молока за сезон и 40 кг мяса. Иногда приходилось покупать эти продукты, чтобы расплатиться с государством. Весной и летом для возможности прокормить семью надо было работать в огороде, чтобы вырастить картошку и другие овощи. Правда, размеры огорода ограничивались пятнадцатью сотками, при превышении этой нормы резко увеличивался налог. Как было выжить? Сильно выручала кормилица – корова, но чтобы её содержать, требовалось заготовить на неё сено. Покосы отцу выделялись в полосе отвода рядом с железнодорожным полотном. Травы не хватало, приходилось искать лужайки по кустам в лесу, но и это не допускалось: земля была колхозная или госхозная. Так что сено добывалось, как у нас говорили, «воровски».
А ведь его надо было высушить, привезти к дому – а как? (или принести ношами на большие расстояния). Да не дай бог, если кто донесет властям об этом. Заготовка сена в лесу вообще сопряжена с определенными опасностями. Как-то мать напугал огромный лось-одинец, так что она без памяти прибежала домой.
Огород, сенокос и другая работа – все ложилось, в основном, на плечи отца. Он работал на полторы ставки, был путеобходчиком на железной дороге, уходя в стужу и дождь на дежурство осматривать состояние рельсового пути на своем участке. Наш отец на Отечественной войне не был, имея броню железнодорожника. С него, думается, хватило участия в первой мировой и Гражданской войнах. Но и жизнь в тылу в 1941–1945 годы была чрезвычайно тяжела, особенно для многосемейных родителей. И понятно было всеобщее ликование, когда отец ранним весенним утром пришел домой с известием о победе. Он получил медаль, на которой было выбито: «Наше дело правое, мы победили».
Дворяне, бояре, князья весьма чтят свои родословные, досконально знают своих пращуров. На этой почве в допетровские времена цвел пышным цветом институт местничества – государь должен был должности, привилегии, почести воздавать в соответствии со знатностью подданного. Упраздненное официально ещё при Федоре Алексеевиче местничество долго ещё давало о себе знать, оно имело значение.
Что касается крестьянства, то, как это ни прискорбно, память о предках у крестьян как бы не была востребована, поскольку за крестьянскую «родовитость» ни чинов, ни званий крестьянину не давалось, хоть, может быть, его предки на самого Рюрика работали. К тому же в силу неграмотности крестьян записей о крестьянских предках не велось. Память в лучшем случае хранила деда. Прадед уже представлялся совсем туманно, да это и понятно: в крестьянском деле выдающихся событий не происходит – изо дня в день достаточно однообразный труд, различающийся только в соответствии с временем года. До прадедов ли тут?
Однако интерес к крестьянской династии есть, в настоящее время он проявляется всё больше: любознательные, грамотные и эрудированные дети и внуки всё чаще задают вопросы о своих предках. И это хорошо, потому что нация имеет право на жизнь, если она хранит память о пращурах своих, о могилах своих предков. По отцовской линии нашим родоначальником был
Яков, предположительно 1830 года рождения. Жил он при крепостном праве, верил в бога, пахал, сеял и плотничал.
Имя его жены не сохранилось. Известно, что он с сыном Евгением в 1880-х годах посреди деревни Якунино Свиньинской волости Галического уезда Костромской губернии построил дом в два этажа. Дом был «наряжен», как у нас говорили, т. е. обшит досками. Окна в наличниках. Сбоку был пристроен ещё один дом, но он назывался светелкой, печки там не было. Далее была боковая избушка величиной с небольшой дом размерами в плане 4,5 на 6 м, где размещалась русская печь внушительных размеров. Сзади дома был пристроен свинарник, а сбоку двора – конюшня. Дом сохранился до 1950-х годов. Возвратимся к истории нашего пращура – Якова
Смирнова. Семейное предание сохранило ужасную историю, которая с ним приключилась. Зимним днем он поехал на лошади, запряженной в сани, в лес по дрова. Смеркалось, а его всё нет. Потом домой пришла лошадь без хозяина. По следам пошли в лес, и нашли Якова лежащим в крови на снегу, а рядом с ним с перерезанным горлом лежала огромная медведица. С затылка и лица пращура была содрана кожа, т. е. снят как бы скальп. Потерпевшего срочно повезли на санях в Галич, затем в Кострому. Всё кончилось для него относительно благополучно, он остался жив. Из его рассказа следовало, что, выбирая в лесу сухое дерево, он провалился в яму, которая оказалась берлогой медведицы. Выскочивший зверь набросился на крестьянина. Его спас нож, висевший в ножнах на поясе. Ножом он и защищался от матерого зверя. Можно только удивляться его мужеству и силе.
В 1940-х годах в семейных архивах ещё можно было видеть его фотографию до этой трагедии – высокого роста, в поддевке, в яловых сапогах, стриженный «под горшок». После него остались сын Евгений и дочь Анастасия, основную часть жизни прожившие после отмены крепостного права. Тем не менее, видимо, эта отмена прошла не быстро, что явилось причиной того, что Анастасия по воле помещика не смогла выйти замуж. Как гласит семейное предание, помещик захотел выдать её замуж в отдаленной деревне в бедную семью, жених же был ленив и неказист видом. Евгений, увидев будущего жениха сестры, упал в ноги помещику со словами: «Что хочешь, делай, барин, а сестру за этого жениха не отдам!» Ответ был краток: «На конюш-
Генеалогическая таблица рода Смирновых-Угрюмовых
ню! Пятьдесят розог!» Так и осталась Анастасия бобылкой.
Жила в семье брата, по сути, прислугой и домработницей.
После отмены крепостного права большое число крестьян пошло в отходничество, т. е. в город на заработки. Крестьяне из наших деревень уезжали, в основном, в Москву или Питер. Среди них был и наш прадед Евгений Яковлевич, который впоследствии становится в Москве хозяином «Столярно-малярного заведения Е. Я. Смирнова со товарищи», как было указано на печати, одно время демонстрировав-шейся в нашей семье. В «Заведении» (видимо, артели) объединились свои же мужики из Якунина, снимая в столице помещение (как говорили, где-то в Зарядье).
Сезон работы отходников обычно длился со второй половины марта до начала ноября (точнее, до Дмитриева дня – 8 ноября). Вся же работа в оставленном мужчинами доме ложилась на плечи женщин, которые весну, лето и осень занимались сельхозработами, воспитывали детей и делали всё для поддержания хозяйства. Хозяйкой в доме оставалась прабабка Марина (1851–1935), которая вела домашнее хозяйство. Вся крестьянская работа с землей оставалась на сестре прадеда Анастасии и жене сына Николая Серафиме.
Евгений Яковлевич ежегодно возил с собой в Москву и сына Николая, а потом и внуков Колю и Сашу. Первого, видимо, как участника столярно-малярного заведения, а внуки были отданы в Москве в люди. По характеру прадед был строг и властен, в доме процветал домострой. Например, чтобы народ в доме не болтался без дела, он заставлял выбирать горох из овса. Деньгами безоговорочно распоряжался он, и хотя деньги лежали, говорят, на божнице, никто не смел их без его ведома трогать. Говорят, что, когда внуки начинали чересчур шалить, он только поворачивал голову в сторону висевшего на стене ремешка – и шум затихал. Он скончался в 1930 году, оставаясь до последнего часа хозяином в доме. Будучи уже больным, накинул полушубок, надел шапку, валенки, вышел на улицу, обошел свой дом вокруг, вернулся, разделся, лег в постель и умер.
Его сын, Николай Евгеньевич (1870–1916), скончался раньше него, в возрасте около сорока лет. Жена Серафима Ивановна (1875–1943) – ласковая, добрая женщина, по отзывам, не способная кому-либо причинить боль. Великая труженица. Родила Николаю Коленьку и Сашеньку. Женившись по любви, он в жене души не чаял, и жить в ежегодной разлуке по девять месяцев (будучи отходником), не хотел и не мог. Он звал жену ехать с ним в
Москву, где хотел отделиться от отца и открыть свое дело. Евгений же Яковлевич с женой были категорически против отъезда Серафимы из деревни, боясь, что без такой работницы крестьянское хозяйство в деревне рухнет. Старикам было страшно потерять дом, это было всё же прибежище, поскольку пенсий тогда не было, и лишение хозяйства могло сулить непредсказуемые последствия. Царил, как уже отмечалось, домострой, прадед стоял на своем, Серафима боялась нарушить его волю. Это привело к срыву: видимо,
Евгений Яковлевич с внуком Колей
Николай с горя стал выпивать и уже не мог выправиться. Результатом был его ранний уход из жизни. Наш прадед,
Евгений Яковлевич, при прощании с сыном в скорби говорил: «Что же ты, сынок, вперед отца в могилу поспешил?»
Серафима же Ивановна, или, как её звали внуки, баба Сима, прожила ещё около двадцати лет. За всю свою жизнь эта удивительная женщина, вынянчившая почти всех своих внуков, была самой ласковой и доброй матерью и бабушкой. Никто из внуков от неё не получал не только безобидного шлепка, но и плохого слова. При этом вспоминается, что и её дети – Николай Николаевич и Александр Николаевич – никогда не выражались нецензурно, характерной основной чертой каждого из них была доброта, доброе расположение к ближнему. Многое может мать! Много от неё зависит. Не забудем, что на ней в свое время, в основном, держалось всё крепкое крестьянское хозяйство – дом с многочисленными пристройками, пашня, луга для сенокоса, скот крупный и мелкий.
Отец наш – Николай Николаевич (1896–1952) – был первенцем Николая Евгеньевича и Серафимы Ивановны. Учиться ему довелось только 3 года в церковно-приходской школе в деревне Жуково, которую он окончил с похвальным листом. После школы Евгений Яковлевич забрал его в Москву и отдал в учение на приказчика к небогатому оптовому торговцу изделиями из кожи, как тогда говорили – в мальчики. Видимо, это была работа мальчика на побегушках, да и прислуги по дому. В выходные дни мальчик ходил в церковь, а также в гости к деду Евгению, где тот угощал его, по воспоминаниям отца, ситным (белым) хлебом с колбасой. Он вспоминал, как хозяин специально как бы терял на полу монетки, проверяя его честность – отдаст найденное или нет. Вспоминал, как видел приезд царя в Москву. Император ехал в открытой пролетке с Николаевского (теперь Ленинградского) вокзала. Впереди ехало несколько казаков, старший кричал толпе:
«Разойдись!» и «Посторонись!» Государь, приложив руку к фуражке, кланялся публике налево и направо. Сзади пролетки охраны не было.
В годы первой мировой войны, точнее в 1916 году, отец был призван в царскую армию, где и служил рядовым пехотного полка, где-то на Волыни. В революцию 1917 года армия развалилась, и он вернулся домой в деревню, где его уже не чаяли видеть, т. к. письма не доходили – почта не работала. Надо было где-то трудиться, и в апреле 1918 года отец устроился на железную дорогу. Однако Красная Армия нуждалась в бойцах, и вскорости бывший рядовой царской армии
Николай Смирнов стал рядовым Красной Армии. Шла Гражданская война. На Дону продотряды шли за казачьим хлебом, казаки
Николай Смирнов
(крайний слева) в царской армии
сопротивлялись. В одном из таких продотрядов и служил рядовой Смирнов, посланный по мобилизации и получивший винтовку, чтобы стрелять по врагам революции. Мужики, одетые в солдатскую форму, шли пешком, казаки ездили на конях. Одни отбирали хлеб, другие защищали свое добро.
У отца хранилась простреленная в боях фуражка. Чуть бы пониже прицелился казак – и не было бы продолжения этого рассказа. В июне 1921 года солдат вернулся домой живой – бог спас. Снова пошел на железную дорогу, где и работал до своей кончины в 1952 году. Это был небольшой разъезд Монаково в 3 километрах от деревни Якунино. Туда и переехала наша семья в 1938 году – в дом рядом с лесом, носившим название Ворохобино. В родовом гнезде – в деревне Якунино – осталась семья брата – Александра Николаевича (1900–1946), тоже, как отмечалось ранее, взятого в былые времена (после окончания трехлетней церковно-приходской школы) дедом Евгением в Москву для обучения ремеслу – столярно-малярному делу. Будучи призван в 1920 году в Красную Армию, воевал с басмачами, стал красным командиром – командовал ротой. После тяжелого ранения вернулся в родную деревню, где через несколько лет началась коллективизация.
Александр был избран председателем колхоза, затем по состоянию здоровья работал председателем ревизионной комиссии и бухгалтером. Рана давала о себе знать, и в возрасте сорока с небольшим он ушел из жизни.
О братьях – Николае и Александре – в те годы окрестные жители отзывались очень уважительно. Грамотные, долго жившие в столице, они достаточно заметно отличались от окружающих в деревне своей интеллигентностью, начитанностью, способностью ладить с людьми (сейчас бы сказали – толерантностью), были практически непьющими, трудолюбивыми и ответственными. Однолюбы. Дети их любили за уравновешенность и доброту.
Нельзя не сказать о женах двух братьев. Елизавета Ивановна (1903–1990), жена Николая Николаевича, наша мать, была выдана замуж в 18-летнем возрасте, в 1922 году. Время было тяжелое, особых гуляний не было, были смотрины и сватанье, а затем свадьба. Поскольку в то время действовал сухой закон, на свадьбе, как рассказывала мать, пили только бражку.
Муж уже считался в возрасте (26 лет!), прошел две войны и хотел мира, покоя, тишины в кругу семьи. Так они и жили вместе ровно 30 лет, нажили пятерых детей. Другого богатства бог не дал.
Получившие только начальное образование родители старались выучить своих детей.
Трое младших после окончания школы были отправлены в Питер учиться дальше, старший сын сам позднее окончил техникум. Только старшая дочь Соня
Николай Николаевич, Елизавета Ивановна и их старшая дочь Соня
(1924 года рождения), самая способная, не могла этого сделать —
с юных лет вынуждена была работать, чтобы в тяжелое довоенное, военное и послевоенное время семья смогла выжить. Так уж вышло, что её жизненная дорога оказалась связанной с торговлей в сельских магазинах. (Эти магазины – сельмаги – ещё ждут своего писателя, значение их огромно не только для обеспечения населения продуктами питания и ширпотреба. Это были центры общения людей, где можно было узнать все новости, выработать, так сказать, общественное мнение по какому-либо вопросу или по какой-либо конкретной персоне. И это общественное мнение, будьте уверены, играло свою роль! К примеру, многие девушки не считают сейчас грехом закурить как в одиночестве, так и прилюдно. В те же годы это было позором, и только самые отпетые девицы, которым терять было нечего, могли себе позволить затянуться папироской. Общественное мнение было таким: раз она курит, значит, пьет, раз пьет, значит, «гуляет». Короче, закурившая девица автоматически причислялась к девкам легкого поведения.)
Софии Николаевне пришлось работать в торговых точках сельпо (сельского потребительского общества), иногда отдаленных от родительского дома. В одной из деревень, расположенной на реке Шуя, она после войны встретила своего суженого – демобилизованного солдата, прошедшего всю войну, Василия Клушина, вместе они вырастили трех сыновей.
…Воспитание пятерых детей (а всех надо накормить, обуть, одеть) было для Елизаветы Ивановны и Николая Николаевича нелегкой задачей. За все труды от Родины мать получила медаль «Материнская слава», давали её тогда при пятерых детях. Больше, правда, особой помощи не было. Мать шила, ухаживала за скотиной (была же корова, овца, теленок), активно участвовала в сенокосе и огороде. Картошка, капуста, морковь, брюква с огорода – всё, что выручало нас в те годы, ну и, конечно же, кормилица – корова. Дети в семье, как и все их сверстники, помогали в семье как могли – пасли скот, работали в огороде, на покосах. Старший сын, Александр, например, ежедневно относил по бидону молока на молокозавод за 5 километров (это был налог). Налог (кроме молока) составлял в войну 1200 рублей в год при зарплате отца 225 рублей. В сумму налога не входила плата за 40 кг мяса, которое также надо было ежегодно сдавать государству. Дети росли в трудах и заботах, и за всем этим стояла мать. Взять хоть сенокосную пору. На отведенном отцу как железнодорожнику участке надо было рано утром траву косить, сушить, затем идти домой, где мать готовила завтрак, придя с покоса. Затем надо было опять идти на покос – ворочать и сгребать сено. Потом приходил с работы отец, надо было метать стог, мать стояла наверху, отец подавал вилами ей сено. А на улице лето, ватага сверстников плескалась в прудах (у нас их называют «бочагами»), и никак к воде не убежать. Зато слышен ласковый голос всё понимающей матери, со словами, что надо потерпеть, что зимой будет легче. Жена второго брата (Александра Николаевича) – Софья Александровна (1904–1990), рано овдовев и имея пятерых детей, в годы войны и послевоенные тяжелые годы смогла выстоять, устроить жизнь семьи только благодаря своему мужеству и неиссякаемому оптимизму. Семьи двух братьев жили дружно, хотя в 1931 году пришлось разделиться (дед Евгений уже умер), но все равно жили в одном доме, под одной крышей – коридор был общий.
Внуки были под присмотром одной бабушки – бабы Симы. Для детей Николая Николаевича Софья Александровна была кокой Соней (а Александр Николаевич – кокой Саней, видимо, сказались, угро-финские корни этих понятий).
Она имела добрый нрав, была приветливой и покладистой и даже дома никогда голоса не повышала, хотя дети есть дети, их проказы могут кого хочешь вывести из равновесия. А её нет! За это, видимо, бог дал ей долгую жизнь, нельзя сказать счастливую, но всё это поколение счастливым не назовешь – столько испытаний ему выпало. Взять хоть коку
Соню – после смерти мужа как жить с тремя малолетними детишками (двое уже были постарше – сын Борис в армии, дочь работала в сельпо)? В колхозе на трудодни можно было заработать только «палочку» в книжке колхозника. Уму непостижимо, но выжила и ребят вырастила. Одна, без скончавшегося мужа, без твердого заработка.
Или случай в войну, в зиму 1943 года. Объявлена мобилизация 17-летних мальчишек. А в стране голод. Щуплая от недоедания надежда Отечества нашего грузится в теплушки и направляется для прохождения курса молодого бойца под Вятку, где были построены землянки. В числе солдат был сын коки Сони Борис. Из писем бойцов стало ясно, что они недоедают, устают и вообще на грани отчаяния. Матери стали собираться в дорогу, чтобы хоть как-нибудь подкормить мальчишек. Среди них – кока Соня. На попутных поездах они стали добираться к своим сыночкам. А железная дорога работала в военном режиме: когда, куда пойдет поезд, не знал никто (военная тайна!). О пассажирских поездах нечего было и думать, вагоны были большей частью переделаны в санитарный транспорт. Но матери добрались до места назначения, ибо нет преград материнской любви. Следует заметить, что, когда уже в конце войны Бориса ранили, он в госпитале лежал тоже на Вятке, в городе Котельнич, бывшем уделе князей Галических. (Борис, кстати, посвятил жизнь защите Отечества и получил звание полковника.) В предыдущем изложении говорилось о родственниках со стороны нашего отца – Николая Николаевича. Не менее интересным кажется родственный крестьянский клан со стороны матери – Елизаветы Ивановны, в девичестве Угрюмовой.
Родоначальником здесь считается Угрюмов Роман Семенович, который, отслужив отечеству 25 лет в военной службе, явился к помещику (проживавшему где-то за Галическим озером) и был пожалован владельцем земель в нашей округе участком земли и лесом, располагавшимся возле деревни Демино, в нашей округе. Женат он был тогда или холост, или потом женился – неизвестно, известно лишь, что у Романа и Надежды (так звали его жену) родилось
2 сына – Николай и Иван – и 5 дочерей. У Николая было 10 детей, у Ивана – 9. Первая жена Ивана – Анна Осиповна, родила ему 5 детей (Александра, Людмилу, Надежду, Елизавету, Екатерину), вторая – Александра Васильевна – ещё 4 (Анатолия, Софью, Александру, Леонида). У дочерей в общей сложности родилось в последующем 14 детей.
Сыновья Романа Семеновича жили в Демине, дочери были выданы замуж в окрестные деревни – Извал, Цыбаково, Кочеремово, Якунино. Вот такой клан Угрюмовых появился в Лесном Заволжье с легкой руки Романа Семеновича. Старший его сын – Иван Романович, наш дед со стороны матери, роста был высокого, богатырского телосложения, с голубыми глазами и широкой бородой, достигавшей чуть не до живота. Вспоминается, что ходил он прямо, не сутулясь, используя на старости лет можжевеловую палку. Дед Иван, следует полагать, вряд ли помнил всех своих внуков, которых родилось великое множество: у Александра – 2, у старшей дочери Людмилы – 3, у Надежды – 5, у Елизаветы – 5, у Екатерины – 5, у Анатолия – 8, у Софьи – 1, у Леонида – 2. Зато бабушка Александра помнила всех внуков: встретит, расспросит, накормит, расскажет деду Ивану, кто есть кто из внучат, чей внук пришел и откуда, поскольку внучата, в основном, жили в соседних селах.
Дед всю жизнь трудился для семьи. Остался вдовцом с пятью детишками мал мала меньше. Пришлось жениться ещё раз, бог дал ещё четверых детей. Первая жена, наша бабушка Надежда Осиповна, скончалась рано от заражения крови: занимаясь какой-то работой по хозяйству, порезала палец на руке. Не принятые вовремя меры привели к гангрене, необходимостью стала ампутация руки. Однако бабушка ответила, что в крестьянстве без руки при малых детях жить нельзя, пройдет, бог даст. Но гангрена прогрессировала, и бабушка скончалась. Вторая жена деда, бабушка Александра, вступила в брак с Иваном Романовичем, имеющим 5 детей (старшему 15 лет, младшей 3 года). Была небольшого роста, неугомонная, деятельная. В престольный праздник (для деревни Демино – это Ильин день, в августе) за праздничный стол садилось большое число близких родственников, в основном, детей деда Ивана. Второй волной гостей были внуки, там уже хозяйкой стола была бабушка Александра. Она потчевала внуков пирогами, киселями и прочими вкусными вещами, едва успевая за быстро жующими юными гостями.
При большом количестве дочерей дед Иван должен был всех их нарядить, дать приданое для замужества – без того девке позор. Будучи плотником, он построил большой дом, размещенный вдоль дороги, так что можно было видеть всех проходящих. Посреди дома – веранда. В нашей местности дома строили высокими, т. е. с подполом высотой около 2 метров. Так же была построена и веранда – высоко над землей, в виде полукруга из стекла с незаметными переплетами окон. В веранде было много света и возможность обзора деревни. Дед был мастером своего дела.
Надо сказать, что при наличии соснового превосходного леса крестьянские избы строились, как говорится, всерьез и надолго. Бревна ошкуривались, просушивались, после чего мужики (как правило, весьма квалифицированные плотники), помолясь богу, приступали к делу. Обычно изба включала две части – жилую и примыкавшую к ней хозяйственную, где находился крупный рогатый скот, а на «повити» – (помещении над хлевом) хранилось сено и инвентарь, необходимый в хозяйстве. Сено доставлялось на повить по съезду (лошадь въезжала с возом сена прямо к месту выгрузки).
Жилая часть включала прихожую («куть»), основное помещение («зало») и кухню, размещаемую за «переборкой» (так называлась перегородка между кухней и «залом»). Значительную часть помещения занимала огромная русская печь из кирпича. Хозяйка варила там еду для семьи и, естественно, для домашней живности – теленка, поросенка, коровы, кур и т. д. С раннего утра в печи жарилось, варилось, пеклось. Горшки (у нас звали чугуны) разных размеров, ухваты, противни и прочий нехитрый инвентарь были в умелых руках хозяйки орудиями труда, позволяющими готовить самые разнообразные кушанья. Помнится, в праздник гостям выставлялись в качестве первого блюда щи из капусты мясные, лапша с мясом, студень с квасом, окрошка, а потом, как водится, картошка с мясом в нескольких видах, крупники с маслом или молоком, творожники, блины и оладьи, кисели и т. д., ну и, конечно же, пироги. Пироги были гордостью хозяйки, каких их только не было! На праздник хозяева ничего не жалели. Бывало, весь год постепенно запасают продукты, чтобы в праздник не ударить лицом в грязь. Надо сказать, наши места отличаются удивительным гостеприимством – может, и не ахти какие припасы есть в доме, но считалось зазорным гостя отпустить «от пустого стола». Чаю да нальет хозяйка!
Однако вернемся к русской печи. Большая и всегда горячая, она нагревала помещение и к тому же была лучшим лекарем от всякой хворобы: кашель ли у тебя, насморк ли, температура ли поднялась – ночь полежишь на печи, и как огурец – болезнь прошла, и при этом никакой химии лекарственной, которая одно лечит, а другое калечит.
На печи, бывало, спали старые да малые. Ребята среднего, школьного возраста спали зимой на полатях (это настилы из досок над «кутью»). Летом часто молодежь спала либо на сеновалах, либо в летних постройках при доме (кладовках).
Летняя передислокация объясняется просто, – чтоб родители не знали, когда сынок придет с вечерних танцев или других гуляний.
В «зале», как входишь, справа напротив входа, —
«красный угол» с божницей, в этом же углу устраивались широкие скамьи буквой «Г», закрепленные навсегда, и большой стол, за которым трапезничала семья. Интересно, что первую тарелку подавали главе семьи – кормильцу.
Дети при этом под его строгим взглядом шуметь и баловаться не осмеливались, иначе и из-за стола можно было
«вылететь», не евши. Случаи с разговорами детей на тему «Я этого не хочу» или «Я этого не люблю», столь характерные для деток современных, не припоминаются. Аппетит у детей природы был всегда отменный. Чай пили, конечно же, из сверкающего самовара, который ставился на стол после основных блюд. Заварка готовилась в специальном чайнике, пакетиков с заваркой тогда не было. Не было и моды насыпать заварку в отдельные чашки. Чай пили с вареньем или с сахаром вприкуску. При этом соблюдался «домостроевский» обычай – первую чашку наливали главе семьи, все прочие могли это делать только потом. Никто против такого порядка не возражал – было повсеместно принято подчеркивать права родителя, поскольку именно он обеспечивал семью, на него ложились обязанности по поддержанию порядка. В этой связи иногда только головой качаешь, слыша множество примеров неуважения к старикам, такого раньше не было в наших местах. Нарушается заповедь «Чти отца своего…», и приводит это к самым неблагоприятным последствиям, проявляющимся, прежде всего, в последующем неуважении собственных детей, очень зорко наблюдающих взаимоотношения в семье и переносящих подмеченное на дальнейшую жизнь.
Дед Иван просто бы не понял, как может быть непослушным сын, равно как дочь или внук, как сын может выйти из отцовской воли. Не принято это было – перечить отцу. Только сумятицей революционных событий можно объяснить, что старший сын его – Александр Иванович – уехал из родных краев навсегда, в 40-е годы прошлого века оказавшись на Украине. Известно, что у него было двое детей, что они пережили немецкую оккупацию – и всё.
Старшая дочь Ивана Романовича Людмила Ивановна, 1897 года рождения, была выдана замуж за Михаила Бойцова, который, как и большинство мужчин нашего края, был отходником и имел редкую для нашей местности специальность маляра-художника. Работая в столице, сошелся с большевиками, проводил в наших краях революционную работу. До хрипоты спорил со старшим сыном деда Ивана, Александром Ивановичем, который, видимо, имел другую точку зрения на революцию. Людмила Ивановна рассказывала, что
Михаил и спал с наганом под подушкой, поскольку опасался – и не без основания – за свою жизнь в связи с угрозами местных противников революционных процессов. Погиб он, будучи комиссаром, под Царицыным в Гражданскую войну.
Осталось трое детей, старушка мать и жена Людмила Ивановна. Жили они в старом маленьком доме. Решила с отцом – дедом Иваном – строить новый дом: сыновья подрастали, дочь была на выданье. Из леса, который когда-то достался деду в наследство от Романа Семеновича, заготовили бревна и перевезли их в Новиково, где жила семья тети Людмилы.
Дом был построен с непосредственным её участием. Тетя Людмила помогала отцу и в работе с бревнами, и крышу дранкой крыть. Дом стоял на возвышенности, окнами на реку. Весной
21 мая в Николин день (престольный праздник в Новикове) тетя Людмила обязательно угощала гостей пирогами с рыбой, для чего в узком месте реки ею ставилась мережка, сплетенная из прутьев ивы.
Старший сын её Михаил был лучшим трактористом машинно-тракторной станции (МТС), дочь Валентина вышла замуж и уехала в Ленинград, а младший сын Борис погиб в войну.
Вторая дочь Ивана Романовича – Надежда – была кроткой, тихогласной, терпеливой женщиной. Вышла замуж по любви за крестьянина из соседней деревни Якунино Александра Скороспелова, добрейшего и работящего мужа. У них родилось 5 детей. Старшая только что вышла замуж, две другие учились в школе, а ещё две – были дошкольницами, когда случилось несчастье с их отцом – возвращаясь домой вечером со станции Лопарево по железнодорожному пути, он был сбит паровозом. Была метель, он шел с поднятым воротником полушубка и не услышал паровоза, вынырнувшего из-за поворота. Оставшись с пятью девчонками, которых надо было кормить, обувать, одевать, учить – где она брала силы?.. При этом надо было работать в колхозе, где заработка практически не было. Отечество «оплачивало» колхозный труд трудоднями («палочками»), на которые никого не накормишь. Многострадальная женщина, сколько она вынесла и как вырастила дочек? А они выросли вопреки всему, впоследствии вышли замуж за хороших людей, трое из них уехали в Ленинград, нарожали детишек и жили, как говорится, не хуже других. По сути, выше описаны события, которые произошли примерно в течение 100 лет – с середины XIX по середину XX века. Далеко не обо всех достойных людях здесь сказано. Крестьянский клан Смирновых-Угрюмовых настолько разросся, что описать судьбы наших родственников, проживающих, кстати, как в России, так и за рубежом, нет никакой возможности.
Осенью 2008 года одному из авторов этих записок довелось побывать на малой родине, там, где жили люди, о которых шла речь выше. Надо было со станции Антропово Северной железной дороги, что примерно в 40 километрах от Галича, попасть в Антушево, где находится Софийская церковь и кладбище при ней. Мы доехали до д. Шувакино, дальше дорога была непроезжая и 6 километров мы шли пешком. Лет 5 назад, помнится, мы без особых приключений совершили такой же поход, но сейчас ситуация заметно изменилась. Во-первых, лесная дорога заросла подлеском так, что пройти по ней было непростое дело. Во-вторых, попутные деревни больше не существовали. Более того, можно было в самой бывшей деревне заблудиться и уйти куда-то: большие травы, кусты, лес – чапыжник – вот что представляет теперь деревня. Антушево, когда-то село в сотню дворов, отличающееся большими полями, лугами и красавицей церковью на краю деревни, куда-то пропало: поля заросли подлеском, от бревенчатых пятистенных домов остались где стена, где развалины построек. Церковную стену пересекла вертикальная трещина в
5 сантиметров, церковь заросла лесом, растущим прямо у стен. Полов, потолков, крыши уже нет.
Кладбище как после бурелома: на крестах – поваленные деревья, ограды поломаны. Ходят, видимо, сюда люди чрезвычайно редко – дороги нет.
Мы, сняв шапки, смотрели на это запустение и небрежение по отношению к могилам предков. Что стало с ранее густонаселенным краем, который превратился в лесную пустыню? Можно перечислить деревни, в которых уже никто не живет или доживают 1–2 человека – им некуда податься. Это знакомые нам Якунино, Демино, Филино, Волково, Антушево, Стопник, Дор и многие, многие другие.
По лесной дороге, где мы шли, мои спутники постоянно показывали мне следы. Началось с того, что я, шагая по дороге к кладбищу, удивился, что вот, смотрите-ка, следы коровы. Ответ был – коров тут давным-давно нет, это лосиха с лосенком, а вот тут следы медведя, а вот там маленькие – это уже медвежонок гулял по дороге, а вот здесь дикие кабаны землю рыли.
Всё, видимо, возвращается на круги своя: земля с её пашнями и лугами, когда-то отвоеванными нашими предками у природы, снова приходит в первозданное состояние, в котором её застали первые славяне. А что, не так?
Глава 4. Лесная наша сторона (поэтическое приложение)
Обезлюдели наши деревни
- Обезлюдели наши деревни,
- Заросли лебедой да бурьяном…
- Дедов дом, что купался в сирени,
- Скособочился весь – будто пьяный.
- Не сдается, стоит пятистенок,
- Как солдат, что страдает от раны,
- Но не хочет упасть на колени,
- Будто плачет в разбитые рамы.
- В этом доме любили, страдали,
- Целовались, детишек рожали,
- Ну, а в праздник с роднею гуляли
- Так, что стены у дома дрожали.
- И работали – трудно и много —
- На полоске мужик с лошаденкой,
- А жена, проводив его с богом,
- Торопилась на кухню с ребенком.
- А в избе дед строгал, бабка шила,
- Дочки в поле картошку рыхлили,
- Ребятня за грибами спешила…
- Ну, а вечером чай вместе пили.
- Немудрёно и просто все было,
- Почему все ушло, все забылось?..
- А в ответ застонали стропила,
- Крыша с грохотом внутрь провалилась.
09.12.2005
Мое дорогое Лесное Заволжье
- Мое дорогое Лесное Заволжье,
- Мои перелески, леса и поля…
- Всегда ты со мной, ни на что не похожая,
- И святая, и грешная костромская земля!
- Ты в Смутное время всю Россию спасала,
- Сама же осталась на задворках лесных.
- Печали и беды ты вином заливала,
- Лишь на бога надеясь да на помощь святых.
- На память приходят деревеньки лесные,
- Якунино, Демино… Где вы сейчас?
- Там пели гармони, мы гуляли хмельные
- На праздник престольный – на Яблочный Спас.
- Потом я уехал в далекие дали:
- Нас город позвал, нас к себе потянул.
- Там прожили жизнь, там детей воспитали,
- И вот на закате я к тебе заглянул.
- Прости нас, родное Лесное Заволжье,
- Молиться готов я на каждый твой пень!..
- Прости, что не смог я всё сделать, что должен,
- Чтоб не было плача твоих деревень.
- Немало столетий тобой будет пройдено,
- И пусть нас не будет в тех столетьях седых —
- Молюсь за тебя я, моя малая родина,
- Ведь спят мои деды на погостах твоих…
2005
Пускай цветет моя роща зеленая…
- Мы собрались нашу встречу отпраздновать,
- Мы собрались, чтоб друг друга обнять,
- Мы собрались – непохожие, разные,
- Мы собрались – и хочу я сейчас пожелать:
- Пускай цветет моя роща зеленая,
- Пускай березки и липы цветут,
- Пускай в той роще гуляют влюбленные,
- Пускай соловьи для них песни поют.
- Пускай минуют нас беды и горести,
- Пускай смех детей чаще радует нас,
- Пускай не встретимся в жизни мы с подлостью,
- Пускай будет добрым для нас каждый час.
- Пускай всегда будет милая родина,
- Пускай люди будут добрей и умней,
- Пускай все помнят, что родиной пройдено,
- Пускай помнит Русь всех, кто думал о ней.
- Пускай цветет моя роща зеленая,
- Пускай березки и липы цветут,
- Пускай в той роще гуляют влюбленные,
- Пускай соловьи для них песни поют.
Март 2006
В дороге
- По селу мчит «Тойота», минуя
- Синих, желтых домов череду.
- На крылечко девчонка вспорхнула,
