Депрессия: проклятие или шанс?
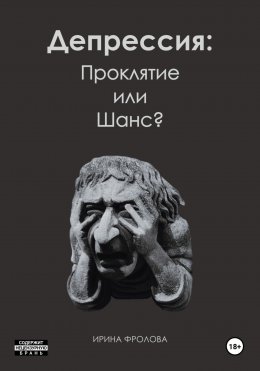
Введение
Депрессию называют чумой XXI века. И не только потому, что она стремительно распространяется по миру, но и потому, что она, как и чума, передается от человека к человеку. Современное лечение антидепрессантами, к сожалению, не решает проблемы, так как воздействует на следствие, а не на причину. Основная идея этой книги заключается в том, что ни врач, ни психолог, ни целитель не смогут помочь человеку, если он сам будет пассивным участником лечебного процесса. А как стать активным участником, когда голову от подушки поднимать не хочется, когда от тревоги залезаешь под одеяло и хочется только одного: заснуть и не проснуться.
Все так. И не так. Организм в депрессии все-таки дышит, ест, пьет и даже потеет. Значит, живет. А пока живет – надеется. Вот к этой надежде я и буду адресоваться, тем более что мне есть что сказать страдающему человеку. Я сама прошла через тяжелый эпизод депрессии и справилась с ним без таблеток. Это был не легкий и не быстрый путь. Но результат стоит того. Я не только избавилась от депрессии совсем, но и кардинально поменяла жизнь, а именно: окружение, профессию, интересы и место жительства.
В отличие от многочисленных клиентских книжек, в которых люди делятся своим опытом преодоления болезней, я подошла к этому вопросу более обстоятельно. По первому образованию я врач, по второму – психолог, по третьему – философ. Поэтому я попытаюсь рассмотреть такой феномен, как депрессия, с четырех точек зрения: с точки зрения врача, психолога, философа и, собственно, клиента. И, как это часто бывает, все эти точки зрения по многим вопросам не совпадают. Например, в вопросе причины врачи ее видят в нарушении выработки серотонина, дофамина и прочих биологических жидкостей. Психологи видят причину в потере смысла (В. Франкл). Философы (В. Руднев) говорят, что депрессия – это потеря любимого объекта, а именно матери. И, наконец, четвертая точка зрения – моя личная: причиной депрессии является психическая травма, а точнее, совершенно конкретное событие, случившееся в детстве, которое потрясло и «сломало» психику.
Такая разноголосица во взгляде на депрессию говорит о том, что этот феномен недостаточно изучен. Антидепрессанты, которые изобретены 70 лет назад, так и остаются главным средством лечения депрессии. Хотя есть работы, которые говорят, что они не вылечивают и даже, что особенно тревожно, не предотвращают суицид. Все, что они могут – это немного успокоить человека, снять страх и тревогу ненадолго, но от суицида не спасут. Хотя в настоящее время существует целая армия психологов, психотерапевтов и аналитиков, но абсолютное большинство людей со своей бедой идут к врачам, получают из их рук таблетки и считают, что это и есть лечение. Это очень глубокое заблуждение, но оно укоренилось только потому, что нет ничего другого. Психотерапия помогает не всегда, к тому же это дорого и долго.
Причина, на мой взгляд, в том, что депрессия – это не проблема мышления, а проблема веры. Человек глубоко верит, что он неудачник (дурак, урод, чудовище). А вера, как известно, иррациональна и логическим аргументам не подчиняется. Поэтому зачастую разговорная терапия психологов малоэффективна. Слова не доходят до корня депрессии, до корня доходят чувства. А вот каким образом это происходит, я и расскажу в этой книге.
Я встретилась со своей депрессией в 57 лет. Более легкие эпизоды были и раньше, но мне удавалось что-то слегка поменять в жизни (развестись с мужем или поменять место работы), и депрессия уходила. Но в 2015 году я «влетела» по полной. Обострение длилось год. Я думала, что иду к смерти, но оказалось – к жизни. В четвертой главе я опишу это подробно. К психиатрам я принципиально не пошла. Сама врач и знаю, что таблетки не лечат. Психологи тоже испугались моего состояния, так что я вылазила сама. Мне помог Юнг и его фраза о том, что депрессия – это «дама в черном». Надо не прогонять ее, а пригласить к столу и выслушать, что она тебе скажет. Я так и сделала.
Это был нелегкий путь, но я его прошла и уверена, что другие тоже смогут пройти. В пятой главе я постаралась обосновать, почему. Я использовала для доказательства множество научных текстов, но старалась излагать их простым, бытовым языком.
Однажды, много лет тому назад, я зашла в книжный магазин, чтобы купить какой-то медицинский справочник. Просматривая книги на полке, я обратила внимание на две книжки, стоящие рядом. Одна называлась «Как жить с диабетом», а вторая – «Как вылечить диабет». Я была поражена. Одно заболевание, но какие разные подходы: ты либо смиряешься с болезнью и приспосабливаешься к ней, либо отказываешься от нее. Собственно, в нашей жизни мы встречаем эти два подхода повсеместно: смириться или бороться, подстроиться под ситуацию или изменить ее, слиться с толпой или заявить свое «Я». Оба подхода необходимы в определенных ситуациях. Главное – не перепутать, когда что уместно.
С депрессией то же самое. Либо ты смиряешься с ней, приспосабливаешься и худо-бедно живешь. Либо ты решительно выступаешь против своего убогого существования и меняешь его. Я пошла вторым путем. Он, к сожалению, мало изучен наукой, хотя прекрасно описан в мифах и сказках. Это путь Героя. В сказках и мифах путь главного героя всегда идет через смерть. Она не пугает героя, поскольку он оснащен всем необходимым, чтобы с ней встретиться и победить. Так и больной депрессией встречается в остром периоде этой болезни со смертью. И, несмотря на всю тяжесть состояния, он, тем не менее, «обречен» на победу, поскольку оснащен большей, чем у простого обывателя, силой духа. Подробнее об этом будет в пятой главе.
Я постаралась в этой книге представить как научный взгляд на депрессию (2 глава), так и свой личный опыт встречи с ней (1,3,4 главы). В книге много ссылок на научные труды известных ученых. Я использовала их цитаты в качестве доказательства своих идей. Если язык науки кажется тяжеловатым, то вторую главу можно пропустить. Она в основном описывает многообразие научных подходов в изучении депрессии. Остальные главы более биографичны.
Я не разбираю здесь случаи появления депрессии, возникшей вследствие соматических заболеваний (гипотиреоз, онкология и т. д.), а также по причине заболеваний мозга (инсульт, опухоль мозга и т. д.). Я сконцентрировалась исключительно на случаях психогенной депрессии, которая неожиданно сваливается на нормального вроде бы человека и выбивает его из колеи. Моя цель – дать информацию, что не все так безнадежно, безвыходно и ужасно. Все можно выдержать, если знаешь, что у твоего страдания есть смысл. В восьмой главе я его подробно раскрою.
Информация в главе «Лечение» состоит как из моих профессиональных знаний, так и из моего опыта борьбы с ней. Она, несомненно, не охватывает все пути выхода из депрессии, поскольку способов лечения очень много, каждый должен выбрать свой. Я поделюсь своим способом. Может быть, он кому-нибудь поможет.
Глава 1. Моя история
Все мы родом из детства. Оно как фундамент у здания: заложишь крепкий – появится здание МГУ, заложишь кривой – вырастет Пизанская башня. Миф о том, что детство – самый счастливый период жизни, давно развеян психологами и статистикой. Процент детский суицидов растет год от года. Не всем детям везет прожить детство с достаточно хорошей матерью или с достаточно хорошим отцом. Однако и не все дети при этом становятся психически больными. Есть множество факторов, которые формируют жизненный путь человека. Частично эти факторы зависят от самого человека, частично – нет. Но в целом судьба – дело рукотворное, поэтому ее можно изменить в разумных пределах. Я, по крайней мере, попыталась это сделать и у меня получилось.
В этой главе я расскажу о своем жизненном пути до 57 лет, когда произошел эпизод тяжелой депрессии. О нем будут отдельные главы. И начну, как и полагается, с родителей, потому что мои корни растут от них. Я их «росток».
Отец
Ему было десять лет, когда случилась эта трагедия. Они с его отцом (Федором) возвращались с охоты. Уже почти дошли до деревни, когда этому Федору приспичило заскочить к кому-то на огонек (подозреваю, что к любовнице, так как он тот еще был ходок). Он отправляет сына домой одного, дает ему заряженное ружье и предупреждает, чтобы тот сразу, как придет в дом, повесил его на крюк дулом вверх, чтобы оно, не дай бог, не выстрелило. Мальчик идет домой. В доме с порога его увлекает какими-то картинками пришедшая в гости тетка. Ребенок, забыв обо всем, бросает ружье на лавку, оно от сотрясения выстреливает, пуля попадает в его сестру, которая в это время сидела за столом и ела кашу. Пуля прошила ей бедро. Девочке было три года. Ее родители (мои бабушка Надя и дед Федор) не смогли отвезти ее в больницу, так как был апрель месяц, Самарка разлилась, и единственная дорога в город была под водой. Дед три дня долбил какое-то бревно, пытаясь сделать лодку, но не успел. Девочка умерла. Рана у нее не была смертельной. Ребенок просто истек кровью. Ее звали Ниной.
Почему он не мог найти лодку во всей деревне, осталось неясным. Хотя, почему неясным? Стыдно было перед соседями. Ведь спросят: «А ты где был? Зачем сыну ружье доверил и даже не разрядил? Куда так сильно торопился?» Поэтому эту историю постарались поскорее забыть, рассказывали про нее неохотно и как-то противоречиво. И эта разноголосица еще раз убедила меня в том, что на вопрос «Кто виноват?» не было четкого ответа. А значит, этот десятилетний мальчик все взял на себя.
Следом родили другого ребенка, тоже девочку и назвали ее Ниной. Как будто ничего и не случилось. Судьба этой Нины была трагичной. Ее дочь Наташа покончила жизнь самоубийством, оставив дочку, которая родилась умственно отсталой. Сама Нина умерла в шестьдесят три года от какой-то неизвестной болезни. У нее отказали ноги, она год лежала в параличе и потихоньку угасала. Я помню, что мой отец ездил к ней почти каждый день и таскал ее на себе, понуждая ходить. Вся родня удивлялась его энтузиазму. У Нины и муж был, и двое взрослых детей. Однако он ездил и ездил. Не помогло. Сам умер раньше нее. У него была доброкачественная опухоль простаты. Сделали операцию успешно, но он зачем-то напился аспирина, хотя его ему не прописывали. Открылось желудочное кровотечение от какой-то слепой язвы, его просмотрели, и он умер во сне в палате. На секции два литра крови в животе. Фактически истек кровью.
Откуда взялась эта язва, тогда никто и не понял.
Мой отец женился поздно, где-то в тридцать четыре года. Он воевал, потом пять лет служил в Германии, потом учился в институте, а потом его познакомили с моей матерью. Той тоже было за тридцать. Вроде взрослые люди, а начудили столько глупостей.
Они не любили друг друга, это было заметно. Но я хорошо помню, что в раннем детстве я очень жалела отца, хотя не понимала, почему. У него были какие-то грустные глаза. Много позже я узнала, что у него до моей матери была другая женщина, с которой он встречался пять лет. И звали ее Ниной. Он ее неожиданно оставил, так как его родители нашли ему невесту городскую, которая в своем доме жила. Сам-то он жил в общежитии, вот и польстился. Через месяц хотел сбежать. Но опять же родня удержала. Так вот с нелюбимой и прожил девятнадцать лет. Потом, правда, нашел в себе силы уйти и прожить последние пятнадцать лет довольно счастливо с другой женщиной. Но судьба его все-таки настигла. И мне кажется, не потому, что «на роду написано», а потому, что не разобрался с той давней ситуацией: ни с первой Ниной, ни со второй. Так и прожил жизнь с чувством вины, которое его в конце концов и погубило.
Мне было три года, когда начались эти «игры» с отцом. Мать часто дежурила по ночам (она была врачом), и мы с отцом оставались дома одни. Отец раздевался и просил раздеться меня, начинались всякие «дотрагивания» и поцелуи, «прижимания и потирания». Он мастурбировал при мне и просил его поцеловать «там». Мы проводили ночь вместе, спали в одной кровати. И я это все воспринимала как норму, как любовь моего отца. У меня эти воспоминания даже в памяти сохранились, потому что ни боли, ни страха не было. Для меня это было забавной игрой. Позже, уже работая с психологом, я видела эротические сцены с отцом в своих снах.
Для меня, трех-четырехлетней, это были именно игры. Ничего болезненного я не помню. Помню, что папа был очень довольный, он был мне благодарен. Ничего подобного я не видела от своей матери. Она была холодной и отстраненной. А тут столько тепла, радости, игры. И только много позже, прочитав гору литературы, я поняла, что этот его «импринт», этот отпечаток, эта логика, что «игра есть близость, а значит, любовь», собьет меня с пути в отношениях с мужчинами. Гораздо позже я поняла, что близость – это не игра, это открытое сердце и желание отдать, а не взять. То, что делал отец, как я сейчас это вижу, он показал мне пример, как мужчина использует женщину (в этой игре я была женщиной) для собственного удовольствия. И назвал это любовью. А я поверила. И всю дальнейшую жизнь верила этим играм мужчин вместо близости.
Нас с ним или застукала мать, или она забеременела моей сестрой и сидела дома, но игры вдруг резко прекратились. Я недоумевала: «Как же так? Почему? Это так весело и интересно!» Отец, естественно, ничего объяснять не стал, но я помню, что лет десять после этих игр я каждый Новый год к вечеру наряжалась в костюм, как бы сейчас сказали, шлюхи, и садилась за новогодний стол напротив отца, завлекая его своими прелестями. Он смеялся, хлопал меня по попке, а про себя думал: «Все бабы – шлюхи». Как-то он даже это проговорил вслух.
Его сестра, тетя Валя, мне недавно рассказала, что его Нина, с которой он встречался до свадьбы с моей матерью, была очень улыбчивая, открытая и добрая. «Прямо как ты», – вырвалось у нее. А у меня в голове мелькнула мысль, что мой отец из меня, скорее всего, и «сделал» себе Нину. Я чем-то была на нее похожа, а он грустил без нее. С моей матерью секс у него не сложился, а вот со мной сложился. Изменять моей матери открыто он не решился, он нашел замену любовнице в своей семье: удобно, дешево и безопасно.
Он, конечно, был негодяем, но как говорил Ф. Рузвельт: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Так и я не чувствую особой ярости в адрес отца. Он был моим «сукиным сыном». Наверное, я как мать Тереза, жалею убогих и нищих духом, и в свои три года почувствовала его печаль и вину за убийство сестры. И сейчас я его жалею и все ему простила, чего не скажу о матери. Ее я ненавижу до сих пор.
Мать
Моя мать была красавицей. Это как будто про нее Пушкин писал:
- «Правду молвить, молодица уж и впрямь была царица
- Высока, стройна, бела. И умом, и всем взяла.
- Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива».
Ей было тридцать два года, когда она вышла замуж. Довольно поздно по тем временам. Но я родилась ровно через девять месяцев после свадьбы. Она назвала меня Ирой. Никаких Ир в роду не было, имя пришло ей спонтанно. После родов молока у матери не было. Совсем. Поэтому меня кормили из бутылочки. Позже не было молока и для моей сестры. Мать не хотела нас кормить. Или молока было жалко. Не знаю. Оставить младенца без молока в дикой природе означает смерть младенца. Возможно, неосознанно она нашей смерти и хотела, но внешне все было как у людей: кормила, поила, одевала, заботилась. Лет в пятьдесят, помню, я ее спросила: «Какой я была в детстве?» Мать задумалась минуты на две, а потом сказала: «Послушной». Это все, что она запомнила, и все, что хотела – послушания. Эта ее цель – сделать из меня послушный механизм, стала впоследствии моей программой.
Из ее детства я знаю, что родилась она пятым ребенком в большой крепкой семье зажиточного крестьянина. Было время НЭПа, и ее отец раскрутился на выпечке и продаже хлеба. В его магазин за хлебом приезжали со всего уезда. До матери в семье родилось три девочки и один мальчик. И к огромной боли отца единственный наследник умер в три года от какой-то инфекции. Мою мать родили, надеясь на рождение мальчика, а родилась она и, вероятно, «поймала» это огромное разочарование от родителей. Росла она замкнутой, слегка аутичной, не играла с детьми, мало разговаривала. Когда ей было пять лет, семью раскулачили и собирались выселить на Север. В ночь перед выселением ее отец, мой дед Андрей, подхватил всю семью и, бросив нажитое хозяйство и дом, убежал в город, где схоронился на еврейском кладбище, работая смотрителем. Там же он построил дом и развел хозяйство: гуси, утки, поросята. Этим и кормились.
Мать часто говорила мне, какого стыда она набралась в школьные годы, когда ее дразнили: «Машка с кладбищ!» Жить на кладбище было позорно, и этот позор она не могла простить отцу. Тот, работая день и ночь, заработал ей на учебу в медицинском институте. Лечебный факультет она бы не потянула, так как училась слабо. Он отдал ее на Санитарный и платил все пять лет учебы. В 1949 году она закончила учебу и уехала по распределению в Забайкалье. Но по приезду в Читу выяснилось, что санитарный врач им не нужен, а нужен гинеколог. Ее за два месяца научили делать операции, и это ей понравилось. Понравилось резать людей, видеть их беспомощность и зависимость. Не зря психологи говорят, что у сорока процентов хирургов присутствует садистический радикал. Они режут людей с наслаждением.
Вернувшись в Самару, она отучилась в ординатуре. И чтобы переоформить диплом с санитарного врача на акушера-гинеколога, ей надо было съездить на неделю в Москву. В это время ее отец заболел сепсисом. Антибиотиков тогда еще не было, лечили сульфаниламидами, да и тех не хватало. Мать могла бы их достать. Отец просил ее не уезжать и помочь ему, но она не захотела и уехала. Через три дня отец умер. Наверное, она чувствовала вину за то, что бросила его в таком состоянии. Но как я позже поняла, это была месть за унижение и стыд, который она пережила, живя на кладбище.
Ее сестра, моя тетя Люба, рассказала мне одну историю.
Когда матери было около сорока лет, они с тетей Любой поехали получить благословение от старца, живущего в скиту где-то в Горьковской области. Они обе зашли в низенькую избушку, в которой жил старец, и тот, как только их увидел, отшатнулся и, указывая на мать, закричал: «Убийца! Убийца!» Мать испугалась и выскочила из скита. Больше ни к каким старцам она не ездила. Как я поняла позже, эти слова «убийца» относились не только к истории с ее отцом. Убивать и испытывать удовольствие от убийства было ядром ее натуры. Приехав от старца, мать сняла со стены портрет ее отца, который висел в нашем доме. Он «колол» ей глаза, поэтому лучше «с глаз долой». Принять правду о себе матери было невыносимо, каяться она не умела, хоть и была внешне очень религиозной. Избавившись от портрета, она избавилась и от чувства вины. Мать постаралась внедрить его в меня, и это ей удалось.
Оглядываясь на ее жизнь, я с удивлением вспоминаю, что в ее доме никогда не было ни цветов, ни домашних питомцев. У нее не было ни одной подруги, никогда не было никаких дней рождений и посиделок. Она за всю жизнь не прочитала ни одной книги, за исключением Евангелие. И даже я не помню ни одного случая, чтобы мать плакала. Как будто бы ее мало что трогало и волновало по жизни. Она была полностью удовлетворена своей одинокой жизнью. Моя сестра сбежала от нее замуж в Москву и общалась с ней только по телефону. Отец ушел от нее к другой женщине. Он называл ее барыней за то, что она всегда ходила, задрав нос, и не просила, а приказывала домашним, что делать по дому. Она прожила до девяноста лет, тридцать из которых жила одна. Выйдя на пенсию в шестьдесят три года, она еще почти тридцать лет проработала в церкви, продавая просвирки.
Религиозность в ней обострилась где-то к сорока годам. Мать стала часто ездить в церковь, а после шестидесяти так каждый день. Церковь для нее была как наркотик. Она ездила туда к шести утра через весь город почти тридцать лет. Я ее как-то спросила: «Зачем?» Она ответила, растягивая слова: «Де-е-ень-ги!» Ей платили три копейки там. Навряд ли это был главный мотив. Однажды я пришла к ней в церковь по какому-то делу. Она сидела в каморке под лестницей, торговала просвирками. Каморка была застеклена, и окошечко для передачи денег находилось очень низко, так что человеку приходилось наклоняться, перегнувшись пополам, чтобы просунуть деньги в окошечко и что-нибудь спросить. Со стороны это выглядело так, как будто люди кланяются моей матери и дают ей деньги. Вот это и был главный мотив – получить поклонение.
Под этой лестницей она и просидела почти тридцать лет. Здесь она получала власть над безутешными людьми, пришедшими сюда, как правило, в горе и несчастье. Тут она расправляла плечи и указывала им, что им делать, могла и нагрубить. Убитые горем люди все ей прощали. Она потому и прожила девяносто лет, что умела находить беспомощных людей и управлять ими. Я была для нее таким беспомощным существом, которым она управляла пятьдесят лет. Как ей это удалось? Ответ на этот вопрос я нашла намного позже.
Мои отношения с ней были трудными для меня и легкими для нее. Я была ее ковриком, о который она вытирала ноги. Даже после моего замужества она приходила в мой дом и находила, за что меня критиковать. Я у нее была неумехой, глупенькой, нищенкой. Глядя на меня, она разочарованно вздыхала и говорила: «Бедная Ирочка!» Я у нее всегда была бедной, несчастной, никчемной дочерью. Она меня жалела, при этом совершенно не помогая. Зато любила дать мне понять, насколько она выше меня, а я просто неудачница и мизинца ее не стою.
Я до пятидесяти семи лет была убеждена, что она где-то права. Я действительно была не сильно аккуратной, с двумя детьми и мужем математиком я зашивалась без помощи. Девяностые годы съели все накопления, мы еле-еле сводили концы с концами. Есть, за что нас упрекнуть. Но мои дети! Им тоже не досталось ее любви. Как понять, что все их детские годы бабушка ни разу не взяла их к себе в гости даже на день, ни разу не съездила с ними, если не на море, то хотя бы в деревню или на турбазу, ни разу не испекла им пирожков и ни разу не догадалась дать денег на мороженое. И не скажу, что это из-за жадности. Просто ей в голову не приходило, что дети получат радость от ее поступка. Она была абсолютно бесчувственной к чужим желаниям. На мой взгляд, у нее не работала какая-то часть мозга, которая отвечает за эмпатию. Эти самые зеркальные нейроны либо вообще отсутствовали, либо были заблокированы.
Я вспоминаю, как однажды, когда ей уже было за семьдесят, она мне рассказала одну историю, которой очень гордилась. Это было много лет назад. Она сидела со мной трехмесячной дома, когда за ней приехала скорая из роддома, чтобы ее отвезти на работу, поскольку там серьезный случай, и они собирали всех акушеров, которых смогли найти. Мать завернула меня в пеленки и понесла к соседке, чтобы та со мною посидела. А у соседки гости на пороге, ей не до нас, полно работы, и она отказалась. Но мать буквально бросила меня ей на руки и убежала. И вот она про это мне рассказывает, вся взволнованная и раскрасневшаяся, а в конце с гордостью заключает: «Вот какая я была смелая!» Я впадаю в ступор. У меня в голове только одна мысль: «А как же ребенок? Как он это пережил? Не налила ли ему соседка водочки, чтобы он ее не тревожил?» Моей матери это даже в голову не пришло. Она гордится своей находчивостью, как избавилась от ребенка и убежала на работу.
Но даже не это больше всего меня поразило, а то, что она, прожив жизнь, по-прежнему собой гордится. Она за семьдесят лет жизни так и не набралась сочувствия и любви, чтобы осудить себя за тот давний поступок. Все мамы, и я в том числе, бывают жестоки с детьми. Но с возрастом мы чувствуем стыд за такое поведение, судим себя и уж тем более не хвастаемся. А тут она ждет восхищения от меня, от той, которую она бросила в руки чужому человеку и даже не поинтересовалась, как я это пережила.
В течение всей жизни с ней я получала вот такие факты безразличия, презрения, бесконечных отговорок, что на меня и моих детей у нее нет времени, или она больна, или работает. Я все это сносила покорно, спокойно. И только «квартирный вопрос» заставил меня, наконец, понять, что меня не просто не любят, меня гнобят и желают мне зла.
У сестры матери, тети Любы, не было наследников, и она хотела подарить свою квартиру мне. Но к ней пришла мать и отговорила, сказав, что Ира – аферистка и ей нельзя доверять. Чуть позже мать подарила свою квартиру моей сестре, хотя той досталась квартира от отца. Таким образом, мать лишила меня наследства. И это нельзя было объяснить просто ее холодным характером. Я, наконец, задумалась над вопросом: «А друг ли мне мать?» Пришла к ней разбираться и получила ответ: «Не твое дело, кому я квартиру отписываю». Значит, когда она несколько раз лежала в больнице, то бегать, контролировать лечение и таскать ей бульончик в судке было моим делом. Когда ей назначали уколы амбулаторно, то ездить к ней два раза в день две недели колоть ей антибиотики было моим делом. Когда она теряла ключи или трость, то бегать по магазинам и разруливать эти проблемы было моим делом. А получить наследство – значит, не мое дело. Наверное, это было чересчур даже для «коврика».
Я разорвала с ней всякие отношения. Думала, она одумается и покается, но увы. Она нажаловалась на меня моей сестре, и та забрала ее. Правда, не к себе в Москву, а купила однушку в Серпухове и туда ее переселила. Долго она там не прожила. Через год умерла. За два месяца до смерти у нее обострилась паранойя, она стала баррикадировать дверь, так что сестре пришлось пару раз вызывать МЧС, чтобы войти в квартиру. Сестра позже мне рассказала, что мать боялась, что я приеду и убью ее. Она запретила сестре давать мне ее адрес и даже телефон.
Хоронила ее моя сестра одна. Ни одного родственника не позвали. Я поехала, но меня не дождались, похоронили по-быстрому. Я съездила на могилу на следующий год. Что я могла ей сказать? Она была больным человеком, теперь-то я это точно знаю. Паранойя, которая у нее развилась, как раз это доказывает. Ко мне у нее было пристрастное отношение, поскольку у меня было то, чего не было у нее – душа. Я умела любить, а она нет. Поэтому, как в сказке «Муха цокотуха», она решила «меня съесть». И ей это почти удалось. К счастью, я вовремя одумалась, а точнее задумалась над вопросами: «Почему я так живу? Что со мной не так? Есть ли способ это исправить?» Когда я нашла ответы на эти вопросы, жизнь переменилась.
Моя жизнь до 57 лет
До шести лет я была относительно здоровым ребенком. Относительно, потому что была слишком тихой. Я старалась быть незаметной, интуитивно чувствуя, что матери моя активность не нравится. Самое первое мое воспоминание: мне два с половиной года, я на кухне встаю на стульчик и декламирую «Муху-Цокотуху». Выучила ее мгновенно, услышав один раз. Память была феноменальной, плюс декламировала я ее с выражением. Однако тетя Люба, старшая сестра матери, мне потом рассказывала, что мать после таких моих выступлений всегда кричала на меня и наказывала по пустякам, так что даже тетя Люба ей говорила: «Что ж ты так кричишь на нее, она же ребенок». Но, вероятно, мать несло. Что-то во мне ей очень не нравилось, поэтому я быстро перестала выступать и как бы затаилась.
Еще одна картинка из моего детства. Мне где-то три-четыре года. Мы в деревне уезжаем и прощаемся с родней, высыпавшей на улицу нас провожать. Мать всех приглашает в гости, поскольку мы городские и могли бы приютить деревенских, если они в город приедут. Она ко всем подошла и лично пригласила. Но одну восемнадцатилетнюю девушку не заметила. Это была двоюродная сестра матери – Нина. Я в свои три года почувствовала ее боль и обиду за то, что про нее забыли. Подбежала к ней, обхватила ее коленки, так как росточком только до коленок и была, и сказала: «И ты приезжай, голубушка». Все засмеялись, а Нина заплакала. Это было так трогательно: трехлетний ребенок пожалел взрослую девушку, бросился на помощь и даже слово нашел необычное: голубушка. В этом поступке была вся я: добрая, заботливая, чуткая, любящая. Недаром моей любимой сказкой была «Муха-Цокотуха». Я была от природы такой «мухой» – доброй, заботливой, готовой всех накормить и напоить.
Еще одно воспоминание. Мне пять лет, я в детском саду. Зима, идет мелкий снежок. Мы на прогулке, и наша группа строится парами, чтобы вернуться в детский сад. Я подхожу к воспитательнице и говорю: «Я хочу стоять в первой паре». Голос у меня был, вероятно, уверенный и твердый, от чего воспитательница решила, что это, пожалуй, наглость, и поставила меня в последнюю пару. Я надулась, но возражать не стала. Дошли до сада, вся группа зашла в здание, а я осталась на крыльце. Минут тридцать стояла, уже вся запорошенная снегом, когда в саду хватились пропажи, и испуганная воспитательница выскочила на крыльцо. Увидев меня, она обрушила на меня весь свой гнев. Позже вызвали мою мать и вместе с директором устроили мне обструкцию. Не помню, чтобы я плакала. Но я поняла, что «первой» меня тут не потерпят.
Позже, уже в шесть лет, моя мать «не потерпела» и моей душевности. Она меня до смерти напугала, отправив в больницу на операцию. Решила, что у меня перитонит. Никакого перитонита, естественно, не было. Меня зря разрезали и зря напугали. Хотя для матери, может быть, и не зря. После операции я стала совсем другим человеком – тихой, забитой девочкой без своего «Я». Это мать очень устроило. Через много лет она мне призналась: «Ты всегда делала то, что я хотела». В ее голосе звучала гордость. Она гордилась тем, что сломала мне «хребет» и пятьдесят лет вытирала об меня ноги.
После операции я превратилась в зомби: «что воля, что неволя – все равно». В школе я училась хорошо, но весь материал брала зубрежкой. Память стала плохой, поэтому уроки делала допоздна и очень уставала. Мать отдала меня в музыкальную школу. Музыку я любила, а школу нет. Но все-таки ее закончила. После школы пошла в медицинский, поскольку этого хотела моя мать. Позже выбрала себе мужа, какого хотела мать. Родила двух детей и дочь назвала ее именем, надеясь ей угодить. Но все мои жертвы были зря. Мать относилась ко мне пренебрежительно. Ни мое увлечение гомеопатией, ни даже выигранный грант на учебную поездку в Австрию не изменили у матери ничего. Я была для нее вещью. Иногда полезной, а чаще нет.
В 1991 году, с началом рынка в России, я совершенно интуитивно выбрала пройти курс обучения гомеопатией, чтобы потом работать в частной клинике. Училась в Москве у ведущих гомеопатов страны и впитала этот холистический подход – все приобретенное лечится. Через двадцать лет работы гомеопатом поняла, что не все. Хроническое заболевание у взрослого невозможно вылечить, если не изменить его мышление. Значит, нужна психотерапия. Еще десять лет ушло на изучение психологии. Училась по книжкам и семинарам, а также прослушала курс по психоанализу в нашем медицинском университете.
В сорок лет мне поставили онкологический диагноз. Это было ожидаемо, поскольку с шести лет я имитировала жизнь, а не жила. Я прогибалась под мать, мужа, начальников, будучи уверенной, что они сильнее меня, а я «пыль у их ног». То, что какая-то часть меня не хотела с этим согласиться, ничего не меняло. Думать о себе я могла как угодно: что я умная, образованная, талантливая. Это в уме, а в поведении – зависимая, трусливая, неадекватная. Карьера, естественно, не задалась. Я ушла из стационара в частную клинику, но клиентов было мало, и я еле сводила концы с концами.
А тут еще и рак. Слава богу, только начальная стадия. Будучи, по крайней мере, грамотным врачом, я понимала, что рак – это психосоматика, поэтому пошла не к хирургам, а к психотерапевту. Не сразу, но нашла «своего». Это был ведущий психотерапевт нашего города Покрасс Михаил Львович. Он сразу понял, в чем дело (не в раке, конечно, а в моей «бесхребетности») и обрушил на меня ушат упреков и гнева. Это «лечение гневом» было своего рода ядотерапией, где об меня вытирали ноги, «раздевали догола, валяли в перьях и возили по городу» на обозрение всем. Терапия была групповой, так что зрителей хватало.
Я настолько была ошарашена, что просто глотала эти упреки, запивая их собственными слезами и болью. Длился этот «садизм» три года. Раз в неделю была группа и один-два раза в месяц двадцатичетырехчасовые марафоны. Выхода у меня все равно не было, умирать не хотелось, и я все терпела. Через три года появились судороги в ноге, но рак ушел. Доктор выгнал меня из кабинета. Подобно тому, как птицы выбрасывают птенцов из гнезда: теперь сам, сам, сам.
Ну я и начала жить своим умом. Сначала, согласно своей внутренней программе, стала искать спасителя, желая заменить плохую мать на хорошего мужа (с плохим мужем я к тому времени уже развелась). Зарегистрировалась на иностранном брачном сайте, поездила по заграницам, пытаясь найти мужа. Нашла. Но!!! Оказалось, что теперь я не хочу быть «ковриком». Вот раньше была согласна, а теперь нет. Поэтому проект с замужеством пришлось закрыть. Любви нет, а отдаваться за возможность жить за границей я не хотела. Появилась гордость.
Затем пришла идея продать свою квартиру и вложить деньги в строящийся в Бирмингеме (Англия) отель, купив там одну комнату. Обещали пятнадцать процентов годовых. Идея рискованная, но у меня была какая-то нереальная вера в эту заграницу, что там дольщиков не кидают. Оказалось, кидают. И я потеряла и деньги, и квартиру. Вот тут-то все и началось. С этими поездками по заграницам я потеряла свою работу, плюс срок моего медицинского сертификата давно истек, а без него на работу не берут. В итоге я оказалась без денег, без работы и без квартиры.
Была осень 2015 года. Мне было 57 лет. Потерять все в таком возрасте означало полный «писец».
Моя дочь купила на свои деньги крошечную комнату в общежитии, куда я переехала, уже и не надеясь когда-нибудь из нее выбраться. Общежитие было как в песне у Высоцкого: «Система коридорная: на тридцать восемь комнаток – всего одна уборная». Еще осень как-то пережила, хватило летних ресурсов. Но по мере того, как день убывал и солнца становилось все меньше и меньше, состояние ухудшалось. Развилась полная картина тяжелой депрессии: я перестала есть, спать, выходить на улицу. Я лежала в постели, свернувшись клубочком, и тряслась от страха. Что меня ждет? Смерть? Психушка? Куда бежать и что делать? Сил хватало только, чтобы раз в неделю сходить в магазин и сварить себе макароны. Слава богу, что была пенсия. На макароны хватало.
Вес стремительно падал и дошел до 51 кг (с моих 65). Я обратилась к психологу юнгианской ориентации. Юнгу я свято верила. Его фразу я написала на листке и повесила над столом. «Депрессия – это дама в черном. Не стоит ее прогонять, а стоит пригласить к столу и выслушать, что она тебе скажет». Поэтому никаких психиатров я в принципе не рассматривала. Я решила ждать, что скажет «дама в черном».
Психолог поначалу вроде бы помогала мне, страх на несколько часов уходил, но вскоре стал возвращаться прямо на приеме. И где-то на третьем месяце терапии мой психолог послала меня… к психиатру. Ее пугала моя худоба. Поэтому она посоветовала мне сесть на таблетки. Я поняла, что опыта у нее по лечению депрессии без таблеток нет. А значит, она мне не помощник. Придется вылезать самой. Или, как я написала у себя в дневнике: «Оставалось одно – пропадать!».
Глава 2. Депрессия
Депрессия с точки зрения медицины
Сделаю небольшое отступление от своей истории, чтобы дать краткое представление о том, что такое депрессия глазами разных специалистов. Начну с медицины.
Слово «депрессия» происходит от латинского deprimo, что означает «давить». Давление испытывает прежде всего душа человека, поэтому депрессию издревле относили к душевным заболеваниям. Угнетённое, подавленное и тоскливое настроение, снижение или утрата работоспособности, длящееся несколько месяцев, заставило ученых отнести такое состояние к разряду болезни.
Депрессия до ХХ века называлась меланхолией. Она была хорошо известна еще врачам античности. Они объясняли ее возникновение, исходя из гуморальной теории, согласно которой любое заболевание возникает, если нарушен обмен четырех жидкостей: крови, мокроты, желтой желчи и черной желчи. Последняя и является причиной меланхолии. Собственно, сам термин «меланхолия» переводится как «черная желчь» (melon – черная, chole – желчь). Именно недостаток или избыток этой желчи вызывает чувства грусти, подавленности или ярости.
Данный взгляд на меланхолию продержался до XVII века. В средние века, в связи с распространением христианства, «черная желчь» начинает ассоциироваться с первородным грехом, а значит, больной меланхолией человек стал восприниматься грешником, который грешил против Святого духа.
С развитием наук, с накоплением эмпирического материала о роли эмоций в развитии подавленного настроения взгляд на данное состояние стал меняться. В XIX веке меланхолия окончательно признается заболеванием и меняет название. В 1845 году В. Гризингер предложил термин «депрессия».
В настоящее время депрессия – наиболее распространённое психическое расстройство. Им страдает каждый десятый в возрасте старше сорока лет, две трети из них – женщины. Среди лиц старше шестидесяти пяти лет депрессия встречается в три раза чаще. Общая распространённость депрессии в юношеском возрасте составляет от 15 до 40 %[1].
Во многих работах подчёркивается, что большей распространённости аффективных расстройств в этом возрасте соответствует и бо́льшая частота суицидов[2].
В книге Джонатана Садовски «Империя депрессии» приводятся свежие данные. «По данным ВОЗ во всем мире насчитывается более трехсот миллионов людей, страдающих депрессией; с 2005 по 2015 годы их число выросло на восемнадцать процентов»[3]. По самым достоверным оценкам, от 5 до 20 % людей в какой-то момент своей жизни страдают глубокой, вызывающей потерю трудоспособности депрессией[4].
Различают униполярную депрессию (депрессию без маниакальной фазы), биполярную депрессию (когда идет чередование депрессии и маниакала) и большое депрессивное расстройство.
DSM-5 предписывает ставить диагноз БДР (большое депрессивное расстройство), если хотя бы пять из девяти симптомов сохраняются в течение двух недель. Вот эти девять симптомов:
1. Подавленное настроение большую часть дня, почти ежедневно.
2. Ощутимое уменьшение интереса или удовольствия от всех или почти всех видов ежедневной активности.
3. Значительная потеря веса без диет или набор веса; отсутствие аппетита или чрезмерный аппетит почти каждый день.
4. Изменение количества сна в течение дня – слишком мало или слишком много.
5. Замедление мышления и уменьшение физической активности (наблюдаемые другими, а не просто субъективные), ощущения беспокойства или заторможенности.
6. Усталость и упадок сил почти каждый день.
7. Чувство собственной никчемности или чрезмерной и незаслуженной вины почти каждый день.
8. Снижение способности к умственной деятельности и концентрации, а также нерешительность, присутствующие почти каждый день.
9. Постоянные мысли о смерти, суицидальные размышления без четкого плана, попытка самоубийства или конкретный план свести счеты с жизнью[5].
К сожалению, в психиатрии нет ни одного объективного критерия депрессии. «Специфического физиологического мозгового маркера депрессии до сих пор не обнаружено»[6]. Диагноз ставится исключительно на основании слов пациента. А это значит, симулировать депрессию очень легко, как, впрочем, и шизофрению. Садовски вспоминает печально известный эксперимент Дэвида Розенхана. В 1973 году психолог Дэвид Розенхан и его студенты притворились сумасшедшими и обратились в психиатрическую больницу. Всем был поставлен диагноз «шизофрения», и все были госпитализированы. На основе только придуманных жалоб им была с легкостью диагностирована шизофрения и назначена чрезвычайно тяжелая терапия. Этот эксперимент доказал, что диагноз в психиатрии не имеет никакой доказательно базы[7].
В настоящее время не существует ясного понимания нейробиологических причин клинической депрессии (большого депрессивного расстройства). В научной среде на этот счёт есть ряд гипотез, ни одна из которых пока не получила убедительных доказательств. Моноаминовая теория связывает развитие депрессии с дефицитом биогенных аминов, а именно серотонина, норадреналина и дофамина[8]. Однако она не объясняет низкую эффективность антидепрессантов и медленное развитие их лечебного эффекта[9].
Надо сказать откровенно, что хотя серотониновая гипотеза широко распространена, строгих подтверждений этой гипотезы нет. Систематический «зонтичный» обзор, данные которого были опубликованы в Molecular Psychiatry [англ. ] в 2022 году, показал, что доказательства связи между уровнем серотонина и депрессией отсутствуют[10].
В лечении депрессии основными лекарственными препаратами являются антидепрессанты. В теории они должны оказывать влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина. Самое интересное, что никто не знает, что они действительно повышают или понижают. Их применение основано лишь на опыте их использования. То есть опытным путем сначала на мышах, а потом на людях ученые выявили сдвиги в настроении при применении некоторых лекарств.
Так, в 50-е годы ученые испытывали изониазид (лекарство от туберкулеза) и заметили улучшение настроения у пациентов. Каким образом этот препарат повышал настроение, до сих пор неизвестно. Но его все-таки стали применять в качестве антидепрессанта. Вскоре на его основе синтезировали много других антидепрессантов. В 1960-х годах появились селективные ингибиторы моноаминоксидазы, а также селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Эти препараты были менее токсичными и давали меньше побочных эффектов. Однако, что же они меняют в организме, так и остается неясным.
Существует масса работ, в которых ученые оценивают эффективность действия антидепрессантов. Поскольку львиную долю этих исследований финансируют фармацевтические компании, то ничего удивительного, что публикуются только исследования, в которых выявлен положительный эффект, в то время как бездействие препарата или его побочные действия утаиваются.
Но появляется все больше исследований, которые выявляют серьезные последствия приема антидепрессантов. Так, исследования показали, что многие антидепрессанты могут увеличить вероятность суицида в первые месяцы терапии, особенно у детей и подростков[11].
В 2018 году проведено исследование, в котором учёные обнаружили, что риск попыток самоубийства был в два с половиной раза больше в группе, принимавшей антидепрессанты, по сравнению с плацебо: 206 попыток самоубийства и 37 самоубийств в группе антидепрессантов против 28 попыток самоубийства и 4 самоубийств в группе плацебо[12]. К побочным эффектам антидепрессантов относится также развитие психоза[13].
Петер Гётше, профессор Копенгагенского университета, отмечал также, что в исследованиях, финансируемых фармацевтической промышленностью, занижаются данные о смертности людей, принимающих антидепрессанты. Основываясь на рандомизированных исследованиях, включённых в метаанализ ста тысяч пациентов, Гётше подсчитал, что люди, принимающие антидепрессанты, по-видимому, в 15 раз чаще совершают самоубийства, чем сообщалось FDA[14].
В июне 2019 года Майкл Хенгартнер (Цюрих, Швейцария) и Мартин Плодерль (Зальцбург, Австрия) опубликовали в журнале «Психотерапия и психосоматика» анализ, основанный на отчётах по побочным эффектам и осложнениям из архива Управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Расчёт показывает: на 100 тысяч пациентов приём антидепрессантов приведёт к дополнительным 495 случаям самоубийства или к суицидальным попыткам. Hengartner и Plöderl приходят к заключению, что «антидепрессанты значительно увеличивают риск самоубийства у взрослых с клинической депрессией»[15].
Исследователь из Голландии Кирш обратил внимание и на тот факт, что некоторые препараты, не являющиеся антидепрессантами (опиаты, седативные средства, стимуляторы, растительные лекарственные средства и др.), оказывают при депрессии такое же действие, как и антидепрессанты[16].
Существует масса работ, в которых эффект действия антидепрессантов находится на уровне плацебо. «Большая часть опубликованных результатов испытаний показывает, что действие антидепрессантов превосходит действие плацебо, но ненамного, а в некоторых случаях не превосходит»[17]. Плацебо – это пустышка, которую пациент принимает под видом лекарства, но не знает об этом. У него в тридцати процентах случаев наступает улучшение, хотя лекарства в пустышке нет. Там мел или сахар, а эффект объясняется самовнушением. Так вот, у антидепрессантов отмечен положительный эффект в 30–40 процентах случаев, что практически на уровне такой «пустышки». Значит, эффект от применения антидепрессантов во много является результатом самовнушения.
В 2008 году был проведён анализ (Turner и соавторы) как опубликованных, так и неопубликованных исследований действия 12-ти антидепрессантов. Ученые выяснили, что исследования с отрицательными или сомнительными результатами оказались по преимуществу либо не опубликованными (22 исследования), либо опубликованными с искажением результатов, в результате чего они представали как позитивные (11 исследований)[18].
Есть так же информация, что один из стрелков в школе Колумбайн пил антидепрессанты. И есть версия, что именно их прием спровоцировал его агрессивность и желание убить детей в школе.
Я сконцентрировала внимание на этой неприятной информации вовсе не потому, что я непримиримая противница лекарственной терапии. В тяжелых случаях она необходима. Меня удручает, что об этих фактах вам не расскажет ни психиатр, ни фармацевт, ни журналист в СМИ. О побочных эффектах очень кратко можно прочитать в аннотации. А вот о подтасовках в исследованиях, о повышении риска суицида вы никогда не узнаете, если сами не полезете в интернет. Об этом стараются умалчивать. Я как врач знаю, что хирурги перед операцией с каждого пациента берут расписку, что он предупрежден о последствиях. Человек берет на себя ответственность за риски. Мне очень жаль, что такого не происходит в психиатрии. Абсолютное большинство пациентов получает антидепрессант не в стационаре, а амбулаторно. Они вполне в состоянии ознакомиться со всей необходимой информацией и взять (или не взять) риски на себя.
У меня сейчас на лечении находится семидесятилетняя пациентка с жалобами на приступы сердцебиения. Ей полгода назад хирурги предложили операцию на сердце с целью блокады водителя сердечного ритма, но честно предупредили, что вероятность излечения 40 процентов. Она порылась в интернете, «потусовалась» на форумах и пришла к решению отказаться от операции и искать альтернативные методы лечения. Выбрала гомеопатию, и мы с ней за полгода уменьшили число приступов на 50 процентов.
В этой истории самым важным является честность хирургов, благодаря которой пациент получает мотив искать другие пути лечения. Если бы психиатры делали то же самое, честно предупреждали бы больного, что эффект от препаратов на уровне плацебо (30–40 %), то этим самым они бы стимулировали его активность в поисках альтернативной помощи себе. Я не говорю здесь о критических случаях, когда больной готов совершить суицид. Здесь терапия уместна. Но моя дочь, например, лечится уже год у психиатра. У нее нет суицидальной наклонности, но врач по-прежнему уверяет ее, что таблетки ей необходимы. На мой взгляд, это ложь не во спасение.
Можно, конечно, оправдать психиатров тем, что кроме антидепрессантов наука за семьдесят лет не придумала ничего нового, выбор лечения в психиатрии очень небольшой. Но, на мой взгляд, эра антидепрессантов будет длится долго еще и потому, что это дешево и «лениво» как для врача, так и для пациента. Как пишет Д. Садовски, когнитивно-поведенческая терапия и «Прозак» (самый популярный антидепрессант) отлично вписались в лечебные схемы, поскольку их применение не требовало глубокой проработки внутренних проблем, легко вписывалось в условия медицинского страхования и прекрасно проверялось при помощи клинических испытаний, которые, «как мы узнаем далее, оказались небезупречны»[19].
Д. Садовски делает неутешительный вывод: «Многообещающие достижения второй половины XX века так и не дотянули до уровня, на который все рассчитывали: ни в генетике, ни в науке о мозге, ни в разработке лекарств не было достигнуто никаких прорывов».
Депрессия с точки зрения нейронаук
Нейрофизиологи видят причину депрессии в нарушении работы лимбической системы. Она располагается между стволом мозга и корой. Ствол мозга еще называют рептильным мозгом, поскольку он как у человека, так и у животных отвечает за работу жизненно важных органов, таких как сердце, легкие, иммунная система. Кора – самое молодое приобретение человека и занимает лишь порядка тридцати процентов внутреннего пространства черепной коробки. Рациональный мозг (кора) отвечает за сознание и сосредоточен на мире вокруг нас. Его интересует, как устроены вещи и люди, он определяет их смысл, управляет нашим временем, упорядочивает наши действия.
Лимбическая система относится к среднему мозгу. Развитие этой части мозга формируется, главным образом, в течение первых шести лет жизни. «Она отвечает за эмоции, отслеживает опасность, определяет, что приносит удовольствие или пугает, что важно для выживания, а что нет». Это центральный пункт управления нашими социальными связями[20].
Вместе рептильный мозг и лимбическая система образуют «эмоциональный мозг». Он находится в самом сердце нашей центральной нервной системы, и его главной задачей является забота о нашем благополучии. Эмоциональный мозг запускает в действие заранее заданные программы спасения, такие как реакция «бей или беги». Именно он отвечает за нашу безопасность.
В норме сигналы от органов чувств попадают в наш мозг к двум главным центрам «принятия решений». Сначала информация поступает в эмоциональный мозг, чтобы решить «опасен-не опасен», а через несколько микросекунд – в кору, чтобы определить, «чем опасен». Например, когда вы видите незнакомого человека, то первым реагирует лимбическая система. Она мгновенно определяет – свой или чужой. И только через долю секунды кора «догоняет», чем опасен (или не опасен) и что делать. Поэтому люди и говорят о «чуйке» или по-научному – об интуиции, которая предупреждает человека об опасности еще до того, как кора разберется, что да как.
В ситуации сильного стресса работа коры нарушается, так как она не в состоянии придать смысл травматическим событиям. В состоянии некоего «ступора» она как бы «зависает», и доступ к ней перекрывается. «Удивительно, но в ответ на угрозу кора подвержена отключению, как будто организм жертвует корой в момент опасности», – пишет голландский психиатр Ван дер Колк. Ящерица в такие моменты отбрасывает хвост, а человек – кору[21].
В таких случаях лимбическая система, как более древняя, берет управление на себя. Ну а поскольку она «натаскана» на определение опасности («лучше сто раз зря напугаться и с избытком пострадать, чем всего единожды пропустить смертельную опасность»), то в состоянии стресса эта опасность ей кажется повсюду. И, как мы видим на примере депрессий, она «накручивает» страха гораздо больше, чем он есть на самом деле[22].
Она посылает сигналы гипоталамусу на выделение гормонов стресса с целью защиты от угрозы, причем не важно: реальной или вымышленной. У больного уровень кортизола (гормон стресса) повышен в разы, как будто за ним гонится тигр. Причина в нарушении обратной связи. В норме повышенный уровень кортизола запускает выработку антагониста Дегидроэпиандростерон сульфата (ДЭА-SO4), выделение которого этот уровень снижает. Так работает вся гормональная система. У каждого гормона есть свой «антидот». Например, у инсулина это глюкагон. При психической патологии этот механизм не работает. Повышение уровня кортизола не ведет к выработке его антагониста Дегидроэпиандростерон сульфата (ДЭА-SO4). Поэтому организм не избавляется от напряжения, а продолжает истощать свои надпочечники[23].
Кора, кроме того, что она контролирует выброс эмоций, является еще и хронометром нашего мозга. ДЛПФК (дорсолатеральная префронтальная кора) «успокаивает» нас тем, что у всего есть конец. Это делает выносимыми любые переживания. Если она отключается, у человека возникает ощущение «ужаса без конца». Он чувствует абсолютную беспомощность и безнадежность: «Это никогда не закончится! Выхода нет!»[24]. В таком состоянии чаще всего и случаются суициды.
Таким образом, в травме нарушатся баланс эмоционального мозга и коры. Сильные эмоции (страх, грусть, злость) увеличивают активность подкорковых областей мозга, отвечающих за эмоции, при этом значительно подавляя деятельность различных участков в лобных долях. «Когда это происходит, лобные доли теряют свою способность к подавлению эмоций, и люди «теряют рассудок»[25].
Лимбическая система, «трубя во все концы об опасности», напоминает панику испуганного ребенка. Он истошно «вопит» об угрозе, и организм бросается мобилизовывать все резервы для ее преодоления. Поскольку этот «вопль» не прекращается годами, то организм человека истощается и заболевает. В норме этого «ребенка» успокаивает и контролирует кора. При депрессии кора отключается, и всем рулит этот перепуганный ребенок или по-научному – подсознание, которое человек контролировать не может.
Так почему же подсознание так перепугано? И почему у одних людей этот «ребенок» ведет себя спокойно, а у других он паникует от страха?
Каждый человек в раннем детстве получает много различных «испугов», но кора их худо-бедно «переваривает», придавая этим «испугам» смысл. Но у некоторых людей в детстве случается особенно сильный «испуг», который кора переварить не в силах. И тогда структура мозга изменяется. Нейрофизиологи с помощью МРТ головного мозга даже нашли, как именно. При травме отключается зона Брока – речевой центр, который находится в левом полушарии. Зато другой участок, который находится в правом полушарии под названием поле Бродмана в этот момент активизируется.
Речевой центр отвечает за выражение наших чувств через речь. Например, человек в норме может сказать: «Я злюсь» или «Я грущу». Поле Бродмана – это часть зрительной коры, которая отвечает за продуцирование образов. Если оно превалирует, а речевой центр заблокирован, то человек не может сказать словами, что он чувствует. Вместо этого перед его внутренним взором мелькают различные образы, как правило, страшные картинки, которые «заводят» его лимбическую систему, и она бросается его «спасать», зачастую от вымышленной угрозы.
Другими словами, после травмы этот «внутренний ребенок» постоянно «смотрит фильм ужасов», который рисует ему одну и ту же картину его травмы, а «взрослой коры», которая бы его успокоила и все объяснила словами, рядом нет. «Мы были удивлены, – пишет Ван дер Колк, – увидеть активацию этой области спустя долгое время после изначально пережитой травмы». То есть могут пройти годы после травмы, но на снимках по-прежнему видна асимметрия: блок в левом полушарии и активация правого полушария. На языке психологии это звучит как откат с «понимания с помощью слов» к «пониманию с помощью образов». Так, как это делает трехлетний ребенок. А так как травма рождает ужасные образы, они довлеют над человеком всю жизнь, запуская бесконечную выработку гормонов стресса[26].
Кроме того, как выяснили генетики, сильный стресс меняет активность генов нервных клеток (не сами гены, а выраженность их функций). В результате нервные клетки перестраивают маршруты связей друг с другом: формируют новые связи и «отменяют» прежние. Связи между нервными клетками являются путями, по которым движется информация, поступающая как из внешнего, так и из внутреннего мира. И от того, как эта информация оценивается, зависят действия человека. Если в темном углу комнаты он видит темное пятно и решает, что это пальто висит, он продолжит серфить интернет. А если человек в этом силуэте «видит» притаившегося грабителя – он выпрыгнет в окно.
Как пишут нейрофизиологи, у человека девяносто миллиардов нейронов, которые образуют порядка двухсот триллионов связей. Психическая травма или хронический стресс меняют характер этих связей. Сама ДНК не страдает, нарушений в ней не найдено, а вот характер связей между нейронами извращается. И вот уже вместо висящего пальто человек видит грабителя. Или он, как это бывает при депрессии, раздувает у себя чувство вины до огромных размеров за пустяковые ошибки. Это происходит за счет перепутывания связей между данными[27].
«Происходят перестановки между частями картины мира, между фактами, желаниями, чувствами и эмоциями. Каждая отдельная клетка остается здоровой и чувствует себя прекрасно, но в нейронных сетях возрастает мера хаоса, так что мозг начинает работать хуже»[28]. Информационный яд («испуг») воздействует на разум и подчиняет его лимбической системе, а именно: аффектам страха, агрессии, жажды. «Мы постепенно оказываемся в ложной вселенной, наполненной врагами и преследователями, далеко оторванной от живой ситуации жизни»[29].
Благодаря новым связям человек по-другому начинает воспринимать мир: по-другому мыслить, по-другому действовать. И вот он уже не уверенный и адекватный член общества, а зависимый, трусливый или притворяющийся «мачо» имитатор.
Абсолютное большинство психоаналитиков связывают психическую патологию, в том числе и депрессию, с перенесенными в детстве психическими травмами. «Подавляющее большинство пациентов, страдающих хронической депрессией, подвергались в детстве тяжелым психическим травмам»[30]. Лоуэн в книге «Радость» пишет: «Я обнаружил страх кастрации у всех моих пациентов, и он сопровождался страхом быть убитым»[31]. Сильный стресс, случившийся в детстве, буквально «ломает мозг» ребенку. Картина «перелома» может быть разной. Сильный стресс может вылиться в депрессию, пограничное развитие личности, в биполярное расстройство или даже в шизофрению. Диагноз не имеет значения. В корне большинства психических заболеваний лежит психическая травма (см. раздел «Травма»).
Психическая травма, если она не настолько тяжелая, чтобы вызвать психическую болезнь, может стать причиной хронических заболеваний. «Путаница на уровне восприятия и смыслообразования у человека, страдающего депрессией, приводит к такой же путанице на уровне иммунной системы»[32]. Нарушение в системе «свой-чужой» приводит к тому, что иммунная система по ошибке нападает на нормальную часть тела, что приводит к самым разным и очень неприятным «аутоиммунным» заболеваниям. Уменьшение клеток-киллеров в крови увеличивает риск заболеть раком[33].
Таким образом, при депрессии, как и при других психических заболеваниях, система самовосприятия дает сбой. Мозг выдает ложные результаты обработки информации. Человек лишается четких ориентиров: где он находится и что с ним происходит. Случается это в момент первоначального сильного стресса, а потом длится всю жизнь. Как будто что-то впечаталось в память человека, и он не может от этого избавиться. В биологии и психологии есть для таких случаев слово «Импринт», что переводится как след или оттиск, мгновенная и надолго запись в память, серьезно влияющая на последующее поведение[34].
Есть гипотеза, согласно которой в момент сильных переживаний в кровь выбрасывается большое количество внутренних опиатов, а они уже через расширение сознания стимулируют образование новых нейронных связей. Новые связи обеспечивают новое видение текущей жизни. К сожалению, это новое видение уводит человека далеко от реальности и, как мы видим, на всю жизнь[35].
Депрессия с точки зрения физики
С точки зрения физики природа всего едина и сводится к связанным друг с другом энергии и информации. Информация является формой или способом организации энергии. Все предметы окружающего мира, состоящие из атомов и молекул, есть энергия с массой. Существуют, однако, формы энергии без массы, например, видимый нами свет и составляющие его элементарные частицы – фотоны[36].
«В человеке два материальных начала: плотное и тонкое», – пишет Исаев в книге «Физическая психология». Тело – плотное, а мысли, чувства, эмоции – тонкое. Личность человека имеет информационную природу и является частью тонкого плана. Органическое и информационное начала взаимодействуют[37].
Медицина занимается только органической составляющей (телом) человека. Она изучает деятельность мозга, подсчитывает количество медиаторов и гормонов, ищет дефект в генах – то есть тем, что можно увидеть, выделить, посчитать. Информационной составляющей занимаются физики, кибернетики, математики. Так, изучением влияния информации на жизнь человека занимались в ХХ веке А. Чижевский и В. Вернандский. Мы живем в информационном поле, которое они называли ноосферой. Она выше биосферы. Ее создает человеческий дух, как свою сферу обитания[38].
Физика в лице Эйнштейна доказала, что материя сама по себе ничего не значит без «полевой среды», которая связывает все объекты во вселенной и обуславливает их взаимодействие и свойства. Р. Уилсон ссылается на биолога Шелдрейка, который предположил существование морфогенетического поля, которое существует между генами, но не может быть обнаружено «в них»[39].
Курт Левин, книга которого так и называется «Теория поля в социальных науках», привнес теорию поля в психологию. С его точки зрения, именно среда производит изменения в жизненном пространстве человека. В отличие от Фрейда, который считал, что человеком движут влечения, Курт Левин сместил фокус внимания с человека на среду. Среда – это окружение человека: как близкое (семья), так и дальнее (работа, культура). Совокупность личности со средой получило название поля. Вывод прост: поведение определяется внешними объектами и внешними факторами. Ребенка с малых лет наполняют правилами и законами общества, и эти правила он потом исполняет всю жизнь. Он не сам их придумал. Их ему внедрили.
Поле и среда, окружающая нас, это не только среда каких-то объектов, это среда значений и смыслов. Другими словами, поле – это не только люди, но и наши мысли, фантазии, а также убеждения о себе. Я думаю, что таким полем может быть культура, в которой мы все живем, и которая, хочешь не хочешь, на нас влияет. Даже религия, и та не однородна и по-разному влияет на людей.
Проблема заключается в том, что у нас не хватает понятий и слов для описания этого поля. Оно невидимо и не поддается измерению приборами. Возможно, «поле» несет в себе какой-то тип энергии, пока неизвестный науке[40]. Когда ученые, наконец, научатся измерять это поле, мы получим ключ к измерению глубины психических нарушений.
А пока что философам приходится как-то описывать механизмы действия этого поля. Задолго до появления современной физики и современной психологии в Древней Греции скептики уже отмечали Неопределенность и Относительность как неизбежные аспекты человеческой жизни: то, что видит один человек, никогда в точности не совпадает с тем, что видит другой. Фактически они говорили о том, что у каждого человека есть его субъективная реальность. «Каждый по-своему интерпретирует (наделяет смыслом) полученную извне информацию. Это прежде всего относится к словам других. Последняя рождает либо позитивные, либо негативные чувства, а они уже меняют биохимические процессы. Как это происходит, объясняет теория информации»[41].
Согласно этой теории, преобразование – это перевод формы из одной информационной системы в другую. «Когда я, например, разговариваю с вами по телефону, пишет Уилсон, передатчик преобразовывает мои слова (звуковые волны) в электрические заряды, которые – если не вмешается телефонная компания – поступают в приемник у вас в руке, где они вновь преобразовываются в звуковые волны, которые вы расшифровываете как слова»[42]. Так и негативные установки (негативные мысли, чувства, эмоции – то, что мы называем тонким планом) могут быть легко преобразованы в нейрохимические и гормональные процессы, которые, проходя через гипоталамус, стимулируют выброс нейропептидов. Нейропептиды, а в их число входят и внутренние опиоидные пептиды, способны воздействовать на агрессию человека, его мотивацию, половое влечение, пищевое насыщение, болевую чувствительность и т. д. Кроме того, они участвуют в нейродегенеративных процессах, повреждении ткани мозга вследствие травмы и ишемии[43].
«Нейропептиды обладают любопытным дуализмом, который напоминает дуализм фотонов (и электронов) в квантовой механике. Эти квантовые сущности иногда ведут себя как волны, а иногда – как частицы. Точно так же нейропептиды иногда ведут себя как гормоны (химические вещества, вызывающие изменения в функционировании организма), а иногда – как нейропередатчики (химические вещества, вызывающие изменения в функционировании головного мозга)»[44].
Эго – квантовое состояние, производное бессознательного. «Я» – это световая точка, в которой находится самость (наш дух) и не находится самость (она снаружи). «Здесь мы видим тот же дуализм, который характерен для квантового состояния: быть одновременно внутри и снаружи»[45]. Собственно, и человек, согласно христианству, и человек, и Бог.
Согласно теории функциональных систем Анохина П. К., функциональная система имеет два направления, две силы: сила развития и сила сохранения неизменности. И обе эти разнонаправленные силы существуют в организме одновременно. Любое квантовое состояние – это состояние неопределенности и вероятности. Медицина оперирует в основном определенностями (тем, что можно пощупать и увидеть), так как она связана с материальным миром, а не миром энергий. Поэтому объяснять, как устроена психика, должны не медики, а физики.
Рациональная логика, берущая свое начало от Аристотеля, не может объяснить дуализм квантового состояния. Для Аристотеля выбор из всех возможных вариантов всегда один, он же истинный. Остальные – ложные. Закон исключенного третьего говорит о том, что сущность может быть либо частицей, либо волной. И не может быть и частицей, и волной одновременно. Это как носок: или длинный, или короткий, и никак не длинный и короткий одновременно. Так же и фотон (света) является или волной, или частицей по Аристотелю. Квантовая физика заменила «или» на «и». Фон Нейман добавил к ним «может быть». Оказывается, вывод зависит от того, как мы смотрим, то есть от наблюдателя. Например, в ХХ веке выяснилось, что эксперимент, поставленный одним способом, всегда показывал, что свет распространяется как волны, а при другом способе всегда получалось, что свет распространяется как отдельные частицы[46].
В квантовой теории есть закон, который звучит так: нельзя исключить наблюдателя из описания наблюдаемого. Этот закон вполне применим к психическим процессам. Восприятие заключается не в пассивном принятии сигналов от внешнего мира (я вижу ворону), а в активных, творческих интерпретациях (оценке) этих сигналов, придании этим сигналам смысла (ворона мне нравится, она украшает пейзаж). Другой человек, который видит эту ворону, может думать совершенно по-другому (раскаркалась тут негодяйка). Еще пример: если на жену накричал муж, то она может решить, что он ее не любит, а может решить, что ему туфель жмет. Два разных смысла приведут к двум разным поведенческим стратегиям – обидеться или перевести все в шутку. Или, как это бывает при депрессии, если наше прошлое нам кажется сплошной катастрофой, то «наблюдатель», который создает эти образы, переделывает наше отношение в сторону «страшилок». Все происходит неосознанно, человек даже страха не чувствует, но в его внутреннем мире идет «война», выбрасываются нейропептиды и меняется биохимия.
Таким образом, смысл гипотетически многообразен. Он одновременно существует во многих вариациях, и мы можем лишь приблизительно говорить о вероятности реализации того или иного варианта. Кот Шредегера и жив, и мертв, пока мы не открыли крышку ящика[47].Так и смысл может быть любым, пока не совершено действие. Если жена в ответ на грубость мужа рассмеялась, то реализовался второй вариант, а если обиделась, то первый. На самом деле этих вариантов не два, а бесконечное множество. Как, впрочем, и множество вариантов поведения человека в одной и той же ситуации. Поэтому современная нейрология говорит о множественности «я» в мозгу каждого человека. Также и одна из ветвей квантовой теории тоже определяет существование множества «я».
В отличие от аристотелевской логики, которая имела дело с определенностями (Носок или длинный, или короткий. Точка. Никаких вариаций), неаристотелевская современная логика имеет дело с неопределенностью и вероятностями (то ли муж меня любит, то ли не любит; то ли я хочу гамбургер, то ли не хочу), что субъективно переживается с определенной долей тревоги. И поскольку в течение нашей жизни определенностей нам не хватает, «аристотелевская» логика подсознательно программирует нас на выдумывание фиктивных определенностей.
Отсюда и рождаются малореальные иллюзии и фантазии (вот получу диплом и разбогатею), так как любая определенность, даже малореальная, лучше самой реальной неопределенности. Нацисты в концлагерях доводили узников до сумасшествия, постоянно ломая правила и разрушая всякую возможность приспособиться хоть к какому-то порядку. Хаос у греков был врагом Космоса (разума).
Таким образом, психические процессы нельзя объяснить рациональной аристотелевской логикой. Они не линейны и во многом субъективны, то есть зависят от «наблюдателя». Каждый по-своему интерпретирует (объясняет) полученную извне информацию. А это не только слова, но и эмоции, жесты, движения тела. Рождающийся в коммуникации смысл вызывает либо позитивные, либо негативные чувства, а они уже меняют биохимические процессы. Поэтому понижение уровня дофамина вовсе не является причиной депрессии как считают врачи, это всего лишь глубокое следствие.
Не исключено, что в момент сильной травмы и выброса нейропептидов у человека происходит перепрограммирование жизненных программ. Программа «Живи» меняется на программу «Умри». Или, как говорил Фрейд, вместо Эроса включается Танатос. «Английское GIGO – «Garbage In, Garbage Out» означает, что при вводе «замусоренных» данных выдается тоже «мусор»[48]. Дефектное программное обеспечение гарантирует получение неправильных ответов или даже полной бессмыслицы (я урод, я неудачник или даже я убийца). Но, как это ни парадоксально, появление даже фальшивого смысла создает определенность и этим самым успокаивает человека. Фальшивый смысл уходит в подсознание и становится «несущей конструкцией» личности. Человек на него опирается и всячески сопротивляется его осознанию. Ему спокойнее быть «уродом», чем находиться в неопределенности и не знать, кто же он.
У человека, отравленного информационным ядом (ложным смыслом), «картина мира полна фатальных противоречий, но при этом кажется ему поразительно цельной. Его разум повержен, а интеллект сотрясают судороги Стокгольмского синдрома»[49]. В нем формируется ложная идентичность, сформированная правилами, навязанными родителями. Эти правила «врастают в его ум». Человек утрачивает свое «Я» и превращается в придаток социума, а его логика из живой «неаристотелевской», у которой всегда много возможных выборов, превращается в плоскую «аристотелевскую», где выбор один: «Выхода нет!».
Депрессия с точки зрения психологии
В психологии существует много подходов в понимании механизмов депрессии. Наиболее подробное их описание можно найти в статье Катаева З. М. «Психоаналитические концепции депрессии». Здесь я попробую сослаться на самые известные из них, чтобы дать только общее представление о том, что лежит в основании депрессии.
До XVII века в понимании механизма меланхолии преобладал биологический подход: причина заключалась в некоей «черной желчи», которая отравляет мозг. Однако постепенно ученые стали все больше склоняться к тому, что большинство психических расстройств возникает вследствие искаженного эмоционального опыта, что наследственность, неправильное воспитание и нестерпимые страсти могут быть причиной меланхолии.
Современное представление о меланхолии, которую с начала ХХ века стали называть депрессией, ведет начало от работы Фрейда «Печаль и меланхолия». Согласно З. Фрейду, тяжесть и болезненность процесса как печали, так и меланхолии обусловлены фиксацией (застреванием) либидинозной энергии на объекте любви, который субъект потерял, например, при смерти матери. Человек никак не может смириться с этой потерей. Более того, он чувствует враждебность к утерянному объекту и, как результат этого, испытывает чувство вины.
З. Фрейд обращает внимание на то, что самообвинение, самообесценивание у депрессивных пациентов есть результат направленного внутрь гнева. Субъект чувствует гнев к потерянному объекту, но хотя объект переживается как утраченный, он не хоронится, не происходит прощания с ним. Поэтому человек все горюет и горюет[50].
Следует добавить, что заболевания меланхолией могут быть связаны не только с реальной потерей любимого объекта, но зачастую оно возникает, когда субъект сталкивается с обидами, разочарованиями, предательством и т. п. Объект не умер, но его любовь, с точки зрения субъекта, умерла, а значит, объект потерян.
К. Абрахам, последователь З. Фрейда, одним из первых обратил внимание на выраженную амбивалентность эмоций индивида при депрессии. Он считал, что переживание любви у депрессивного индивида сопровождается сильным чувством ненависти, которая подавляется и проецируется на других. Абрахам утверждал, что агрессия – это то, с чем человек рождается. Она превращается в месть, если ребенок не получил должного внимания. Желание мести обращается внутрь самого желающего, что и порождает его депрессию[51].
Ученик Фрейда К. Юнг объяснял причину возникновения депрессии как результат слияния с Архетипом Великой матери. Юнг считал, что мы «дышим» воздухом, наполненным опытом жизней наших предков. Он называет этот «воздух» коллективным бессознательным. Существуют некие культурные шаблоны, какими должны быть мать, отец или король. Это и есть Архетипы или идеи в терминологии Платона. Описание Архетипов можно встретить в сказках. Добрая, заботливая мать и холодная, властная мачеха – это две стороны одного архетипа. Архетипа Матери. Возникновение тяжелой депрессии Юнг связывал с влиянием архетипа Великой матери[52].
С точки зрения Юнга, у человека есть свой собственный архетип – архетип Самости. Он в себе содержит смысл жизни человека. Самость – образ Бога внутри нас. К сожалению, в нашей культуре ребенку с детских лет навязывают «правила социального общежития» и этим самым отталкивают от его Самости. Но после сорока лет (Юнг даже считает, что около шестидесяти лет) мы все-таки должны с ней установить связь. Это в норме. У психически больного человека в раннем детстве (как правило, до семи лет) происходит какое-то очень сильное эмоциональное переживание, с которым незрелая психика не справляется. И тогда активизируется дремлющий в генах Архетип, чаще всего Архетип Матери. Реальная мать как бы сливается с ним и вырастает в глазах ребенка до мифических размеров, становится своего рода Богом, которого невозможно ослушаться.
Такой матери надо только поклоняться. Она вызывает и трепет, и ужас. Во внутреннем мире ребенка и особенно в его снах «мать появляется как животное, ведьма, привидение, пожирательница людей, гермафродит и т. п»[53]. Чтобы выжить с такой матерью, ребенок «отключает» свою Самость, и теперь Архетип Матери берет на себя роль его командира. Результатом станет развитие «комплекса Кибелы»: самокастрация, безумие и ранняя кончина.
Огромной заслугой Юнга является то, что он нашел путь избавления от психического заболевания. По его мнению, психика имеет самоисцеляющий компонент. «Чтобы выйти к Самости, надо принять то, что в каждом есть низшего, бессознательного и хаотичного», – пишет Юнг в «Алхимии снов»[54]. Фактически Юнг говорит о том, что надо принять своего внутреннего монстра и установить отношение с так называемой темной стороной психического, неким темным духом, поскольку именно этот темный дух и является двигателем исцеления.
Другими словами, сначала ты принимаешь все темное, что в тебе есть, без осуждения, как близкую и родную тебе часть, а потом производишь обратную операцию – отделяешь темное и мифологическое от своей матери. Ты отделяешь свою реальную мать от архетипа. Тогда образ реальной матери теряет ту силу, которую давал архетип, и она из Бога и повелительницы превращается просто в несчастную женщину. Ты освобождаешься от ее власти и приобретаешь свободу.
Возникновение предрасположенности к депрессии изучала британский психоаналитик Мелани Кляйн. С ее точки зрения, каждый младенец до года проходит две стадии: параноидно-шизоидную и депрессивную. До трех месяцев младенец видит мать расщепленной: одну хорошую, которая кормит, другая плохая, которая отсутствует, когда он голоден. Это параноидно-шизоидная стадия. После трех месяцев у младенца происходит объединение двух «мам» в одну, которая может быть как хорошей, так и плохой. Если в результате каких-то травматических событий младенец застрянет на первой позиции, то в будущем это выльется в агрессивный и параноидный характер или даже в шизофрению. А если застрянет на второй позиции, то в будущем возникнет депрессия. Для депрессии в таком случае характерно сильное чувство вины, которое будет основой самоосуждения и самообесценивания[55].
Идеи М. Кляйн нашли продолжение в работах британского психиатра, психоаналитика Уилфреда Биона, разработавшего теорию контейнирования. Контейнирование есть способность матери объяснить младенцу, что с ним происходит. Когда младенец испытывает дискомфорт, например, от мокрых пеленок, он не понимает, что с ним происходит. Он чувствует ужас и криком зовет мать. Та, определив причину, говорит ему: «Ты мокрый, сейчас я тебя переодену». Она переводит его недифференцированные ощущения в понятный вывод и этим успокаивает ребенка. Контейнирование – важный навык, которому учит ребенка мать. Если она не владеет им, то ребенок в своей жизни будет плохо осознавать свои эмоции и чувства, и это станет базой для депрессии[56].
Британский психоаналитик Д. Винникотт заметил, что степень тяжести депрессии коррелирует с уровнем развития личности на момент утраты. «Чистая депрессия» – самый легкий уровень, соответствует психоневрозу. Шизофрения – самый тяжелый уровень, соответствует психозу[57].
Современник Д. Винникотта Ф. Перлз говорил о параллельности физических и психических процессов. Человек усваивает информацию из внешнего мира подобно пище. Информация либо проглатывается, либо пережевывается субъектом, и от этого зависит его поведение. Правильно – пережевывать, а неправильно – глотать, не жуя. Если человек бежит по жизни, не анализируя свое поведение, то сигналы внешнего мира не успевают перевариться и стать опытом. Вместо этого вся информация, все недопережитые состояния (горя, обиды, гнева) слипаются в большой ком, который лежит как камень в подсознании. И, если использовать терминологию пищеварительной системы, вызывает «заворот кишок», извращая поведение[58].
С точки зрения А. Лоуэна, как, впрочем, и большинства психоаналитиков, именно мать формирует веру ребенка в мир. Если ребенок встречается с насилием в детстве, он испытывает беспомощность и отчаяние. «Ребенок не может постигнуть зло как понятие и не иметь с ним дело», – пишет Лоуэн[59]. Ребенок не может уйти от насильника, поэтому он подавляет чувства страха и гнева, выстраивает «броню контроля» и лишается спонтанности.
Причина депрессии, с его точки зрения, кроется в запрете на выражение чувств: страха, печали, гнева. Подавляя страх, мы подавляем и любовь. Неспособность любить свою мать вызывает чувство вины. Это оно, таящееся в человеке чувство вины, произносит слова: ты согрешил, у тебя нет права на счастье. Вина – не что иное, как сдерживаемый гнев. Вина – это самоосуждение. Человек может жить с эти чувством долгие годы. Оно подтачивает его ресурсы, отнимает все силы. Однако, как пишет Лоуэн: «Человек рационализирует свой бред, и его трудно переубедить. Приходится ждать, когда иллюзии рухнут в пропасть депрессии, прежде чем человек станет открытым для помощи»[60].
Другими словами, депрессия приходит для того, чтобы лишить человека иллюзий в отношении своих родителей. Тяжелое состояние безвыходности и отчаяния парадоксально делает человека более открытым к другим смыслам. Например, человек всю жизнь верил, что мама его любит, и любые попытки его переубедить встречали сопротивление. Он находил массу объяснений, почему мать жестока с ним (бабушка маму не любила, была война и т. д.). Депрессия заставляет человека искать выход, в том числе и в переоценке своих взглядов. В ситуации катастрофы, а депрессия воспринимается именно как катастрофа, у человека, наконец, «выпадает из рук его контроль» и освобождается место в психике для другой веры: не он – чудовище, обстоятельства были чудовищными.
Подобный переворот в мышлении философы называют Коперниковским переворотом. Когда-то смельчак Коперник первым выдвинул идею о том, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Излечение от депрессии – это такой же кардинальный переворот в осмыслении своего существования. Об этом в книге «Человек в поисках смысла» пишет создатель логотерапии (буквально: исцеление смыслом), австрийский психиатр Виктор Франкл. С его точки зрения: «Человек – это больше, чем психика. Это дух»[61].
Проблема депрессии находится в «болезни духа». Больной дух выражает себя «по-больному». Корни болезни стоит искать в нарушении смысла своего существования. Смысл находится в совести. «Больной смысл» находится там же и делает человека чрезмерно виноватым, вплоть до образования реактивного образования. Это защита, которая преобразует негативный аффект в позитивный или наоборот. Например, девочка говорит: «Я до смерти люблю своего папу». При этом она может так сильно целовать отца, что это больше похоже на укус. Здесь налицо реактивное образование «я люблю отца», которое является лишь защитой от правды, что она отца не любит и даже ненавидит. И, естественно, чтобы скрыть вину за ненависть к отцу, принимает веру (смысл), что она отца любит.
Человек руководствуется не влечениями, как считал Фрейд, а ценностям (пользой) и смыслом. Смысл нельзя создать и нельзя передать как знания, поэтому разговорная терапия сплошь и рядом неэффективна. Можно тысячу раз сказать человеку, считающему себя чудовищем, что он не чудовище, что он себя недооценивает. Но это никак не меняет ситуацию. Есть хороший анекдот по этому поводу. Человек попал в психушку с бредом, что он пшеничное зерно. У него паника, что любая птица его склюет. Его три месяца лечили и внушали, что он не зерно, что он человек и никто его не сожрет. И вот, наконец, он согласился с тем, что он не зерно. Его выписывают, но на следующий день он напугался петуха и снова оказался в психушке. Врач ему говорит: «Ну Вы же согласились, что Вы теперь не пшеничное зерно». Пациент отвечает: «Да, я не зерно, но петух то об этом не знает!»
Наша психика умудряется подогнать нам любые объяснения, лишь бы мы не отказались от ложного смысла. Поэтому еще древние греки придавали огромное значение трагедии, которая вводила человека в состояние горя и отчаяния. Это помогало человеку по-другому взглянуть на свою жизнь и открыть некий новый смысл своего существования. Только через переживания, через катарсис открывается смысл. Занять его или купить невозможно. Замена ложного смысла на истинный есть излечение от депрессии, когда ты обнаруживаешь, что то, что ты считал белым, на самом деле черное.
Аарон Бек, автор когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), считает, что можно через логику и факты поменять человеку его убеждения, заменить вредные установки типа «я дурак» на полезные: «я в целом хороший человек». Человек, переживая очередную неприятность, автоматически думает что-нибудь вроде: «У меня никогда ничего не получается». И это, как порочный круг, усиливает негативные эмоции, делает настроение ещё хуже. Ведь на самом деле «никогда ничего не получается» – это не реальность, а вредное когнитивное искажение, логическая ошибка[62].
КПТ в настоящее время является основным методом лечения депрессии, поскольку позволяет за десять сеансов поменять многие убеждения человека и облегчить его состояние. Однако эффективность ее во многом преувеличена (см. подробнее главу «Лечение»).
В отличие от когнитивной модели, психоанализ видит искажение не в мышлении, а в эмоциях, возникших после травматического переживания. С точки зрения американского психоаналитика Х. Спотница, психическая патология произрастает из очень раннего детства. Отвергнутый младенец чувствует ярость к материнскому объекту и, чтобы его не разрушить, перенаправляет агрессию на собственный психический аппарат. На это требуется много энергии, и поэтому эмоциональное развитие искажается. Другими словами, «пациент постоянно испытывает давление сильного желания убивать и защищается от него тем, что выводит из строя свой психический аппарат с его высоким потенциалом к деструктивным действиям». Таким образом, деструктивные действия в отношении самого себя предохраняют пациента от реального убийства и суицида[63].
Особенностями депрессии у нарциссических пациентов занимался американский психоаналитик О. Кернберг. С точки зрения О. Кернберга, нарциссические пациенты не способны чувствовать грусть и вину. Он как бы отказывает им в «праве на депрессию», поскольку они застряли на параноидно-шизоидной стадии (по Кляйн). Их «депрессия», которая всплывает в процессе психотерапии, вместо печали из-за потери оборачивается гневом и негодованием, нагруженным мстительными чувствами. Однако в некоторых случаях он наблюдал «дорастание» пациента до депрессивной стадии (по Кляйн), что являлось очень благоприятным фактором в лечении[64].
Со второй половины ХХ века и начала XXI века депрессию с позиций собственных научных воззрений изучали представители теории объектных отношений, французской школы психоанализа, теории привязанности, эго-психологии, фрейдомарксизма, интегративного подхода и т. д. В конце ХХ века на депрессию обратили внимание философы. В русле лингвистического поворота ученые обратили внимание на язык, на его роль в мышлении. Оказалось, понимание речи во многом зависит от контекста, а не от собственно высказанных слов. Психические заболевания – это во многом следствие неправильно понятых смыслов. Более подробно об этом изложено в следующем разделе.
Депрессия с точки зрения философии
Философы разных эпох высказывались о депрессии по-разному. Подробно об этом можно прочитать здесь[65].
В Ветхом Завете приступам мрачного настроения, тоски и отчаяния был подвержен первый царь народа Израиля Саул. Эти состояния стали появляться у него после того, как он ослушался пророка Самуила и не уничтожил преследовавших евреев амаликитян. Разгневанный Самуил сообщил Саулу, что отныне тот потерял божественное расположение: «Ты отверг слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства». С тех пор царя стал посещать «злой дух», мучивший его тоской и отчаянием, а снять приступы мог только будущий царь Давид игрой на арфе. От этой меланхолии Саул так и не оправился, а впоследствии, попав в окружение во время битвы с филистимлянами, совершил самоубийство, бросившись на собственный меч.
Аристотель, поддерживая учение Гиппократа о роли четырех жидкостей в функционировании человеческого организма, считал, что на характер и поведение влияет избыток «черной желчи». Большинство творческих людей, с точки зрения Аристотеля, склоны к повышенной температуре «черной желчи». Такому «перегреванию», как утверждалось в тексте, был подвержен Геракл, в один из таких моментов убивший своих сыновей.
И для Гиппократа, и для Аристотеля меланхолия была в первую очередь болезнью тела. Но к концу I века до н. э. этот взгляд стал меняться, и одним из первых эти изменения зафиксировал Цицерон. Судя по всему, римский политик сам страдал меланхолией, особенно сильно после смерти дочери, которая умерла в родах. По Цицерону, причина болезни души именно в сильных эмоциях и чувствах: страхе за будущее и тоске за прошлое. С точки зрения Цицерона, найти выход из этих переживаний можно в философии, а если оставить такое состояние без внимания, можно потерять рассудок.
Надо сказать, что и в Греции, и в Риме меланхолические состояния не подвергались осуждению. Напротив, признавая мучения человека, философы и врачи скорее сочувствовали ему и предлагали в помощь различные лекарственные средства и философские упражнения. Однако с приходом христианства взгляд на меланхолию стал меняться.
В Средние века меланхоликов иногда называют «детьми Сатурна» – часто это люди, по той или иной причине отброшенные обществом. Влияние планеты Сатурн на человека признается вредным: эта удаленная от Земли планета ассоциируется с холодностью и тяжестью, ее талисман – свинец. А образ Сатурна, пожирающего своих детей, которого избегший этой участи Зевс оскопил, усиливает негативное восприятие. Черная желчь начинает ассоциироваться с первородным грехом, а меланхолический темперамент восприниматься как наихудший из четырех природных.
Возрождение отказывается от христианской концепции меланхолии как греха и предпринимает попытку модернизировать античные подходы к проблеме. Одним из главных теоретиков здесь оказывается итальянский священник и философ Марсилио Фичино. Приступы меланхолии мучили его с юности, советы богословов вести активную религиозную жизнь не помогали, и Фичино решил исследовать эту проблему самостоятельно. Результатом стала теория, изложенная в монументальном труде «Три книги о жизни» (1489), в которой М. Фичино попытался доказать, что меланхолическому состоянию подвержены в большей степени творческие люди, и предлагал свое объяснение. С его точки зрения, творческие люди слишком быстро расходуют «дух» крови, который питает мозг. Кровь густеет, и ее дух портится, делая человека мрачным, замкнутым и унылым.
Однако М. Фичино превзошел английский священнослужитель Роберт Бёртон, посвятивший меланхолии гигантский труд почти в 1000 страниц. Это было что-то вроде энциклопедии, в которой было собрано все, что когда-либо писали о меланхолии философы, писатели, врачи, богословы и ученые, начиная с Гомера; описаны все использовавшиеся когда-либо средства борьбы с нею и десятки случаев своего рода клинических наблюдений за меланхоликами. Он был близок к современным представлениям психоаналитиков о депрессии, полагая, что она является следствием враждебного отношения к окружающему миру и завышенных требований к себе, в конечном счете приводящих к одиночеству и направленной агрессии в отношении самого себя. Он описал возможные для того времени методы лечения меланхолии: физические упражнения, спортивные мероприятия (особенно фехтование), наблюдение спортивных соревнований, шахматы, ванны, чтение специально подобранных книг, музыкальная терапия, путешествия, диетотерапия, прием особых лекарств, слабительных средств, бильярд, различные игры (карты, философские игры, игра в кости и др.).
Известный роман Гёте «Страдание юного Вертера» – прекрасная иллюстрация картины меланхолии. Юный герой потерял вкус к жизни. И мироздание, и собственные чувства кажутся ему бессмысленными. Разочарованный и несчастный, Вертер совершает самоубийство. Гёте не называет состояние Вертера меланхолией, и тем не менее это произведение сыграло ключевую роль в ее распространении: после выхода «Страданий юного Вертера» Германию захлестнула волна самоубийств, а сама меланхолия стала модным явлением.
Новое время сделало из меланхолии культ. Подобно эпилепсии – болезни пророков, и подагре – болезни помещиков, меланхолия становится чуть ли не обязательным атрибутом поэтов, мыслителей, художников. «Хрупкое стихотворение, как радуга, расцветает лишь на темном фоне; вот почему поэтический гений обретает в меланхолии свою стихию», – писал Гёте.
Гегель в «Лекциях по философии истории» говорит о необходимости перейти от критики своего несчастья к его осознанию. Человек по Гегелю «должен почувствовать себя отрицанием самого себя, он должен понять, что его несчастье есть несчастье его природы». У человека «несчастное сознание». Без осознания своего несчастья невозможен и переход к периоду счастья.
Страстный критик гегельянства Сёрен Кьеркегор тоже настаивал на необходимости осознания несчастья, но видел в этом состоянии самостоятельную ценность. Уже в первой опубликованной работе «Или – или» (1843) он признается в любви к меланхолии и называет ее своей «верной наперсницей». В философии Кьеркегора подчинение меланхолии, отказ от противостояния несчастьям является формой освобождения, открывающего новый взгляд на мир. «Философия начинается с отчаяния», – утверждал Кьеркегор.
Сто лет спустя эти идеи были развиты философами-экзистенциалистами. Роман «Тошнота» (1938), ставший манифестом новой философии, Жан-Поль Сартр первоначально назвал «Меланхолия». И опыт его главного героя действительно напоминает ее симптомы, вначале он даже оценивает свое состояние как некую болезнь. Однако, как и у Кьеркегора, это состояние в результате оказывается не болезнью, а единственным возможным способом подлинного существования – признав свою беспомощность и ограниченность, герой благодаря этому обретает новую свободу (как тут не вспомнить Юнга, который призывал принять свой темный дух).
Сартр писал: «Дело не в том, что с нами сделали, а то, что мы сами сделали из того, что сделали с нами». Он полностью перекладывает ответственность за свое состояние на плечи самого человека: никто не спасет человека от него самого. Человек заброшен в мир, и ему не на кого надеяться. Только на себя. В мире нет категоричных императивов и знамений. Но заброшенность не фатальна. Человек может вырваться из нее, полагаясь на самого себя. И в порыве к свободе придать смысл своей жизни.
Такой подход отличается от подхода всей классической философии, где человек – пассивный участник внешних сил, будь то судьба, Бог или государство. Прежде он знал, что мир упорядочен, необходимо лишь выучить правила и им следовать. ХХ век перевернул все с ног на голову. Мир не упорядочен. Он хаотичен. Правила счастья не гарантируют. Мир познается не на уровне знаний, а на уровне смысла. Например, Сарт пишет: «Марксизм может объяснить, почему Поль Валери является мелким буржуа, но почему некий буржуа является Полем Валери – не может». Если перенести такой взгляд на медицину, то медицина может объяснить, почему у Ивана опухоль. А вот почему у опухоли Иван – не может. Вот в этом вопросе, на мой взгляд, и заключается объяснение, почему лечение психических больных малоэффективно. Никто не задает вопрос, почему у депрессии Иван? Не Петр, не Василий, а Иван?
Вообще, в задавании вопросов философии нет равных. Дать готовый ответ – это «наполнить кувшин», а задать вопрос – это «зажечь факел». Депрессия – это потухший факел, и его зажечь может правильно поставленный вопрос. Например: что движет человеком? Данте, как известно, на вопрос «что движет солнцем и светилом» отвечает – любовь. У философов на этот счет мнения разделились. Я насчитала двадцать мнений, включая мое.
Итак, что движет человеком?
1. Начало (греки).
2. Бог (христианство).
3. Страх (Юнг).
4. Стыд (Левинас).
5. Тайна (Хайдеггер).
6. Страсть (Ницше).
7. Либидо (Фрейд).
8. Ответственность (Бахтин).
9. Неудовлетворенность (Сартр).
10. Агрессия и любовь (Кляйн).
11. Совесть (Фейербах).
12. Время (Бергсон).
13. Желание (Делёз).
14. Феномен самоустремленности (Библер).
15. Сознание (Фуко).
16. Культура (Структуралисты).
17. Долг (Кант).
18. Различие (Хайдеггер и Сартр).
19. Зависть (автор неизвестен).
20. Дух (моя версия).
Было бы неплохо, если бы каждый попавший в жернова депрессии, искал ответы на эти философские вопросы: «Зачем я живу? Что мною движет? Могу ли я что-нибудь изменить?» Или, если вспомнить Канта, то: «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?»
Вопросы смыслообразования стали интересовать философов только в ХХ веке. Само слово «смысл» актуализировалось в XIX веке. До этого чаще использовали слово «значение». Смысл, в отличие от значения, многолик. То есть значение всегда одно, а смыслов много. Например, значение слова «кирпич» – быть строительным материалом. Но смыслов гораздо больше. В зависимости от контекста это и «кирпичом по голове», и «кирпичики знаний», и «анекдот – кирпич русской истории», и «одинаковый как кирпич». Поэтому неудивительно, что на философский вопрос всегда много ответов, и ни один из них не является окончательным и бесспорным.
«Каков смысл меланхолии?», – вопрошает в книге «Черное солнце» философ Юлия Кристева. «Одно лишь бездонное страдание, которому не удается означивать себя и которое, потеряв смысл, теряет и жизнь»[66]. У Достоевского, с ее точки зрения, убийство Раскольниковым старушки есть результат отчаяния, которое вынудило его убить старушку, чтобы не убить себя. Справедливо и обратное: «умерщвление себя – трагическая маскировка убийства другого».
Этот другой, еще со времен Фрейда есть материнский объект, с которым у депрессивного человека амбивалентные отношения: «Я его люблю <…> но еще больше я его ненавижу; поскольку я его люблю, то, чтобы его не потерять, я помещаю его в себя; но поскольку я его ненавижу, этот другой во мне оказывается плохим Я, то есть, я плохой, я ничтожен, и я себя убиваю»[67].
«Следовательно, анализ депрессии проходит через обнаружение того факта, что жалоба на себя является ненавистью к другому». Другими словами, все тягостные переживания депрессивного человека, все его страдания и отчаяние есть не что иное, как выражение его ненависти к матери.
«Больной депрессией защищается не от смерти, а от тревоги, которую вызывает эротический объект», а именно мать. «Убийство матери – наша жизненная потребность, условие sine qua поп (лат. «непременное условие») нашей индивидуации», нашего взросления. «Чтобы защитить мамочку, я убиваю себя <…> т. к. «все это из-за нее, из-за нее, смертоносной геенны»[68].
Ненависть, которую человек хотел бы направить на мать, не уходит вовне, а запирается внутри человека и втихомолку убивает его. Депрессия завершается в асимволии, в потере смысла. Работа левого полушария, которое управляет лингвистической деятельностью, нарушается. Управление переходит к правому полушарию, заведующему аффектами и эмоциями. Человек затоплен чувствами, которые он не может «переварить», то есть придать им символический смысл, прожить и отпустить потерю. В бессилии они воспроизводятся снова и снова.
Вместе с тем Кристева пишет, что безумие является местом свободной индивидуации (индивидуация – взросление). Другими словами, безумие – не болезнь, это извращенный путь поиска себя, своей индивидуальности. Об этом писали все сторонники популярного в 60-е годы движения Антипсихиатрия.
Согласно данной концепции, психическое заболевание – это попытка справиться с безвыходной ситуацией, это стратегия решения проблемы, а не сама проблема. Проблемой является семья, а больной лишь через свою болезнь пытается в этой семье уцелеть. «Болезнь – это другие». Это почти по Сартру, у которого «ад – это другие». К «другим» антипсихиатры относили ближайшее окружение и в большей степени мать.
В 1952–1956 гг. представители калифорнийской школы Пало-Альто пришли к выводу, что психические расстройства – это признак нарушенной коммуникации между больным и его окружением. Коммуникация, с их точки зрения, несет в себе не только вербальное (словесное) сообщение, но также сообщение жестами, выражением лица, позой. В норме все сообщение должны совпадать по смыслу, но в семьях психически больных кто-то из членов семьи (чаще мать) посылает разнонаправленные в смысловом отношении сигналы. Она может сказать ласково ребенку: «Я люблю тебя». Но глаза и лицо ее при этом будут выражать гнев или отвращение. Это сбивает ребенка с толку и разрушает его логический аппарат. Автор этой идеи Грегори Бейтсон назвал такое нарушение «двойным посланием» (double bind). Причем он указывал, что невербальная информация обладает статусом более высокого логического типа, чем словесное содержание. То есть ребенок будет больше ориентироваться на выражение лица матери, чем на ее слова. «Психоз, – пишут исследователи, – оказывается отчасти способом совладания с ситуацией двойного послания»[69].
С точки зрения Лэйнга, самого известного последователя Антипсихиатрии, психическое заболевание есть следствие сомнения и представляет собой движение от семейственности к автономии. Это перекликается с точкой зрения Кристевой, что депрессия – это путь к автономии и взрослению. Это такая извращенная попытка «выйти на свободу» из «тюрьмы» (семьи). Или, как считает Купер, заболевание есть протест, хотя и противоречивый по своей сути[70]. При этом члены семьи активно сопротивляются любым попыткам больного уйти из семьи, поскольку, с точки зрения Лэнга, психически больной член семьи поддерживает устойчивость семьи, являясь как бы ее «несущей конструкцией». Вокруг его болезни вращается вся жизнь семьи, на него сваливают всю ответственность за неудачи семьи, весь гнев и вину.
Говоря о социальном смысле тяжелого психического заболевания, Эстерсон обращается к ветхозаветной метафоре козла отпущения. Это явление имеет символический смысл избрания жертвы, на которую вымещается вся вина и ненависть племени. Он описывает функцию этой процедуры как инстинктивную попытку племени «облегчиться» от собственной ненависти. Социальная группа вымещает на жертве свои собственные проблемы. То же происходит в семьях шизофреников, например. В таких семьях мать, как правило, холодная, равнодушная либо гиперопекающая, направляющая ребенку двойные послания, в глубине себя самоутверждается за счет ребенка, принижает его, чтобы самой возвыситься. В пятидесятые годы родился специальный термин – шизофреногенная мать.
Таким образом, во второй половине ХХ века и философы, и психоаналитики вышли на проблему языка как основного способа формирования сознания, как здорового, так и больного.
«Практики безумия – это языковые игры», – пишет российский философ В. Руднев в книге «Философия языка». «Смысл депрессии – приобретение новых смыслов»[71]. Наука о знаках – семиотика утверждает, что в языке важны не физические звуки, а отношение звуков к смыслу. В связи с этим вводятся два понятия: означающее (как сказал) и означаемое (что сказал). Между ними возникает зазор, куда устремляется ложь, как говорил Сартр. Два человека могут совершенно по-разному понять один и тот же текст. Например, жена мужу говорит: «Ты купил зеленый виноград». Она имеет в виду, что он незрелый. Муж, улавливая недовольство в ее голосе, отвечает: «Ты же сама просила зеленый, а не черный». У слова «зеленый» в данном примере два совершенно разных смысла. И таких примеров в языке масса. Не удивительно, что ХХ век прошел под девизом: «Важен не текст, а контекст».
В зависимости от контекста ситуации субъект обращается либо к его концепту, либо к детонату. Этот дуализм порождает коммуникативные барьеры. Например, выражение «съел три тарелки». Если обратиться к слову «тарелка», то «съесть три тарелки» означает съесть сами тарелки. А если обратиться к контексту (человек сидел в кафе и съел три тарелки), то смысл совершенно другой: человек не тарелки ел, а блюдо на трех тарелках.
С точки зрения семиотики, количество слов в языке намного меньше количества смыслов, которые они несут. При патологии нарушается процесс смыслообразования: человек либо неверно определяет смысл обращенных к нему слов, либо наделяет одним и тем же смыслом все слова подряд. «Сквозь ложь истолкования судьба ожидает, что вырастит из его посевов», – писал Хайдеггер. Как известно, неверное истолкование Отелло причины пропажи платка Дездемоны привело его к убийству своей жены.
По мнению Руднева, путаница со смыслами объясняет склонность гомо сапиенс к шизофрении. Он пишет: «Лотман впервые и с очевидной ясностью показал, в общем, достаточно тривиальную, но никем ни до, ни после него так смело не проговариваемую вещь, что общение, понимание не сводятся к простой передаче сигнала от одного сознания к другому, что сигнал полученный не тождествен сигналу отправленному и что, более того, он и не должен быть ему тождествен[72].
Полиморфность текста порождает метатекстовость и множественность смыслов. Язык сам вырабатывает психопатологию. Онтологическое расхождение между означающим и означаемым позволяет сформировать другую реальность. Происходит подлог, подделка обман. Тот же Отелло нарисовал себе ложную реальность, в которой его жена изменяет ему с Кассио. Депрессивный человек живет в реальности, где он великий грешник и достоин наказания. Зачастую чувство вины, например за потерю любви матери, переносится позже на все дальнейшие его отношения с людьми.
Депрессия репродуцируется при помощи чисто языковых механизмов отождествления и переноса. Когда от мужчины уходит женщина, в его мозгу всплывает картинка из детства, когда его оставляла мама. Человек автоматически переносит чувство утраты с матери на возлюбленную. Он переживает это чувство гораздо острее и болезненнее именно потому, что оно связано смыслом с прошлыми переживаниями.
В работе Фрейда «Анализ фобии пятилетнего мальчика» описан классический пример переноса. Пятилетний мальчик боялся лошадей. Его отец привел мальчика к Фрейду, чтобы тот избавил ребенка от этого страха. Фрейд в процессе психоанализа установил, что на самом деле мальчик боялся отца, но перенес свой страх на лошадей, т. к. это было более безопасно для него. Значит, в его голове смысл «отец опасен» заменился на ложный смысл: «лошадь опасна». Такие переносы у травмированных людей отмечаются сплошь и рядом. В момент изнасилования отцом пятилетняя девочка заменяет смысл «отец опасен» на смысл «папа так меня любит». И живет потом всю жизнь, руководствуясь ложным смыслом, что насильник ее любит. Она их находит многократно, как будто опыт ее ничему не учит. Тот же механизм у стокгольмского синдрома.
Ложный смысл попадает к человеку, как правило, в раннем детстве. Почему именно в детстве? До семи лет кора головного мозга у ребенка не развита, поэтому в момент травмы «включить логику» ребенок не может. Он руководствуется исключительно инстинктом выживания, который подсказывает ему, что без отца (матери) ему не выжить. Поэтому рождается ложный смысл, который спасает ребенка от распада личности.
В исследованиях английского психиатра 1990-х годов Тимоти Кроу высказана мысль о том, что человек «просто создан» для шизофрении именно в силу межполушарной асимметрии его мозга и уникального конвенционального языка, свойственного только людям[73]. Ген шизофрении и ген языка – один и тот же ген. С его точки зрения, «все мы немного шизофреники». Гипотеза спорная, однако вся поэзия – сплошные перевернутые смыслы. В метафорах и сравнениях нет логики. «Крокодил солнце в небе проглотил».
Таким образом, с точки зрения философии, причина психических заболеваний – ложь истолкования. Принцип реальности блокируется в пользу принципа адаптации. Мы придумываем себе более безопасную реальность, и когда она нас не устраивает, ищем другие смыслы. Современный человек движется от себя к себе. Он нуждается в осмыслении своего бытия. Собственно, в этом заключается смысл его жизни. Депрессия – это состояние поиска новых смыслов, поскольку старые не принесли нам счастья. «Депрессия, – пишет Руднев, – это всегда инициация. Это временная смерть на пути к новой жизни, пустота, чреватая новыми смыслами»[74].
Суицид
Разбирая механизм развития депрессии, нельзя обойти такую тему, как суицид. Как известно, в 10–15 процентах случаев депрессия заканчивается совершённым суицидом[75].
Самоуби́йство, суици́д (от лат. sui caedere «убивать себя») известно человечеству с древности. Греки считали самоубийство «естественным» и подходящим выходом из сомнительной и нестабильной ситуации. «Если зло нас угнетает, решение простое – уходи! Все, что от нас требуется – это обосновать причины своего ухода из жизни и уйти с достоинством»[76].
Так, Кодрус пожертвовал собой ради Афин, Менес бросился на меч, чтобы спасти Фивы, Клеомен, потерпев неудачу в заговоре против Птолемея IV, покончил с собой, предпочтя смерть унижению.
Множество философов сами положили конец своим дням. Пифагор предпочел скорее умереть, чем пройти по священному полю фасоли. Эмпедокл бросился в Этну, Демокрит уморил себя голодом в сто девять лет, посчитав, что нести такой возраст – значит посягать на свои интеллектуальные способности. Аристотель утопился, отчаявшись найти объяснение морским приливам и отливам (нам бы его заботы)[77].
Первое литературное упоминание самоубийства мы находим у Гомера – это самоубийство Иокасты, матери Эдипа. Во время своего путешествия в подводный мир Одиссей увидел несчастную женщину, которая по незнанию сотворила ужасный грех, сочетавшись браком с собственным сыном. Здесь налицо самоубийство в результате поруганной чести.
Эпикур считал, что избавление от страха смерти открывает путь к счастью. Жизнь, с его точки зрения, составляет не повинность, а право, от которого всякий волен отказаться. «Вход в жизнь один, – говорили эпикурейцы, – но выходов несколько». И основали в Александрии общество прекращения жизни.
«Vivere est militare[78]», – говорил Сенека. Уход с поля этой битвы очень часто вызывается жалостью к себе, которую глубокий мыслитель Марк Аврелий называет «самым презренным видом малодушия», причем человек самовольно гасит в себе огонек жизни, могущий согревать других.
В эпоху христианства самоубийство считалось тяжким грехом. Самоубийц не отпевали и не хоронили на кладбище. Имущество самоубийц отторгалось в пользу государства. До XVII века попытка самоубийства каралась смертью. С XVIII века самоубийц считали умалишенными. С XIX века в суициде стали видеть причины, от человека не зависящие[79].
Бойко И. Б. в книге «Самоубийство и его предупреждение» подводит исторический итог этой теме:
Пифагор: самоубийство нарушало духовную математику, т. к. внезапно образовывало брешь в мире.
Аристотель: самоубийство против государства.
Платон: человек – слуга бога. Самоубийство – дезертирство.
Юнг: самоубийство не преступление.
Спиноза: внимание к причинам.
Шопенгауэр: суицид не отрицание, а наоборот, воление к жизни, но не удовлетворенное условиями, а потому представляет собой несвободу.
Бердяев: можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству.
Я бы сюда добавила популярную нынче фразу: «Жизнь – война. Суицид – дезертирство».
Французский социолог Э. Дюркгейм обвинил в самоубийствах общество. Как нежизнеспособна клетка отдельно от организма, так и человек нежизнеспособен в отрыве от общества. «В этом и заключается механизм самоубийства – это функция не индивидуальной воли, а целостного общественного организма»[80].
С точки зрения Гегеля, смерть Христа, подобно смерти Сократа, – это гибель человека, придавшего смысл смерти. Самоубийство у Гегеля – радикальное выражение абсолютной свободы. «Чтобы стать богом, человек должен стать Христом, а значит, умереть, этим преодолевая смерть»[81]. Гегель явно идеализировал самоубийство. Достоевский, наоборот, его по-христиански принижает. У Достоевского самоубийство – это не возвращение в лоно матери природы, это убийство матери. Для Достоевского самоубийство – это жизнь без бога. Ницше, будучи ярым противником церкви, верил в возможность преодолеть трагедию смерти бога в сверхчеловечестве. Его взгляд совпадает со взглядом не Достоевского, а Кириллова из «Бесов».
Самоубийство – это разрыв с общим: или с социумом, или с Богом. То есть, на мой взгляд, человек, совершая самоубийство, заявляет о своей индивидуальности. В жизни он жил по чужим законам, и лишь совершая самоубийство, может заявить о своем «Я». Может быть, именно поэтому Руссо говорил, что человек имеет право на добровольный уход, потому что у него других то прав и нет.
В настоящее время тема самоубийства является одной из социально важных тем. Как свидетельствуют данные ВОЗ, самоубийства ежегодно уносят больше жизней, чем убийства или военные действия. В последние годы они обогнали по уровню смертности ВИЧ/СПИД, рак груди и малярию. Суицид входит в топ-5 причин смерти среди молодежи (15–29 лет), уступая лишь ДТП, туберкулезу и межличностному насилию[82].
Ефремов В. С. в книге «Основы суицидологии» приводит следующие цифры. Ежедневно в мире совершают самоубийства три тысячи человек, а ежегодно – около 1 миллиона человек (1,5 % всех смертей). В 2019 году в России было зарегистрировано 25 смертей на 100 тыс. населения. Мужчины совершают самоубийство в 4 раза чаще, чем женщины (хотя женщины совершают в 4 раза больше попыток самоубийства). Почти в 90 процентах случаев в основе суицида лежит психическая патология (депрессии, алкоголизм, психопатия). Среди шизофреников попытки суицида встречаются в 50 процентов случаев. Чаще они травятся своими препаратами. Во всем мире самоубийство входит в тройку основных причин смерти среди людей в возрасте 15–44 лет. Попытки самоубийства происходят в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства.
Тема суицида табуирована в нашей стране, особенно что касается подросткового суицида. По нему Россия стоит на первом месте в мире. Вот что говорил Уполномоченный по правам ребенка П. Астахов (годы деятельности в должности: 2009–2016): «Государство держит в секрете точное количество самоубийств. Некоторые регистрируются как несчастные случаи. Если мы не решим корни этой проблемы, то потеряем целое поколение. Шесть подростков совершили суицид за десять дней. Это не эпидемия самоубийств. Это государственная трагедия»[83].
Высокий процент подростковых суицидов вполне объясним неспособностью молодого организма переживать боль. «Смерть вследствие самоубийства, – пишет Шнейдман, – является бегством от боли». Сама по себе душевная боль не является смертельной. Но очень соблазнительной является мысль: «Я могу прекратить эту боль; я могу покончить с собой»[84]. Получается, не сама боль толкает на самоубийство, а невозможность ее перенести. Если у человека нет опыта преодоления трудностей, если он их избегал по жизни, у него выше риск суицида.
Душевную боль создают чувства стыда, вины, страха, тревоги, одиночества, боязни старения или мучительной смерти. Но наиболее суицидогенное значение имеют чувства безнадежности и беспомощности.
«Большинство суицидов случаются в первые три года после постановки диагноза или после госпитализации»[85]. Почему? Почему даже после постановки онкологического диагноза суицидов почти нет, а после посещения психиатра они очень часты? Мне кажется, именно потому, что вся психиатрическая служба не убирает, а напротив, усиливает чувство безнадежности. Стоит человеку попасть в психиатрическую больницу, посмотреть на этих «полуовощей», которые там ходят по коридору, услышать визги и крики буйных, увидеть, как их скручивают и пичкают лекарствами, так в голове возникает только одна мысль: «И я такой же буду».
Человек не видит примеров выздоровления от депрессии. Напротив, все вокруг говорят о пожизненном приеме лекарств, о периодических госпитализациях, о побочках и в целом о прогрессировании, а не излечении. Получается, что помощи нет. Ты постепенно превратишься в идиота. Это и толкает человека на самоубийство. Но это, пожалуй, толчок, но не причина.
Психоаналитики смотрят глубже. «Кто кончает с собой, тот мог бы при другом раскладе прикончить другого: самоубийство и убийство в родстве», – пишет Эмиль Чоран[86]. Уголовные антропологи считают, что самоубийство и убийство вытекают из одного и того же психологического и физического источника, представляя известный параллелизм[87]. Шнейдман, ссылаясь на Вильгельма Штекеля, говорит о «стремлении к собственной смерти как отражения желания смерти другого, то есть враждебности, обращенной на себя – то, что я называл убийством, повернутым на 180°»[88].
Говоря упрощенно, человек хотел бы убить кого-то другого (мать), но не решается и убивает себя. Однажды я прочитала в газете заметку о том, как молодой человек забил свою мать до смерти. Он бил ее металлической трубой и кричал: «Покайся!» На что мать в ужасе кричала в ответ: «За что? За что?» Он так и убил ее, не получив ее покаяния. Она так и не поняла, что сломала ему жизнь, а он не понял, что она «не ведала, что творила». Но, по крайне мере, он не убил себя, хотя и сел в тюрьму за убийство.
Большинство людей, решившихся на суицид, не осознают, что на самом деле хотят убить, а не быть убитым. А если еще глубже, они хотят свободы, которой были долгие годы лишены. Для них суицид – прыжок в пропасть, дающий свободу. «Суицидант является хозяином ситуации, даже если при этом он должен умереть»[89]. Другими словами, у человека есть только одна возможность сделать по-своему – убить себя. Здесь он сам принимает решение, и у него есть иллюзия, что теперь-то он «не тварь дрожащая, а право имеет»; что, покончив с собой, он покончит и с неуважением, перестанет быть ничтожеством и, наконец, обретет вес.
У самоубийства корни в детстве. «Он стал убивать себя задолго до самоубийства», – пишет Ефремов. Его агрессия, которая в норме должна была бы быть направленной на насильника, направляется на себя самого и медленно убивает. В таких случаях суицид – следствие психической патологии, которая долгие годы подтачивала организм и в один непрекрасный день, с точки зрения П. Г. Розанова, у суицидента «возникает состояние аффективно суженного сознания, при котором отсутствует “борьба противоположных представлений” и даже исчезает страх смерти»[90].
Смысл суицида, по мнению Ефремова[91]:
– призыв или крик о помощи;
– отказ от жизни;
– протест;
– месть;
– стремление к избежанию наказания;
– суицид – самонаказание.
У человека преобладают чувства отчаяния, безвыходности, вины, безнадежности, убеждение в неизлечимости, чувство греха, преступления.
Философы видят в самоубийстве потерю смысла. Человек через смысл скреплен с бытием. Утрата смыслового ядра личности выбивает у него почву из-под ног и зачастую приводит к самоубийству. Гамма чувств при этом может быть самой разной: от вины и стыда до ненависти и мести.
Э. Шнейдман, ссылась на К. Меннингера, считает, что «для того, чтобы совершить самоубийство, необходимо одновременное присутствие: а) желания убить; б) желания быть убитым и в) желания умереть. В этом случае суицид становится почти неотвратимой реальностью»[92]. Как известно, большинство стрелков в школе после совершения преступления убивают и себя.
Я считаю, что желание убить и желание творить имеют один источник – сильное либидо (жизненная энергия). Человек решается на самоубийство, просто не зная, насколько он одарен и пришел в этот мир творить. Насилие окружающих «переводит стрелки» его жизненной энергии с творческого пути на путь убийства. Человек, испытывая сильный гнев, хотел бы убить насильника, но не решается и убивает себя.
Знать про этот перенос, а особенно знать про свою одаренность, которая не нашла правильное русло и вылилась в желание смерти – это предотвратить суицид. К этому знанию относится и то, что антисуицидальный эффект антидепрессантов не доказан[93]. Поэтому их прием не лечит депрессию. Это надо просто знать и искать другие пути. Они существуют. Об этом будет ниже.
Глава 3. Травма
Нарциссическая травма
Когда и каким образом человек теряет истинный смысл и приобретает ложный? На мой взгляд, это происходит «вдруг» в психической травме. О том, что причина психической патологии кроется в детских переживаниях, писали практически все психоаналитики. Еще Фрейд в работе «Исследование истерии» пишет, что «при травматическом неврозе причиной болезни является не ничтожная физическая травма, а сам испуг, травма психическая»[94]. Травма, как инородное тело, как заноза, проникнув, остается навсегда.
Юнг в 1907 году в работе «Психоз и его содержание» обосновывает факт, что все тяжелые психические заболевания строго (!!) детерминированы предшествующими переживаниями пациента[95]. О том же пишет Решетников: «Детская сексуальная травма – главный пусковой механизм психической патологии. Семьдесят процентов моих пациентов имели сексуальную травму»[96].
Позже о травме как причине патологии писали Ш. Ференци, К. Юнг, А. Миллер, Калшид и, возможно, еще пара десятков исследователей, которых я еще не успела прочесть. Однако тут надо, на мой взгляд, развести два типа травмы: ту, что случилась в раннем детском возрасте (до семи лет) и ту, что случилась, когда личность уже сформировалась (например, после подросткового возраста). Разница тут существенная, так как первый вид травмы ломает человеку личностное развитие, наподобие того, как костный туберкулез «ломает» спину человеку и превращает его в уродливого горбуна. Так же и травма в очень раннем возрасте ломает «психологический позвоночник» человека, а именно веру в себя; человек перестает идти своей дорогой, начинает приспосабливаться к окружению, искривляя линию свой жизни. Травма как бы переводит стрелки жизненной программы с «живи» на «умри». И тут возможны варианты от аутоиммунного заболевания и рака до депрессии и суицида.
Второй вид травмы, на мой взгляд, все-таки легче для организма, так как у взрослой личности больше арсенала для осознавания произошедшего. Этот вариант больше укладывается в понятие ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), в то время как первый вариант в ПТСР не укладывается. Об этом писал Ван дер Колк в книге «Тело помнит все». Он и его команда предлагали ввести в ДСМ даже специальный термин для ранней травмы – Травматическое расстройство развития (Developmental Trauma Disorder), поскольку дети, перенесшие раннюю травму, получают в дальнейшем от трех до восьми разных психиатрических диагнозов, в то время как причина одна – психическая травма[97].
В этой книге я буду говорить только о первом типе травмы, так как в моей семье есть реальные примеры этого типа травмы. Я имею и опыт ее проживания, и знания о ней, полученные из книг.
Опять же, на мой взгляд (по крайней мере, я не встречала такое видение в книгах), первый тип травмы можно разделить на три вида: нарциссическая травма, перинатальная травма и трансгенерационная травма. Все три вида травмы встречаются до семи лет. О нарциссической травме есть довольно много информации, в то время как о перинатальной почти ничего. О трансгенерационной травме стали говорить только последние двадцать лет. Поэтому мой опыт, возможно, внесет толику пользы в рассмотрение этого вопроса.
Итак, я начну с нарциссической травмы, которую я получила в шесть лет. Подытоживая то, о чем я говорила в первой главе, можно сказать, что до шести лет я жила условно нормальной жизнью. Моя мать, хотя и была не очень хорошей матерью, все-таки худо-бедно заботилась обо мне. Однако ее постоянные упреки в мой адрес подтачивали мою самооценку и заставляли подавлять агрессию. Все, что я помню из раннего детства, это то, что я была очень любознательной, открытой и доброй девочкой. У меня была превосходная память и артистические способности. Уже с трех лет я любила, встав на стульчик, декламировать стишки Чуковского, чем умиляла публику – всех, кроме моей матери. Ее почему-то «выбешивали» эти выступления, и она срывала злость на мне, наказывая за невинные проступки.
Об истории, которая произошла в три-четыре года в деревне, я писала в первой главе. Там я проявила не только эмпатию, но и ясновидение. Я «ясно увидела», что девушка Нина обделена вниманием и ей очень больно от этого. Эту боль я остро почувствовала и бросилась ее спасать. Это говорит о том, что от природы я была очень чуткой девочкой с открытым сердцем и чистой душой. И вот эта «чистота-то» меня и сгубила.
Замечали ли вы, как часто на только что побеленной стене дома вдруг кто-то черной краской пишет ругательство? Как будто эта чистота кому-то покоя не дает, и он старается ее замарать. То же произошло и со мной. Мою «белую стену» испачкала черной краской травма.
Это была весна, апрель месяц. Моя мать сидела дома с моей годовалой сестрой. Отца дома не было, наверное, был на работе. Я не помню, что явилось триггером. Но как-то интуитивно (и в моих снах это было), мне кажется, что мать откровенно чем-то поделилась со мной. Возможно, какой-то своей болью. Она как-то очень близко и доверительно ко мне отнеслась. Поскольку по природе она была холодной и неприступной, то такое поведение меня, ошарашило и обрадовало: ко мне отнеслись как к человеку! Да еще и вызывающему доверие! Я ей тоже открыто, с любовью сказала: «Ты очень хорошая! Я люблю тебя!» И всё! Мать переклинило, и она мне сказанула какую-то гадость, от которой у меня резко заболел живот. У меня, по-видимому, не хватило слов и логики понять: за что? Я к ней с любовью, а в ответ – грязь.
Такое отношение у взрослого человека рождает злость и желание прояснить, в чем дело. У шестилетнего ребенка не хватило опыта (его кора еще не созрела для этого), чтобы по-взрослому задать вопрос: «Что происходит?» Ребенок впал в ступор и вместо злости у него схватило живот. Как педиатр, я знаю, что боли в животе у детей – это чисто эмоциональная реакция на внешний наезд. Но моя мать не была педиатром. Она и врачом-то по-настоящему не была. В мединституте она училась санитарному делу, а оперировать ее научили за месяц в Чите. Мой крик от боли в животе вызвал у нее панику. Она пыталась дать мне таблетку, ждала, что все пройдет. Но за час боль не прошла, и мать вызывает неотложку. Но везет меня не в детскую больницу, как надо было, а к себе в гинекологию во взрослую больницу, где она на тот момент работала.
Много позже на вопрос психотерапевта, почему я сочла, что мать хочет меня убить, я привела как доказательство это ее решение. Зачем она повезла меня к себе в больницу? Что на самом деле она хотела у меня отрезать? Не яичники ли?
В больнице она заразила своей паникой врачей, стала уверять их, что у меня перитонит и срочно надо оперировать, времени везти в детскую больницу нет. Дело в том, что по закону врачи были обязаны отправить меня в детскую больницу, так как дети – не их специализация. Однако мать, вероятно, приврала, что боль длится не час, а три. Кроме того, есть закон, что если больной при смерти, то оперировать должен любой врач, даже не хирург. Терять в такой ситуации нечего. Я не умирала в реальности, но мать или запугала врачей ответственностью, или они ей, как коллеге, доверились, но спорить не стали и взяли меня на операцию.
Много позже, когда я училась в мединституте, я на курсе по детской хирургии узнала, что в моем случае хирурги нарушили все правила ведения ребенка. Меня не усыпили в палате, как это положено, поэтому от белых стен операционной, от этих блестящих ножей и инструментов, от людей в масках, похожих на монстров, у шестилетнего ребенка просто снесло «крышу». И потом. Они не сделали даже анализа крови, не выждали два часа, как это положено в детской практике, т. к. у детей в 99 процентов случаев после двух часов наблюдения все проходит. В общем, разрезали меня зря. Никакого перитонита и даже аппендицита хирурги не нашли. Но мать и в дальнейшем по жизни продолжала уверять, что у меня был перитонит. Я уже с двадцати лет знала, что это ложь.
Но главное в этом моем ужасе даже была не операционная. Главное – было ощущение насилия со стороны хирургов. Две медсестры и два хирурга пытались справиться с пинающимся ребенком. Я орала как оглашенная, вырывалась из рук и хотела убежать. Двое медсестер меня держали, зажав руки и ноги, а двое мужчин снимали кофточку, юбочку, трусики. Для шестилетнего ребенка стыд от такого публичного раздевания был сродни стыду от изнасилования. Они раздели меня догола, положили на операционный стол и привязали веревками к столу. Для маленького ребенка это означало только одно: меня хотят убить. Но и это еще не все. Дело в том, что моя мать стояла в дверях операционной все это время и смотрела на экзекуцию. Я орала ей: «Мама, забери меня отсюда! У меня ничего не болит!» Но в ответ… тишина. Более того, когда мне наложили маску с эфирным наркозом, я своим уже затуманенным взглядом успела увидеть, как она облегченно вздохнула и вышла из операционной. В моем угасающем мозгу мелькнула мысль: «Моя мать была рада! Она этого хотела! Она хотела меня убить. Это она – убийца!»
Я так подробно описываю эту ситуацию, потому что сплошь и рядом встречаю информацию о том, что дети часто рассказывают взрослым о насилии в их адрес, но те им не верят, считают их слова фантазиями. Мой рассказ не оставляет сомнений в том, что вся эта ситуация была откровенным насилием над душой ребенка. Это была настоящая психическая травма, последствия которой я разгребала всю жизнь. Единственное, что долго оставалось неясным, была ли это просто врачебная ошибка или это было реальное желание матери меня убить. Я сама как врач делала ошибки, и любой врач совершает ошибки. У нас даже есть выражение, что за плечами каждого врача свое кладбище. Мы действительно ошибаемся, и иногда фатально для пациента. Поэтому вопрос, была ли мать виновной в моей травме, долго оставался открытым. Ответ на него я получила только через тридцать восемь лет.
Почему так долго? Потому что когда я проснулась после наркоза, всё, что случилось в операционной, исчезло из памяти. Я обнаружила себя в палате с бинтовой повязкой на животе. Пришла мать и с улыбкой спросила: «Ну как ты себя чувствуешь, Ирочка?» Я равнодушно ответила: «Хорошо». Ни радости, ни горя я не чувствовала. Меня даже мало интересовало, как я тут очутилась. Мать рассказала, что у меня заболел живот, и мне сделали операцию. Что-то смутно мелькнуло в памяти и пропало. Я равнодушно смотрела на людей в палате, на голые ветки за окном. Боли я не чувствовала, и желаний у меня никаких не было. Что воля, что неволя – всё равно. Единственное, что я хорошо помню, так это то, что после операции я стала упускать мочу, причем не только ночью, но и днем. Я ходила в магазин за хлебом, и у меня по ногам текла моча. Окружающие показывали на меня пальцем, и мне было очень стыдно.
Я стала шарахаться от легкого шума, плохо спать по ночам, у меня пропала моя замечательная память, я стала худеть и превратилась в скелет. Моя мать, наверное, поняла, что это последствие операции, и чтобы никто ничего не заметил, перестала водить меня в детский сад, где бы, конечно, заметили перемену и забили бы тревогу. Она держала меня дома. Полгода я просидела под замком, а осенью пошла в школу, где меня прежнюю никто не знал, а значит, просто принимали мою «забитость», как будто так оно и надо.
Потекли годы и десятилетия депрессивной жизни. Я напрочь забыла и операцию, и то, какой я была до операции. Я жила в новой реальности, в которой нормой было получать унижение, быть ковриком для ног, а также считалось обычным делом уступить, отступить и отдать, а вот что-то взять было нельзя. Поэтому ничего удивительного, что в сорок лет у меня нашли тяжелую дисплазию шейки матки, которая считается предраковым заболеванием, и предложили операцию. Как врач, к тому же гомеопат, я знала, что рак – он не в матке, он в голове. И пошла не к хирургам, а к психотерапевту. Своего нашла не сразу. Только в сорок пять я попала к настоящему профессионалу, который и был моим проводником до выздоровления. Подробнее о его подходе я напишу ниже, а пока остановлюсь на особенностях механизма психической травмы и на том, как он влияет на личностное развитие.
Травму, подобно моей, психологи называют нарциссической, потому что она случается в возрасте с трех до семи, когда ребенок влюблен в самого себя. И эта влюбленность помогает ему не принимать близко к сердцу критику окружающих. У ребенка еще не развита логика, чтобы он мог за себя постоять и опровергать аргументы взрослых. Поэтому вера в себя – основа его детского всемогущества, формирует у него некий здоровый «пофигизм». И вот если в этот период ребенок встречается с каким-то очень сильным потрясением, которое его незрелая психика не может «переварить», подключается механизм, который я называю «назло маме отморожу уши». Психика начинает себя разрушать, чтобы не быть разрушенной родителем.
Надо сразу сказать, что в нашей культуре тема родительской агрессии табуирована. Даже в сказках мы не увидим злой матери. Вместо нее фигурирует злая мачеха. Мать в нашей христианской культуре – символ чистоты, добра и заботы. «Мать – это святое!». Но статистика говорит, к сожалению, об огромном количестве случаев насилия родителей над детьми. «С 2001 года гораздо больше американцев погибли от рук своих родителей или других членов семьи, чем в войнах в Ираке и Афганистане»[98]. Восемьдесят один процент пациентов, которым было диагностировано ПРЛ (пограничное расстройство личности) в Кембриджской больнице, сообщили о жестоком/пренебрежительном отношении в детстве.
«Описание переживаний травматичных событий встречается в историях большинства пациентов с серьезными психическими заболеваниями (шизофрения, биполярное психотическое расстройство)», – пишет Ван дер Харт в книге «Призраки прошлого»[99]. И, несмотря на многочисленные факты насилия над детьми, которые приводят впоследствии к тяжелым психическим заболеваниям, американский психоаналитик Р. Столороу пишет, что тема насилия над детьми «стала рассматриваться психоаналитиками сравнительно недавно». Это было написано в 2016 году![100] Значит, ученые только в XXI веке, наконец, обратили внимание на тему насилия над детьми.
Проблема еще в том, что взрослый человек не относится серьезно к своим детским травмам. Вот мой случай вроде очевидный, но случаются менее очевидные случаи: ребенок потерялся в супермаркете; его заперли одного спящего в доме, а он проснулся и испугался; его покусала собака; мать ребенка, будучи беременной, подверглась нападению, и ее страх «подхватил» ребенок; ребенок тонул, но его вытащили и т. д. Взрослый человек, оглядываясь на свое детство, старается вспомнить только хорошее, а огорчениям и горю не придавать значения. Я недавно прочитала отзывы на книгу Ван дер Колка «Тело помнит все». И каково же было мое удивление узнать, что многие люди обвиняют автора в излишнем упоре на детские травмы. Вроде как он преувеличивает их значимость, что у большинства людей никаких травм в детстве нет. Это напоминает мне анекдот о том, что «здоровых людей нет, есть недообследованные».
Так вот, я глубоко убеждена, что если биографию человека покопать достаточно глубоко, то травмы обязательно найдутся. Правда, чтобы травма переросла в психическую патологию, необходимо еще, чтобы ребенок имел чувствительную нервную систему. Есть среди детей счастливчики «толстокожие», которые даже угрозу смерти сумеют «переварить». А есть дети, которых и взгляд злобной старухи может выбить из колеи.
Еще один фактор в закреплении травмы – это близкое окружение ребенка. Достаточно хорошая мать поможет залечить даже самую тяжелую травму. Хорошо известен опыт четы Шефф, которые взяли из психбольницы двадцать молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с самыми тяжелыми диагнозами (шизофрения, маниакально депрессивный психоз, психопатия и т. д.). Они всех усыновили и в течение десяти лет о них заботились, как о родных детях. В результате абсолютное большинство из этих «детей» больше никогда не попадали к психиатрам. Любовь творит чудеса.
У меня сейчас на лечении находится девочка восьми лет с эпилепсией. Заболела она этим заболеванием в шесть лет, ко мне попала в восемь. Я три месяца выспрашивала у матери, что могло стать пусковым моментом эпилепсии. Мать ничего не могла вспомнить. К счастью, сама девочка мне рассказала, что однажды мать закрыла ее спящей в машине и ушла в магазин. Были сумерки, и неожиданно включилась сигнализация. Машина начала громко «реветь» и сверкать огнями. Ребенок проснулся и обмер от страха, пытался вылезти, но машина закрыта, и он привязан к креслу. Можно себе представить, о чем подумал шестилетний ребенок в темноте среди сверкающих фар и громкой сирены. Через пять минут прибежала мать, успокоила ребенка и… напрочь забыла об этой ситуации. Через две недели у девочки начались приступы сильных болей в животе, а еще через месяц появились приступы с потерей сознания. Никто из неврологов особо не копал, что там могло эти приступы спровоцировать, но для меня самым удивительным была «амнезия» матери. Вместо того, чтобы проговорить с ребенком эту ситуацию, может даже повиниться за нее, она просто вытеснила ее. А все, что не проговаривают родители, дети берут на свой счет. И вот уже девочка уверена, что это она виновата в своей болезни. И любой упрек в ее адрес со стороны матери или учителей вызывает приступ. Здесь налицо пусть и не самая ужасная психическая травма, но не нашедшая «контейнера» в виде матери.
И, возможно, еще один фактор важен в развитии последствий психической травмы – это трансгенерационная передача травмы через поколения. На мой взгляд, вероятность развития тяжелой депрессии возрастает, если острая психическая травма «цепанет» психическую травму рода. Тогда излечение от самой травмы будет крайне затруднительно, так как причина не в самой травме ребенка, а в травме рода. Подробнее о механизме см. раздел «Трансгенерационная травма».
Таким образом, для развития во взрослом возрасте, например тяжелой депрессии, в абсолютно большинстве случаев у чувствительного человека в детстве должно было случиться событие, которое:
А – было абсолютно новым и неизвестным, что и потрясло.
Б – возникло неожиданно, ребенок к нему не был готов.
В – рядом не оказалось взрослого, который бы помог ребенку.
Г – о нем быстро забыли или некому было о нем рассказать.
Д – оно обязательно связано с угрозой смерти. Это не значит, что ребенка реально убивали, а значит, что ребенок придал событию этот смысл. Как писал Фрейд, к патологии приводит не само событие, а тот ужасающий смысл, которым оно наделяется.
Е – оно, возможно, связано с травмой рода.
В результате травматичным является неспособность индивида постичь то, что с ним случилось. После травмы у человека меняются базисные убеждения о доброжелательности окружающего мира, о его справедливости, а также о ценности и значимости собственного «Я». «В одночасье индивид сталкивается с ужасом, порождаемым окружающим миром, <…> существовавшая ранее уверенность в собственной защищенности и неуязвимости оказывается иллюзией, повергающей личность в состояние дезинтеграции»[101].
Другими словами, травма рушит ребенку представление о себе: он вовсе не всемогущ, он ничтожен, а мир вовсе не добр к нему, мир опасен. Ребенок понимает, что он абсолютно один, и никто ему не поможет. В такой момент ребенок, подобно ящерице, «отбрасывает хвост». В качестве «хвоста» выступает кора головного мозга. На физиологическом уровне рвутся связи подкорки с корой. Кора полностью отключается вместе с речевым центром[102].
Информация о мире, минуя кору, передается в лимбическую систему, которая отвечает за инстинкты. Амигдала в ответ на угрозу посылает сигналы гипоталамусу на выделение гормонов стресса. Обратная связь рушится, поэтому уровень гормонов стресса не снижается, они постоянно присутствуют в крови в огромных количествах[103].
Одновременно в кровь выбрасывается огромное количество нейропептидов (опиатов), поскольку психическая боль сродни физической, и нейропептиды призваны ее уменьшить. Большое количество опиатов, подобно дозе ЛСД, мгновенно расширяют сознание, образуя новые нейронные связи, а с ними и новое видение ситуации[104]. И это видение меняет систему ценностей, формирует новые ложные смыслы. Ребенок смысл «я – хороший» меняет на смысл «я – урод» (дурак, чудовище, грязнуля и т. п.).
Описанные физиологические механизмы хорошо изучены и не вызывают особых разногласий, чего не скажешь об описании психологических механизмов травмы. Здесь, за неимением приборов, психологи полагаются больше на свою интуицию, а значит, точек зрения существует много. Фрейд и Юнг, например, считали, что аффект (ужас) уходит в глубину подсознания и отделяется от памяти о нем. Их связь заблокирована, и этот блок является ядром психопатологии. Лечение – это высвобождение аффекта. Я действительно вспомнила детали своей травмы во время психотерапии.
Так же думает и А. Лоуэн. С его точки зрения, агрессия, которая первоначально выделяется в ответ на ситуацию, мгновенно блокируется страхом потерять родителя и поворачивается против самости самого ребенка. Лечением является высвобождение агрессии.
С точки зрения представителей гештальт-подхода, «травма – это незавершенное действие». В момент травмы появляется напряжение, связанное с невозможностью для агрессии найти выход (например, напасть или убежать). Эта незавершенность потом преследует человека всю жизнь в виде пресловутых «граблей», на которые он постоянно наступает, чтобы, наконец, дать выход своей заблокированной агрессии, закрыть гештальт[105].
Питер Левин считает, что травма – это своего рода утрата или разрушение нормальных связей с самим собой, с собственным организмом, со своей семьей, с другими людьми и, наконец, с окружающим миром. Самое главное, что такое разрушение связей трудно заметить, поскольку оно происходит постепенно. С его точки зрения, диссоциация (разрыв ЭГО на части), возникающая в момент травмы, несет защитную функцию, поскольку стимулирует внутри организма секрецию естественных наркотиков – эндорфинов.
«При травме диссоциация, похоже, является самым предпочтительным средством, которое делает человека способным вынести и пережить то, что в данный конкретный момент могло бы стать для него невыносимым. Мы ощущаем себя поверженными, полностью лишенными надежды на помощь, обессиленными и даже неспособными пошевелиться».
Другими словами, потрясение в травме настолько велико, что ведет к распаду ЭГО, чтобы от невыносимой боли не распалась сама личность. Выброс опиатов смягчает боль, и человек все-таки худо-бедно, но проживает ситуацию травмы. Правда, мы уже не возвращаемся в свой обычный ритм жизни. Отныне мы обессилены, обездвижены и лишены надежды[106].
Д. Гротштейн называет такую «подделку личности» сделкой с дьяволом. «Они отдали свои души или тела дьяволу ради того, чтобы быть в безопасности, но при этом утратили контакт с собственной самостью»[107]. Последняя расщепляется на части, и одна из них как бы вбирает в себя образ насильника (образ отца или матери, как правило) и превращается во внутреннего критика, который постоянно ругает ребенка. Эта отщепленная часть, злая и безумная, забирает власть себе и заставляет человека покончить жизнь самоубийством. В таких случаях религиозный человек говорит, что в него вселился дьявол.
«Договор с дьяволом» имеет смысл. Вбирая в себя образ насильника и подчиняясь его убийственным приказам, ребенок превращает себя в психического урода, а родителя – в Бога. В результате ребенку приходится защищать справедливость жизни, снимая любую вину с родителей и беря ее на себя. «Дети лечат родителей, а затем ждут, чтобы их, в свою очередь, полюбили. Таким образом, родители “очистились”, а дети стали, так сказать, “жертвенным Христом”, безропотно согласившись на искупление вины за преступление, которое, как они знают, они не совершали»[108].
Фактически Гротштейн говорит о том, что ребенок в ответ на жестокость родителя «подставляет щеку». Он рушит свою психику, чтобы только сохранить этот ложный смысл, что родитель хороший и его любит. Ребенок снимает грехи с родителя, обожествляя его, и берет их все себе. Однако долго «висеть на кресте» ребенок не может, и рано или поздно наступает депрессия, которая через тяжелые симптомы безнадеги «кричит» о желании вернуть целостность, вернуть отщепленные части.
Американский психоаналитик Р. Столороу расширяет понятие травмы и травматического опыта до философского понятия бытия-к-смерти. Это состояние потери значимости, жути, в которой это бытие-к-смерти и раскрывается. «Травма подобно Бытию-к-смерти индивидуализирует нас, но делает это таким образом, который проявляется в мучительном чувстве единичности и одиночества»[109]. Мы становимся индивидами, только проходя через мучительное чувство одиночества, которое мы испытали в травме.
Д. Калшид в книге «Травма и душа» исследует механизм «пленения» души силами «потустороннего мира». С его точки зрения, в норме человек в своем развитии совершает переход от невинности к опытности. Это всегда сопровождается болезненным крушением иллюзий и страданием. Достаточно хорошая мать помогает ребенку совершить этот переход. Травма не просто прерывает этот процесс, она эквивалентна потери души и «богоданного духа, своего истинного, спонтанного Я». Наша душа (или невинность) в травме «немножко умирает», чтобы быть в безопасности. Она не проходит путь страдания (переработки травмы), чтобы стать опытом.
У самой личности ребенка не хватает сил, чтобы «переварить» травму, и тогда на помощь приходят силы из «потустороннего мира». Этот мир Калшед называет разными терминами: архетипический, трансцендентный, даймонический, мифопоэтический, мир внезапного, иррационального, неодолимого появления божественного в эмоционально-волевой жизни человека. Фактически Калшед, как и Юнг, считает, что в травме ребенок сталкивается с темной стороной «нумена», с дьяволом. Эта встреча оставляет в психике ребенка ощущение собственной скверны и последующее чувство ужаса. Если мать окажется холодной, то ужас становится хроническим, потому что травма была вызвана родителем как богом. А значит, ребенок этим богом проклят. Ощущение себя как скверны ребенок позже проносит через всю жизнь.
Его «лишенная достоинства невинность» становится одержимой демоном. Демон, он же Дит в терминологии Калшида, переворачивает все смыслы, уводит человека в ложную реальность. Он держит перед ребенком кривое зеркало, в котором отражаются только его дефекты. Выход из депрессии – это вернуть невинности (душе) достоинство, очистить ее от скверны. И это неизбежно должно идти через страдание. «Невинность должна выстрадать свой опыт и в этом смысле лишиться иллюзий»[110].
«Травма – это, как правило, внезапная и катастрофическая инициация, запредельное переживание, которое создает препятствие для дальнейшего приобретения опыта. Невинность была утрачена стремительно, жестоко, катастрофически, и ничто не может оставаться в прежнем состоянии, пока невинность не будет выведена из своего архетипического святилища в бессознательном и снова приблизится к опыту»[111]. «Немножко мертвая» невинность должна найти в себе смелость посмотреть травме в лицо, «отплакать» тяжелую правду о своих близких и закрыть эту страницу навсегда.
Таким образом, несмотря на разные подходы к травме, у разных специалистов все-таки есть нечто общее. Травма меняет судьбу. Она меняет взгляд человека на мир, делая его чрезмерно мрачным. Сам человек этого не замечает и сделать с этим ничего не может, поскольку корень травмы скрыт глубоко в подсознании, и саму травму человек, как правило, забывает. Юнг, Калшед, Гротштейн, Рикер и ряд других психоаналитиков вообще указывают на вмешательство потусторонних сил в механизм травмы. Но, как это ни парадоксально, именно потусторонние силы помогают человеку как впасть в травму, так и выйти из нее. Как говорили древние: «Выход там, где вход».
Моя нарциссическая травма изменила мою судьбу. Я прожила пятьдесят лет «под плинтусом», неким лилипутом в стране Гулливеров. В моем внутреннем мире я была «никто и звать меня никак». У меня не было прав, а у других они были. И это меня не удивляло: я проклята Богом, поэтому все правильно. И лишь депрессия заставила меня пересмотреть эту позицию. Но об этом чуть позже.
Перинатальная травма
Перинатальная травма – это травма, полученная в период от момента зачатия до двух-трехлетнего возраста ребенка. В течение этого периода ребенок находится в плотном слиянии с матерью, поэтому от поведения матери зависит в прямом смысле его физическое и психическое развитие.
Переживания еще нерожденного младенца или новорожденного не могут быть им осознаны и скрываются в так называемом «первичном бессознательном». Тем не менее они продолжают влиять на поведение, эмоции и установки человека на протяжении всей его жизни. Изучением этого периода детства начали заниматься совсем недавно. Я нашла только одну монографию врача и психолога И. В. Добрякова под названием «Перинатальная психология», изданную в 2010 году.
Он, конечно, обращается к наследию Фрейда, который в своих работах большое значение придавал внутриутробному периоду в возникновении на последующих этапах онтогенеза тревоги и невротических симптомов». Ученик Фрейда О. Ранк пошел дальше. С его точки зрения, роды – это первичная сепарация (отделение) от матери. Она вызывает ужас у младенца. Отнятие от груди – вторая травма, также усиливающая тревогу. Затем рождение брата или сестры, а позже возможная смерть близкого человека. Если все эти травмы проживаются вместе с любящей матерью, то ребенок преодолевает сепарационную тревогу и благополучно отделяется от матери. «При нарушении этого возникают бессознательные амбивалентные тенденции стремления возвращения в утробу матери и одновременно переживания ужаса перед ней, что приводит к развитию патологических состояний». То есть страх отделения от матери, если он не преодолен в первые три года, так и живет в человеке всю его жизнь, сковывая его свободу[112].
Изучением становления психики у маленьких детей занимались также Анна Фрейд и Мелани Кляйн. Последней принадлежит идея развития двух фаз психического развития у младенца: параноидно-шизоидной и депрессивной. Если ребенок не проживет ту или иную фазу, то во взрослом состоянии у него могут развиться, соответственно, либо шизофрения, либо депрессия.
Особое значение в становлении перинатальной психологии имеют работы Д. В. Винникотта. Он считал, что психическое здоровье младенца зависит от качества заботы о нем матери, прежде всего в плане снижения его сепарационной тревоги и формирования базового доверия к миру (сепарация – отделение).
Еще один важный исследователь – английский психолог и педиатр Джон Боулби убедительно показал, что для психического здоровья ребенка необходимо, чтобы его отношения с матерью приносили взаимную радость и тепло. Близость с матерью, обеспечивая безопасность, позволяет ребенку заниматься исследовательской деятельностью, обучаться, адаптироваться к новым ситуациям. Потребность в близости – это базовая потребность ребенка.
Ученица Лакана Ф. Дольто разработала метод психотактильного контакта с ребенком в утробе матери. Это работа с телом беременной женщины. Тактильный контакт, наполненный выраженными положительными эмоциями, позволяет наладить контакт с плодом и стать профилактикой осложнений беременности[113].
Также нельзя не упомянуть известного исследователя периода родов – Станислава Грофа. Экспериментируя с изменениями сознания пациентов при помощи ЛСД, голотропного дыхания, он считал, что в таком состоянии они вновь переживают травмы своего реального биологического рождения. Гроф выделял три матрицы, проходя которые ребенок получает опыт преодоления «сопротивления среды». Первая – это период внутриутробного развития, когда в норме ребенок находится в безмятежном состоянии. Вторая – начало родов. Ребенок испытывает неодолимое чувство возрастающей тревоги, связанной с надвигающейся смертельной опасностью, источник которой определить невозможно. Ребенок чувствует себя запертым в помещении без выхода, он находится в состоянии беспомощности и отчаяния. Нарушения на этой стадии приведут впоследствии к развитию депрессии с такими же симптомами безвыходности и отчаяния. Третья матрица – это развернутый период родов. Ребенок движется в родовом канале. Ситуация уже не столь безнадежна. Ребенок – активный участник процесса, который имеет определенную направленность. Если что-то случится на этой стадии, например, мать получит стимулирующий укол, то в будущем ребенок может стать гиперактивным и склонным к авантюрам, страху и агрессии.
Система «мать-дитя» функционирует приблизительно до трех лет жизни ребенка. В трехлетнем возрасте у ребенка появляется самосознание, собственные границы, и система «мать-дитя» прекращает свое существование. Однако на ее «фундаменте» впоследствии строится все «здание» психического развития. В тяжелых, психотических случаях система «мать-дитя» продолжает существовать в течение всей жизни, формируя симптомы психических заболеваний. Достаточно вспомнить фильм Хичкока «Психо». В нем, не отделившийся от матери мужчина, сошел с ума и совершил ряд убийств.
Нарушения в системе «мать-дитя» могут возникнуть как в период зачатия (пьяное зачатие, изнасилование), так и в саму беременность. Это могут быть физические заболевания матери, а также различные стрессы, такие как, например, нежелательная беременность. По статистике, в Российской Федерации до 30 % женщин вынашивают нежелательную беременность[114].
Еще один фактор, негативно влияющий на плод – это мотивы беременности. Есть положительные мотивы: желание обессмертить себя, благодарность мужчине за его любовь, беременность как творчество. Но гораздо больше негативных мотивов, таких как вынудить партнера жениться, родить для здоровья или для получения алиментов, доказать родителям, что стала взрослой и т. д.
Негативный мотив заставляет ребенка сомневаться, а нужен ли он этому миру. Сама женщина, не чувствуя в себе уверенность как в матери, создает напряжение с выбросом гормонов стресса, которые негативно влияют на синтез нейронов в коре головного мозга ребенка.
Даже если беременность желанная, женщину могут подстерегать разные другие несчастья. Недаром издревле существовали определенные требования к поведению беременной женщины в обществе. Беременным запрещали присутствовать на пожаре, похоронах, при ссорах и брани, не поощрялась их раздражительность, злобливость, взбалмошность, скандальность и упрямство – то, что ставило под угрозу благополучие будущего ребенка. И наоборот, поощрялось то, что благоприятно действует на здоровье и настроение беременной – созерцание прекрасных видов, пейзажей, маленьких детей.
Период родов в медицине, пожалуй, считается самым травматичным для ребенка. Большинство детей с ДЦП были травмированы в родах. Если у женщины внезапно в родах развилась слабость родовой деятельности, то у ребенка возникает риск не только задохнуться в родовых путях, но и получить сильный эмоциональный шок, испуг, как говорили в прошлом веке. Этот «испуг» может со временем закрепиться, и если мать окажется не очень любящей, то ребенку может грозить развитие паранойи в будущем.
Возможно, из-за страха травмировать ребенка врачи в ХХ веке стали чаще практиковать операцию «кесарево сечение». За последние десять лет в нашей стране частота операций кесарева сечения, увеличиваясь примерно на 1 % ежегодно, возросла с 10,1 % в 1995 г. до 18,4 % в 2006 г[115]. Дети, рожденные путем кесарево сечения, имеют отклонения в иммунной системе. У них чаще развиваются аллергические заболевания. С психологической точки зрения, такие дети не прошли «первичную инициацию» через рождение. Они не получили опыт победы, а значит, можно предположить, у них позже развивается инструментарий для «борьбы за существование»[116].
Послеродовый период грозит ребенку разлучением с матерью в роддоме, особенно если у него выявлены физические нарушения. Нахождение на груди матери в первые часы жизни ребенка архиважно для выхода его из родового стресса. Грудное вскармливание, запах матери и ее прикосновения запускают здоровые механизмы адаптации. Общение ребенка с грудью матери является, с точки зрения Мелани Кляйн, основой его психического развития.
Даже если младенец доношен и здоров, неправильная организация ухода за ним в раннем постнатальном периоде может создать хроническую психотравмирующую ситуацию. Мать должна не только быть заботливой и внимательной к нуждам ребенка, она должна уметь «контейнировать» его тревогу. Ребенок до трех лет не может словами высказать свои желания, и мать должна догадываться о том, что происходит с ребенком и возвращать ему свое понимание ситуации, чтобы он успокоился. Например: «Ты устал, сейчас я тебя укачаю». Или: «Ты плачешь, потому что голодный, сейчас я тебя накормлю». Такая помощь матери в понимании дискомфорта обучает ребенка не паниковать и искать выход. Это лучшая профилактика депрессии, когда он подрастет.
Таким образом, ранний период жизни ребенка требует от окружения максимального внимания, заботы и любви. Общение с матерью идет на невербальном уровне, не через слова, а через эмоции и прикосновения. Первые впечатления ребенка об окружающем мире впечатываются ему в память. Психологи называют это импринтом (следом). Как показывает практика, этот импринт потом очень трудно изменить. Поэтому так важно, чтобы у ребенка уже в первые месяцы жизни сформировалось базовое доверие к миру. А это значит, что ребенок будет открыт новому опыту, он будет идти по жизни с убеждением, что он хороший и мир хороший. Или, как говорил Эрик Берн: «Я плюс и мир плюс».
Если же травма коснется внутриутробного периода, родов и первых месяцев жизни, то существует огромный риск развития тяжелого психического заболевания, вплоть до шизофрении. На этом младенческом этапе развития мозга у некоторых людей, похоже, происходит «сбой» в программе, и тогда ребенок, который жил под девизом «Посмотрим, что там за горой» резко разворачивается к девизу «Мамочка забери меня домой». Поисковая способность и любопытство заменяется страхом.
Тяжесть заболевания определяется прежде всего невозможностью «достучаться» до человека словами. Его травма возникла до того, как появилась его речь, поэтому разговорная терапия в таких случаях неэффективна. Для таких пациентов больше подходят «материнские» способы взаимодействия: прикосновения, запахи, теплая ванна, музыка, общение с животными.
Моя дочь, которая десять лет ходила к психоаналитику и четыре года к когнитивному терапевту, на четырнадцатом году терапии свалилась в тяжелейшую депрессию. Было такое ощущение, что все эти четырнадцать лет терапии абсолютно ничего ей не дали. Сначала я решила, что она халтурила на сессиях и ходила к терапевту для проформы, но когда я все-таки откопала у нее перинатальную травму, я поняла, что «мы зашли не с той стороны». Никакие разговоры и советы изменить поведение в таких случаях не могут. Дефект кроется в глубоком недоверии ко всем людям, в том числе и к психоаналитику. У моей дочери с рождения не было базового доверия к миру, и поняла я об этом слишком поздно.
Я расскажу здесь о ее травме, так как все происходило на моих глазах, и я раскопала эту историю до корней. Кроме того, случаев перинатальной травмы описано очень мало, поэтому эта информация будет хорошей иллюстрацией ко всему выше сказанному.
Итак, начнем с того, что моя беременность дочерью была незапланированной, поэтому сразу встал вопрос: что делать? Моему сыну не было и двух лет, я только что поступила в клиническую ординатуру, и мы жили в маленькой двушке с бабушкой мужа. Вроде не время еще для второго ребенка. Я не сомневалась ни минуты, об аборте не могло быть и речи, убить живую душу я не могла. Муж, однако, настаивал на аборте. Я не собиралась его слушать и приняла решение рожать. Но я недооценила мнение его бабушки. Той было глубоко за восемьдесят. Мы недавно только забрали ее к себе в двушку. Мы поселили ее в маленькую комнату, в то время как сами втроем жили в зале. Она была почти слепой, сидела весь день в своей комнате, и с ней эту ситуацию я даже не сочла нужным обсуждать. А зря. Возможно, я бы быстрее поняла, какую змею мы пригрели на груди. Но тогда я относилась к ней как к немощной старухе, которую надо кормить, мыть и лечить.
И вот однажды, у меня уже был четвертый месяц беременности, к нам в квартиру пришла тетка с путевкой для этой бабушки в дом престарелых. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Какой дом престарелых? Откуда эта путевка? Чего ей в нашем доме не хватает? Тетка рассказала, что эта бабушка связалась письменно с работниками своей старой работы (она когда-то работала на почтамте), нажаловалась, что мы ее избиваем, морим голодом, и попросила достать путевку в дом престарелых. Там пошли навстречу и путевку нашли. Через неделю за ней придет машина.
Я предоставила решать этот вопрос мужу. Это его бабушка, она его в детстве воспитывала, пусть с ней и обсуждает. Но мой аутичный муж ничего обсуждать не стал, и бабушку через неделю увезли.
Я вроде вздохнула с облегчением: и работы мне теперь меньше, и комната освободилась. Но я не поняла главного: в доме поселилось чувство вины. Мало того, что все соседи целый год плевали нам в спину, мой муж, которого эта бабушка вырастила, повесил вину за ее отъезд на меня и на мою нерожденную дочь. Он стал кричать и злиться на меня по поводу и без, стал распахивать окна в апреле месяце, наверное, желая, чтобы я простыла и потеряла ребенка. Я сама, будучи психически нестабильным человеком, не смогла защитить дочь от его нападок и, скорей всего, даже согласилась, что да, я, видимо, плохо готовила и плохо заботилась, и надо было все-таки ее отговорить.
Беременность шла тяжело. У меня была угроза выкидыша, меня положили в больницу. Я еле доходила до восьмого месяца. Дочь родилась недоношенной и маловесной, плохо сосала, и уже с первого месяца я ввела докорм. Развивалась она с задержкой, поздно села и поздно начала ходить. Вес тоже набирала плохо. С интеллектом вроде все было неплохо, а вот с социализацией сразу пошли проблемы. В детском саду трудно заводила дружбу, часто плакала и почему-то мало играла в куклы. Но мне и в голову не могло прийти, что есть проблемы с психикой. И я, и отец о ней заботились даже больше, чем о сыне. Я водила ее во всевозможные кружки и секции. Она закончила английскую школу с серебряной медалью, семь лет училась в музыкальной школе и три года в художественной. Но все эти годы чувствовалась в ней какая-то неуверенность, робость, зависимость от чужого мнения, по-прежнему не могла легко общаться, чаще сидела в углу и молчала. Подружки вроде были, но близкой подруги не было. В принятии решений на себя не полагалась, всё на маму или папу. Я думала, что это инфантилизм, что со временем «израстется», повзрослеет. Но этого не случилось. А случилась тяжелейшая депрессия, которая заставила посмотреть на ее проблемы под другим ракурсом.
Если в нашей семье не было ни физического, ни психического насилия, то откуда такая задержка в развитии? Откуда эта депрессия с ее ненавистью к себе? И тогда я начала «раскопки». Поскольку дочь похожа на отца, я начала исследовать его род. И все уперлось в эту бабушку. Ей было десять лет, когда «красные» расстреляли ее отца. Ее мать пошла работать, а двух годовалых братьев близнецов поручила ей. Она их и вырастила, став им матерью. И где-то эта роль, как маска, приросла к ее лицу. Она решила, что она тут «мать Тереза», и все должны ей ноги мыть. Мужа своего она выгнала через год после рождения дочери. А когда у выросшей дочки родилось трое мальчиков, бабушка с пылом и жаром бросилась на помощь. Она много лет ежедневно приезжала в их дом и наводила в нем порядок. Дочь у нее была «неумеха», а вот она тут настоящая мать. Дочь все старалась доказать матери, что чего-то стоит, работает в престижной школе учителем. Но, вероятно, не доказала и в пятьдесят семь лет умерла от рака.
