Журнал «Парус» №80, 2020 г.
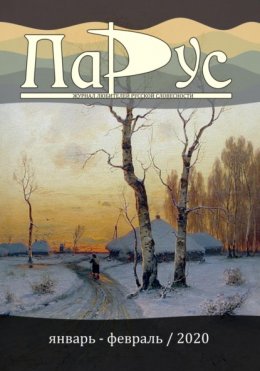
Цитата
Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ
***
Наедине с печальной елью
Я наблюдал в вечерний час
За бесконечной каруселью
Созвездий, окружавших нас.
Но чем торжественней и строже
Вставало небо надо мной,
Тем беззащитней и дороже
Казался мир земли ночной,
Где ель в беспомощном величье
Одна под звёздами стоит,
Где царство трав и царство птичье,
К себе прислушиваясь, спит.
Где всё по балкам и полянам
И над мерцающим селом
Курится медленным туманом,
Дымится трепетным теплом…
1965
Художественное слово: поэзия
Андрей ШЕНДАКОВ. Февральский свет
***
Так рано повеяло снегом…
Вчера полыхала жара;
с шумящим лесным набегом
пришла восковая пора —
пора неземных откровений,
небесного зимнего дна;
с наплывами лунных горений
немного ещё зелена
листва, но дворик мой золот
и терпок – в своём купаже,
а тихий осенний холод
и важен, и нужен душе:
пленительна, самозабвенна
в лачужке веранды свеча, —
строка, как слеза, вдохновенна
и, словно любовь, горяча!
***
Легка рассветная звезда,
в хрустальной дымке бирюзова —
среди неслышимого зова
ясна, крылата, молода;
летит среди миров чужих,
которым много лет знакома:
среди полей, над крышей дома
так много их, так много их;
их не понять из древних книг,
не осознать удел их вечный
и взмах крыла, почти беспечный,
несущий нам всего лишь миг;
умом постичь – напрасен труд,
открыться сердцем – бесполезно:
легка пылающая бездна
рассветных, солнечных минут.
***
Как небо, встала надо мною…
А. Блок
…Ты в дом входила в шёлковом платке
и, скинув плащ, о чайник грела руки,
затем к огню садилась – налегке,
припоминая давние разлуки,
и, угли странно, дико вороша,
смотрела – сквозь, твоё лицо краснело, —
как будто чья-то тёплая душа
врастала вновь в твоё живое тело;
как будто вновь, на Землю низойдя,
не театрально, а в привычной яви
ты забывала сполохи дождя
и рассуждала: «О Всевышний, я ли
себя, по воле неба, обрела?
Достойна ль я жить в облике подобном?..»
Струились капли хрупкого тепла
в обычном доме, маленьком, укромном:
мы пили чай, мечтали – обо всём,
иных миров пространства обсуждая;
я видел свет и прах в лице твоём,
но всё же верил в то, что ты – другая,
что не грехом была ты рождена,
а чем-то высшим – отблеском, рассветом;
я созерцал, почти не видя дна,
и понимал по косвенным приметам,
что где-то рядом чьи-то имена,
что вслед летят – кометы, ядра, пули;
а утром ты рассады семена
бросала в почву и, плетя на стуле
свою косу, смеялась мне в глаза:
«Да, я верна, о друг, всем понемногу:
когда на небе вспыхнет полоса
крылатых звёзд, я улетаю – к Богу…»
Шутница! Вновь жива и не жива.
Понять, простить – бывало не такое:
сто тысяч лет закатная трава
вдаль уносила солнце, как каноэ;
сто тысяч лет, о Муза, рядом ты —
сплетенье звёзд, рожденье тьмы и света:
тебе своей хватает высоты,
а нам, поэтам, в наказанье это!
ФЕВРАЛЬСКИЙ СВЕТ
I
Метель кружилась во дворе,
Качая сумрачные ели,
А мы задумчиво сидели
И были рады злой поре,
Когда за маленьким окном,
В кустах заснеженной сирени
Сливались пасмурные тени:
Фонарь скрипел над чердаком.
В прихожей иней на двери
Блестел, сквозь щели проступая;
Искрилась ваза голубая,
Я говорил тебе: «Не ври,
Что не боишься тьмы земной
И ждёшь меня с благоговеньем…»
Но ты была почти виденьем
В ночной сорочке предо мной.
II
Свистела в сумерках метель,
Спокойно щёлкали поленца,
Но снова с хрустом полотенца
По снегу прыгала капель;
Ты в зимней шапке – меховой,
Из серебристой чернобурки —
Пришла, ругая переулки,
И села с влажной головой.
Блестел узором хрусталя
Стаканчик с клюквенной настойкой,
Ты расцвела улыбкой горькой;
Был тёплым вечер февраля.
Мы говорили о весне,
О том, что скоро хлынут льдины.
И пепла яркие седины
Увидел я в глубоком сне…
III
И тепло, и светло, и грешно…
Снова рву со стихами бумагу,
Слыша в трубах морозную тягу,
И смотрю у окна на кашпо,
Где поник одинокий цветок
И земля у корней пересохла,
Как волос твоих зимняя охра;
Но вздымается свет моих строк
О тебе, для тебя, об одной,
Той, которую знал я невинной —
В длинном платье и шляпке старинной.
Что теперь происходит со мной?
Обращаясь к таинственной мгле,
Вспоминаю раздор между нами…
Твой атласный рукав с узелками
Меня держит в незримой петле.
IV
Потемнел золотистый графин
С ярко-алой вишнёвой настойкой,
Ты у зеркала хмурилась с плойкой,
Мне казалось: я был не один
У тебя – и в лесу сквозь пургу
Пробирается медленно пеший
С хриплым кашлем, ругаясь, как леший;
Это видел я сердцем, не лгу:
Чёрный призрак исчез вдалеке,
Оставляя следы в перелеске;
Твоих губ молчаливые фрески
Трогал я, словно льдинки в реке,
Когда сонно и длинно январь
Окропил окна светом лампады…
Оставляя в душе водопады,
Расплескался по небу янтарь.
V
Сквозь стёкла в зимний коридор
Катилось солнце, догорая,
И заливало вдоль сарая
Багряным светом старый двор,
Где я с тобой стоял в тиши
Среди искрящихся сугробов
И неба пасмурных разводов
Не принимал оклад души,
Когда вздыхал февральский сад
И сосны в зареве темнели,
Но чуть заметные капели
Влекли меня в твой дом, назад…
А ночью проседь угольков
Нам из печи опять светила,
Её загадочная сила
Боялась долгих сквозняков.
VI
Прости меня теперь за то,
Что я, конечно, не во власти
Соединить небес две части:
Когда ты скинула пальто
И, мглу духами окропив,
Ко мне уверенно шагнула,
Я встал с расшатанного стула,
Услышав старенький мотив
О двух пылающих сердцах;
Но наши чувства были в прошлом,
В дыму чужом и придорожном,
В летящих в поле бубенцах,
За полуночной пеленой,
Где душу спутала усталость.
А ты по-прежнему пыталась
Быть непокорной предо мной…
***
В этом городе мгла за околицей,
Глубоки полевые снега.
Одинокой серебряной горлицей
Подо льдом задремала река.
Острый месяц в стекле расколотом
Загрустил о былых делах.
Облака наливаются холодом,
Проплывая в чужих мирах.
Над осокой по склонам стелется
Горьковатый седой дымок.
Закружив надо мной, метелица
С ветерком унеслась на восток.
Небо вспыхнуло ярко, молодо…
В пелене пробежавших лет
На окраине старого города
Светлой памятью я согрет.
***
Мы встречались с тобой на закате…
А. Блок
Звезда над рекой моросила,
снега отступали легко,
сквозь стены незримая сила
носила живое тепло,
а веник, отставленный в сени,
ютился под шляпкой гвоздя;
сходили к холмам полутени,
по узким тропинкам скользя;
под сводом чердачного лаза,
над просинью хлынувших вод
меня ты ждала хитроглазо
у чёрных старинных ворот,
где лёд прожигали крапивы
у окон, склонившихся ниц,
и плакали трепетно ивы
под гомон окрестных синиц;
и что-то в душе клокотало,
и что-то взрывалось внутри —
горели сиренево-ало
остатки вечерней зари,
над лесом, над полем, над домом
с чуланным рассольным душком,
над тьмою, клубящейся комом
под вспыхнувшим звёздным ушком;
хотелось мечтать и, мечтая,
предчувствуя близость, любить,
когда говорливая стая
тянула свой клин, словно нить,
и, штопая давние раны
земли, пробуждалась весна;
парили тугие туманы —
от взмаха ночного хвоста
кометы, застывшей над миром
и сблизившей нас на века
ожившим нездешним эфиром,
как будто вспорхнувшим с цветка,
где каждая ночь окропилась
золой, как речная вода.
И виделось: ты мне приснилась —
легка, молода, золота…
***
Ты вся – сомнение и тайна…
Свои серёжки теребишь.
Ты откровенна и печальна,
Когда летят дождинки с крыш.
Сомкнёшь жемчужные ресницы —
В окно струится блеск реки…
Как две осенние зарницы,
Мы то близки, то далеки.
***
Казалось бы – о чём и говорить?..
Неровный снег бросает в стёкла блики;
Подтаяв, лёд в сугроб вонзает пики —
И день февральский рвётся, словно нить.
И дремлет кот, забывший про клубок,
И к старой пряхе волна* льнёт клоками,
Как рыхлый наст, разъеденный кострами,
Иль недалёкой тучки островок.
Спешат по кругу ходики-часы,
Закатный луч на скатерти подвижен,
А за окном на кроны зимних вишен
Ложится гул дорожной полосы,
Откуда ты внесла набоек стук
В мой стылый дом – спокойна, сероглаза —
И над цветком, над тёплой астрой газа,
Согрела кисти побледневших рук.
Всю ночь мороз узоры рисовал,
В печном огне всё стало ярко-красным,
К твоей груди, блестя дымком атласным,
Скатился льдинкой сколотый опал.
Но унеслись, куда-то унеслись
Те дни, когда, я думал, только крепла
Любовь: теперь, как будто горстку пепла,
Февральский свет её уносит ввысь…
*Волна – овечья шерсть (смол.).
Виктор СБИТНЕВ. По запахам, по звёздам, наугад
ТОПОЛЯ
А тополя уже грустят,
Хоть листопад ещё далёко,
И занавески шелестят
Из приоткрытых в лето окон,
А тополя уже грустят.
А я стою у той черты,
Откуда видится былое,
Зеленокудрое, родное,
Смеются лица и цветы,
И я стою у той черты.
А тополя уже грустят.
Желтеют первые прожилки,
Там в них невидимые пилки
Живое режут наугад —
И тополя уже грустят.
А я стою у той черты,
Где тёплый дождь и пёстрый зонтик,
И с ним вот-вот растаешь ты,
Как та черта на горизонте,
И я стою у той черты.
НА СТРЕЛКЕ
Ты помнишь воду?
Зеленели
Вдали тугие берега.
Мы плыли рядом и без цели
Считали синие стога.
Был взгляд твой ломок и прозрачен,
А голос тих, и для меня
В нём каждый отзвук обозначил
Всю прелесть прожитого дня.
Ты помнишь воду?
Тёплый ветер
И неба лёгкая кудель,
И это чувство, что на свете
Бывает редко у людей.
А в стороне, за стройным бором,
Где лоскут поля да кусты,
Сошлись стремительным узором
На миг церковные кресты…
ЗВЕЗДОПАД
Ты мне сон рассказала, я помню —
Словно сам я, грибник половчей,
Тебе доверху кузов наполнил
Звездопадом июльских ночей.
Ты с ним шла по окошенной тропке,
И от крайнего стога, вослед,
Я смотрел, как до самой слободки
Ты несла этот собранный свет.
СОН
Бог знает чем…
М.Ю. Лермонтов
Приснится же такое! По болотам,
Под пулями, катая желваки,
Спасаясь от ужасного кого-то,
Он двигался упрямо вдоль реки.
По кочкам, по затопленным подлескам,
Сквозь пагубу естественных преград
Он двигался к спасительной «железке»
По запахам, по звёздам, наугад.
Он двигался бессонно, неустанно,
Без обуви, без кепки, без еды,
Не веря ни в ниспосланную манну,
Ни в хлебы, ни в библейские плоды.
Приснится же такое! Я – в дорогу,
До храма, где у Господа спросил:
– Кто путник этот, выкрест босоногий,
Что нас своим безверием смутил?
И был мне голос, из-под горних сводов
Он эхом разносился по земле:
– Никто из смертных не смущал народы,
Ты просто снился самому себе…
***
Ветром зацелованная ива
Распустила кудри по реке,
Так бывает просто и красиво
Проплывать на утлом челноке,
По реке рукой пускать барашки
И на мелководье, впереди,
Видеть твою тонкую рубашку
С ветряным распахом на груди.
МЯСНОЙ БОР
В Мясном Бору – не на погосте,
Когда ночная мгла густей,
На сотню вёрст мерцают кости
Убитых немцами людей.
Они здесь шли снимать блокаду —
С полмиллиона набралось, —
Шли без разведки, скопом, стадом,
Шли наудачу, на авось.
И вот в Бору, где на болотах
Осинник чахлый да ивняк,
Ход необученной пехоты
На пулемёты принял враг.
Кругом кустарники да пади —
Нигде ни спрятаться, ни встать,
А с высоты калибры садят,
И самолёты бреют гладь.
Они здесь шли. И их не стало,
И даже не было вестей,
Лишь через годы замерцало
Болото фосфором костей.
Сюда потом по буеракам
Солдаты вымостили гать —
По ней ходили мы с собакой
Их медальоны собирать.
Близ чёрных ям – не на погосте,
В разгар долиственной весны,
Я понял, складывая кости,
Зачем назвали бор Мясным.
– Их здесь легло полмиллиона, —
Сказал копатель Ушаков, —
Две сотни длинных эшелонов
Красивых, крепких мужиков.
Исчезли все. Легли, истлели,
Никто их здесь не хоронил,
Над ними певчие не пели,
И даже братских нет могил.
Как сходит снег – не на погосте —
Когда погаснут небеса,
В Мясном Бору мерцают кости,
И этот свет слепит глаза.
ГЕОРГИНЫ
Георгины мои, георгины,
Отцветают, бледнеют, шуршат —
От насмешек довольной калины
Умереть до предзимья спешат.
Всё в природе вот так – на контрастах,
На борьбе ареалов и стай,
Не успеешь почувствовать «Здравствуй!»,
А уже долетает «Прощай!».
Мир красив, но не ясен, как руны,
Как хожденье пасхальных фигур.
Сотни лет мы витаем в лакунах
Документов, религий, культур;
Сотни лет мы растим огороды,
Гладим кошек и держим собак,
Но причин появленья природы
Не дано нам постигнуть никак.
Скоро станем под звёздные сени
Собирать корабельную рать,
Но едва ль человеческий гений
Сможет замысел Бога познать.
Почему так калина лукавит?
Отчего так торжественен лес?
Отчего так волнует и давит
Журавлей отступной благовест?
Георгины мои, георгины,
Не понять ваш поспешный уход,
Как и это довольство калины,
И злорадство холодных болот!
ЯМЩИК
Трясёт кибитку на ухабах,
В пыли не видно ямщика —
От частокола смотрят бабы:
– Кого несёт издалека?
А ямщику до них нет дела,
Свернул ермолку набекрень
И кроет рысью очумелой
Второй десяток деревень.
Летит стремглав, вожжами вертит,
Глядит в дугу кореннику,
И, заморясь, российский ветер
Хватают кони на скаку.
Разбойный свист пространства колет,
Рябые вёрсты шелестят,
И солнцем выжженное поле
Вобрать никак не может взгляд.
И так весь век: по дальним весям,
Родным – ни слова, ни строки,
Всегда с какой-то странной песней
И… злым чутьём на кабаки.
ПРЕДЗИМЬЕ
Ноздреватый ледок и осока,
Чуть заметный туман, а вдали
Чертит ворон озябший высоко
Чёрный контур по краю земли.
Мир прозрачен, и вечен, и прочен,
Ровно тянет дымок на юру —
Позабыть ли, как вечер пророчит
Ясный отсвет зари поутру?
Позабыть ли последние клики
Парохода на стылой реке
И карат драгоценной брусники
На едва отогретой руке?
Леонид СОВЕТНИКОВ. Венок
Плету на гроб себе венок…
Г.И.
Глаголет время нашими устами,
Но внятный смысл не нужен никому.
Что люди! даже аггелы устали
От тьмы словес, стремящихся во тьму.
Терялись дни. Пустели птичьи станы.
Уже казаться стало, что пойму
И тягу листьев к свежему холму,
И звон в ушах, и шёпот над крестами…
Всё то, что нам порой не суждено
Постигнуть, умерев. И лишь по хвое
Плывя и отвергая всё живое,
Почуешь вдруг: рифмуя жизнь, чудно?
Стремленье к рифме? гармоничней вдвое!
Ему что мёд, что дёготь – всё одно.
Ему что мёд, что дёготь – всё одно.
Как пожиратель образов культурных,
Оно игрой бандюг увлечено
Не меньше, чем героев на котурнах.
А нет героя? Что ж, берёт зерно
И, схоронив в полях литературных,
Ждёт, как оно на сагах да ноктюрнах
Растёт и превращается… в бревно.
Лиса: «Какую пьесу ни поставим,
А всё мертво». Кот, плача: «Балаган!»
Поёт: «О, дайте, дайте мне наган…»
Лиса: «Наган? Здесь шпаги не из стали!»
Сцепились, рвут друг друга, шум и гам —
Оберегай, спрягай, меняй местами…
Оберегай, спрягай, меняй местами —
Покамест все, как дети, гомонят,
Покуда гладко-голо не предстали
Уложенными в поглагольный ряд:
Бесхвостые и с длинными хвостами,
Причастные к чему-то и навряд…
Искусство строчки перейдёт в наряд,
Кроящийся умелыми перстами.
О, время, ты на всех, как полотно,
Сидишь своей изнанкой иль основой!
По Лагерной блуждая, по Крестовой,
По Столбовой, когда совсем темно,
На сноске спотыкаюсь я, как новой:
Род или вид – не пощадит оно.
Род или вид – не пощадит оно,
Но мне-то что от вида или рода?
Хоть облачён во времени рядно,
Как в плотские мученья Квазимодо,
Пусть и живу на родине я, но
Не узнаю ни церкви, ни прихода.
Помимо снега, лишь чужая мода,
Чужие речи, чуждое кино…
Здесь можно бы и кончить на октаве,
Но женский род лишь этого и ждёт.
Вот кончу здесь, и вымрет весь народ
Читающий. Поэт кончать не в праве —
Вот парадокс! И что там вид иль род,
Где слово? – На иудиной подставе.
Где слово? – На иудиной подставе:
«Даю дрозда»… «целую нежно в лоб»…
«ЧП Харон: мочу на переправе»…
«В кафе Анчаръ… и порчу, и озноб»…
«Подайте брату рушкому» – картавя…
«С утра на роль Карениной, для проб»…
«Плету венки на свадьбу и на гроб»… —
Ну где, когда, в каком ещё астрале
Нам втюхивали это толокно?
Спой, Хрюня, «спят усталые людишки» —
Пока от крыши далеко до крышки,
Нет лучше средства улететь в окно.
Там некто наши ведает делишки
И молча бродит или пьёт вино.
И молча бродит или пьёт вино
Средь Буратин, не давших яблок Некту.
Ужели всё навек обречено?
И скоро поведут на суд к Префекту.
На мировое опускаясь дно,
Не уступить унынью иль аффекту
Так трудно. Будто вместо церкви в секту
Попал, а там от мертвецов – черно.
Ещё и намекнут: в себе ль, милейший,
Играть на все извольте в казино.
Вы что-то о любви… о ней умно
Вам в чайна-тауне станцуют гейши.
Потом на «ты», как загодя к умершим:
Юродивинка, наша ты давно!
Юродивинка наша, ты давно
Своим серпом пугаешь иностранцев.
Приедет, скажем, под Бородино
Любезнейший француз, учитель танцев,
С клевреткой – тонкой, как веретено.
Покрутятся в леске и возле шанцев,
А там уж шайка юных оборванцев,
Играющая в «слабое звено»:
«Эй, дядя, что вы к женщине пристали?
Здесь много лет назад Наполеон
Пристал к столице и понёс урон!»
И так серпом причешут куст, что краля
Уж брошена одна считать ворон,
Излишня, как божок на пьедестале!
Излишня, как божок на пьедестале,
Слепая Правда с факелом в руке.
Нас выгоды её уже достали!
Что взвешивать, коль жизнь на волоске?
Мне звёзды не за доллары блистали,
И не за золото, накоротке,
Встречал лучей, плывущих по реке,
Я утренние розовые стаи.
Там, в оны дни отсутствия нажив,
На отмелях речного поворота,
Меня учили камешков долота
Упругой мере слов. И, как ножи,
Немые рыбы пели безо лжи:
В поэзии не мера полорота…
В поэзии не мера полорота:
В дыму, в огне, в сияньи, в кружевах…
Нет ни звезды, ни женщины – всего-то
Какой-то сор, горящий на словах.
На деле – то ж усердье рифмоплёта,
Заслышавшего общий шум в ветвях
И жаждущего: как бы к слову «страх»
Приладить ощущение полёта?
Всё небо тлело в розах огневых —
Без разницы, Россия или Ницца.
Как будто бы взялось осуществиться
Обещанное, но огонь «шутих»
Иссяк. – Не райская блистала птица,
А перебор приёмов записных.
А перебор приёмов записных
Не раскрывает образа. Приёмов
Легко добиться, только вот от них
Такой же прок, как от Фомы с Ерёмой.
Кто эти двое? Может, на двоих
Соображали? Всё покрыто дрёмой.
А если вместе к Фенечке ядрёной
Пошли и там решили «на троих»?
Приём о том не булькает ни звука,
Кто сватом был, а кто «из двух» жених.
В себя приём уходит, будто псих,
И жаждет повторений – вот в чём мука,
Вот почему так часто сходит с рук, а
Не через губы возникает стих.
Не через губы возникает стих
И не изгнанник проклятой эпохи.
Она проходит, требуя шумих, —
Он тихо обездолен, как все лохи.
Не крут, но отрицает власть крутых,
Безвестен, но дела его не плохи,
Коль вдохновенны выдохи и вдохи,
Как результат смирений золотых.
Такому Лелю не страшны тенёта,
Он лишь любовью сердца уловим.
Но даже автор расстаётся с ним:
Как для музыки замирает нота,
Как Бога ищет грешный пилигрим, —
Он движется сквозь времени ворота.
Он движется сквозь времени ворота,
Реален, как конкретный соловей:
На слух маэстро, а поймай на фото —
Невзрачная свистулька без затей.
Природа знает силу окорота,
Упругость сжатой формы, только в ней
Так тесно – и поэтому вольней,
Мучительней о счастье петь охота!
И вот звучит… На листьях облепих
Боярышницы млеют. Серебристо
От тополей и ландышей – монисто
Надела ночь. Окрестный мир притих,
Как паучок с крестом евангелиста,
Высвобождаясь из потуг своих.
Высвобождаясь из потуг своих,
Плодит сегодня время не героев.
«Купи-продай», как поголовный свих,
Грозит, что мы самих себя зароем.
Иль ради взяток, шмоток, чаевых
Заделаемся клерками, всем роем
Мы свой, мы наш, мы новый мир построим,
Давясь пыльцой разрух-неразберих.
И станет верхом творчества работа,
И будет богом быт, что всех заел.
И временем – поток привычных дел.
И счастьем – ощущение оплота…
Ещё бы этого от нас хотел
Уверенный, что обретёт кого-то!
Уверенный, что обретёт кого-то,
Жалеет, любит нас и бережёт.
Вздыхает, будто автор «Идиота»,
Иль в русской печке снова души жжёт.
А мы всё ждём иного оборота,
Как будто что-то знаем наперёд.
Наивный до беспамятства народ,
Глотнувший всласть водицы из болота!
Готовы из-за разной ерунды
Бодаться и валяться под кустами
Упившись – право, что бы сталось с нами,
Когда б на свете не было беды?
Как струи мёртвой и живой воды,
Глаголет время нашими устами.
Акромагистрал
Глаголет время нашими устами,
Ему что мёд, что дёготь – всё одно.
Оберегай, спрягай, меняй местами
Род или вид – не пощадит оно.
Где слово? – На иудиной подставе,
И молча бродит или пьёт вино.
Юродивинка наша, ты давно
Излишня, как божок на пьедестале.
В поэзии не мера полорота,
А перебор приёмов записных.
Не через губы возникает стих —
Он движется сквозь времени ворота,
Высвобождаясь из потуг своих,
Уверенный, что обретёт кого-то.
Пересаженные цветы
Майрудин БАБАХАНОВ. Синий камень
Перевел с лезгинского Евгений Чеканов
***
Чуть-чуть макушкой неба не касаясь,
Идешь вперед походкой деловою
И шею держишь прямо. Но запомни:
Родился ты, как все, – вниз головою…
***
Дни детства.
Сельский клуб.
Сидит народ.
Седой мужчина лекцию читает
Про бомбы,
Что весь мир испепеляют.
Одно я понял:
Если вспыхнет свет
И я увижу в небе после вспышки
Огромный гриб, —
То надо падать наземь
Ногами в сторону гриба:
Уж лучше ноги
Пускай сожжет…
Тем летом, помню,
Три дня гулял я
В шерстяных носках.
***
Пред тем, как мы покинули село,
Переселяясь,
Мама повела нас
К отца могиле —
Камень там лежал
Без надписи, обычный синий камень.
Не укажи нам мама на него,
Едва ли б мы нашли отца могилу.
Стояли молча рядом с камнем мы.
По лицам мамы и сестры струились слезы.
Потом назад пошли. И отошли
Уже далеко в сторону села,
Когда я вдруг обратно побежал —
И, яростно бросаясь голышами,
Неровный край у камня отколол…
«С ума сошел ты, что ли?» – так сестра
Откликнулась на это – и, поймав,
Отшлепала меня.
Я горько плакал,
Но не от боли. Плакал просто так,
Не зная, отчего… Уже полгода,
Как я работаю. Давно хочу отцу
Могильную плиту я заказать…
Его могилу
Теперь без матери легко я отыщу —
По камню синему с отбитым мною краем.
***
Руку матери держу
И на кисть руки гляжу:
Вены с тыльной стороны
Громоздятся, как хребты.
Отчего-то – не подскажешь ли мне ты? —
На ладошку не взглянуть
Без маеты…
***
Поезд тронулся. Прощай, мой сельский лад!
Я стою, просунув голову в окно.
Встречный ветер бьет в лицо – и заодно
Мне откидывает волосы назад.
Край родной я покидаю, но назад
Несговорчивые волосы летят…
***
Пришел я к другу, но впервые в жизни
Ворот навстречу мне не отворили.
Позвал его… Невиданное дело:
Свет на дворе и в доме не включили.
Пошел я прочь, утешиться стараясь:
«Нет друга дома, вот и дверь закрыли…»
Но сердце не обманешь – сердце плачет:
Ворота изнутри закрыты были.
О, други милые! Люблю я вас всем сердцем
И потому молю: не обижайте.
Коль вы решите запереть ворота,
Хотя бы их снаружи запирайте.
ТОЩАЯ КУРИЦА
Было время на дворе —
Тяжело жилось Кюре:
Кто владел ей,
Тот и грабил, как хотел.
И пришла к народу мысль
Ехать с жалобой в Тифлис:
Пусть наместник разберется
С кучей дел.
Но расскажет кто ему?
Ведь в Кюре ни одному
По-грузински и по-русски
Не сказать…
Кто ж поведает о нас?
И решили в тот же час
Куру тощую поймать —
И ощипать.
Ощипать ее живьем:
«Вот и все мы так живем!»
Так решили,
Ощипали вмиг ее,
Повезли в Тифлис —
И тут
Губернатору на суд
Передали сообщение свое.
Но наместник важный тот
От ворот дал поворот
Тем посланникам
Измученной земли:
«Вы, такой проделав путь,
Хоть подумали б чуть-чуть!
Куру тощую
В подарок привезли!»
МАТЬ
1
В дом родной приехал я,
Сел у печки и сижу.
И заботливо, как прежде, смотрит мать.
Пот струится иль слеза?
Что-то льет нещадный жар —
То ли печка,
То ли матери глаза…
2
Маме голову помыть
Помогаю: воду лью,
Лью, задумавшись…
– Ну, хватит уж, сынок.
– Белой пены я не смыл,
Не смывается никак.
…Вспоминаю вдруг:
Ведь мама же седа…
3
Был у матери сундук.
Что хранил надежный ключ?
Нет, не золото,
А бязь на саван ей.
До сих пор сундук стоит,
Но давно уже он пуст…
***
Когда гостим, приходится порою
В гостях подзадержаться поневоле.
Ведь дети прячут обувь за игрою,
Желая, чтоб гостили мы подоле.
О, люди, все дворы я обошел бы,
И вашу обувь спрятали б не дети
(Я сам ее унес бы, в жажде чуда).
Так мало погостив на этом свете,
Босыми вы уходите отсюда…
Художественное слово: проза
Людмила НАЗАРЕНКО. Соседка
Рассказ
Общежитие именовалось «Гостиницей длительного пребывания». Вначале Нонне здесь даже понравилось. В первую неделю ее, Нонниной, жизни в столице ей вообще всё нравилось. И парк за окнами, и дребезжанье трамвая на повороте за углом, и шум по утрам на остановке, и даже толпа в продуктовом магазинчике возле самого общежития. Это потом она стала ото всего уставать. Работа оказалась тяжелой и совсем неинтересной. Да и то сказать, кто бы предложил ей комнату в общежитии, если было б легко и просто. Хотя дали даже не комнату, а койко-место в пенальчике на двоих, просто соседку к Нонне до сих пор не подселили.
Комнатка была крошечная, в ней с трудом помещались две узкие кровати с прикроватными тумбочками, небольшой письменный стол у окна и шкафчик-малютка у двери. Умывальника не было, сантехнические удобства располагались в общей секции на четыре комнаты. Тем не менее техника была новенькой, кафель – белоснежным, горячая вода текла из кранов круглосуточно, с шумом и пузырьками от напора. Совсем не так, как у них в старой пятиэтажке в Моршанске. В первые дни Нонна с трудом заставляла себя закрыть сверкающие полированным металлом краны и выйти из душа после часа попеременного плесканья в горячих и холодных струях прозрачной воды, совершенно не пахнущей хлоркой. Да и теперь после одуряющей смены в цеху душ примирял ее с жизнью, в которой выдавалось не так уж много приятных минут.
Нонне было одиноко: подруг у нее здесь не было, писем из дома никто не писал. Соседки по секции весело бросали ей на ходу: «Привет!» – и бежали дальше по своим девчоночьим делам. Все они были моложе, гораздо моложе ее.
– Добрый вечер, – устало кивнула Нонна дежурной на вахте, бесцветной немолодой женщине с потухшими глазами. Вот и она, Нонна, лет через десять станет такой же увядшей старой девой. Хоть бы работу найти интересную к тому печальному времени.
– Добрый, – с готовностью ответила вахтерша. – От двадцать второй ключ уже взяли. К вам соседку подселили.
Вахтерша обрадовалась неожиданной теме для разговора, улыбнулась и чудесным образом помолодела, даже будто чуточку похорошела.
– Веселая такая девушка, симпатичная, – продолжала информировать вахтерша, по-прежнему улыбаясь нечаянной собеседнице. – Анекдоты рассказывает смешные, да на разные голоса. Чисто артистка. Ларисой зовут.
Отчего-то тоска отступила. Нонне стало любопытно, показалось даже, что с появлением новой жилички что-то в жизни обязательно должно измениться к лучшему. Да и день был сегодня не такой утомительный, как обычно.
Новая соседка, в самом деле, оказалась симпатичной: открытое, чуть смугловатое лицо, большие серые глаза, ямочки-смешинки на щеках. Она перекладывала белье из небольшого чемоданчика на свободную полку в шкафу. Нонна шагнула в комнату и негромко поздоровалась. Девушка немедленно отложила очередную вещичку, протянула руку и как-то очень по-домашнему улыбнулась.
– Лора, – голос у нее оказался звонкий и приятный. – Меня к вам подселили. Будем теперь вместе жить – всё веселее.
– А я Нонна. – Девушка пожала протянутую теплую ладонь. – И впрямь вдвоем веселее. Я уж начала немного скисать тут одна.
– Нон-на! – пропела Лариса. – Красивое имя, певучее.
Сама Нонна считала его старомодным и тяжеловесным. Но похвала новенькой была искренней и оттого особенно приятной.
– А у меня пирог домашний есть, – сообщила Лора. – Мама называет его кулебякой. Вкусно очень. Даже в холодном виде. Садись-ка ужинать.
За ужином Нонна украдкой разглядывала новую соседку. Та была крупной, статной и румяной. Просто красотка с рекламы витаминов! Рыжеватые волосы тугими волнами ложились на плечи. Большие серые глаза со смешинками в уголках, густые и длинные светлые ресницы, спокойный и теплый взгляд из-под ресниц.
Кулебяка с капустой действительно была очень вкусной, и Нонна усердно жевала, предоставив бойкой Лоре вести застольную беседу. Новая соседка проглотила кусочек пирога, стряхнула крошки с губ указательным пальцем левой руки и спросила:
– Ты работаешь или учишься?
– А разве здесь селят студентов? – удивилась Нонна.
– Ой, я и вправду балда, – спохватилась Лора, смешно округлив глаза и замахав руками. – Меня же сюда брат поселил, через кого-то знакомого. Он у меня уже пять лет как москвич. Я-то работаю совсем недавно, оператором на машиносчетной, на полставки всего. Но и то хорошее подспорье. Сама знаешь, какие сейчас стипендии… Ой, я такая нахалка, сама все болтаю, а тебе и слова вымолвить не даю.
Лора встала, сладко потянулась и подошла к окну. Прямо под окнами общежития раскинулся парк: сосны, липы, белки-попрошайки на ветках, аккуратные дорожки и старушки на скамеечках в хорошую погоду. Вот и нынешний вечер был тихий и теплый. Через открытое окно доносился легкий шелест листвы, пахло свежестью и едва распустившейся сиренью. Лора села на подоконник и опасно высунулась наружу, чудом сохраняя равновесие. Испугаться Нонна не успела: девушка уже повернулась к ней и проговорила:
– До чего жить приятно в такие вечера! Хочется петь и веселиться… Послушай, опять я, бестолковая, важное забыла: у меня на завтра флаерсы в ночной клуб. В институте осчастливили. Два наших парня в концерте участвуют: группа «Темный путь», акустический рок. Ты как, пойдешь?
– Да можно бы, – нерешительно ответила Нонна. Она никогда не была в ночном клубе и переживала, что будет чувствовать себя неловко на шумной молодежной тусовке: будет одета не так, как теперь одеваются, не сумеет танцевать, как другие девчонки. В свои двадцать четыре она чувствовала себя старой и выбившейся из современного ритма жизни.
– Не просто можно, а нужно-пренужно, – всё так же весело заявила Лора. – Решено и подписано – идем!
– А что нужно надеть по такому случаю? Я и не знаю, в чем можно пойти.
– Всего-то и проблем! Джинсы есть, а сверху что-нибудь приладим.
– Там ведь танцуют, а я ни разу не видела за последние два года, – чуть слышно сказала Нонна, чувствуя, что краснеет, – как это делают нынешние девочки…
– И мы с тобой – нынешние. Так что приспособимся потихоньку, – заявила Лора. – Для начала возьмем себе пиво и понаблюдаем за другими. Ты ведь не против пива?
– Не против, конечно. Но там еще что-то нужно заказывать? Это ведь должно быть дорого.
– Пивом с чипсами обойдемся, у меня тоже с валютой не особо… Да ты не думай, я и сама в первый раз. Как раз удачный случай для начала. Ну, с этим концертом то есть.
***
Клуб назывался «Запасник». До концерта оставалось еще довольно много времени, но народу в двух залах толклось порядочно. «Это даже хорошо, – подумала Нонна: в толпе не будет так заметно, что они здесь впервые и не знают, как нужно держаться».
Она чувствовала себя здесь какой-то чужой, совсем деревянной. Лора же не потеряла своей обычной живости и с интересом разглядывала посетителей и затемненное нутро странного длинного помещения, в котором они оказались. Судя по небольшой сцене в самом светлом углу, именно здесь и должно было состояться действо, названное в глянцевых листочках-флаерсах концертом «The best of Tiomny Putt». Вдоль стен тянулись длинные деревянные скамейки и широкие перила, видимо, служащие неким подобием стола. Сквозь невысокий проем в противоположном конце зала было видно еще одно помещение, более светлое и просторное. Оттуда посетители приносили пиво и тарелочки с орешками и сухариками, пристраивались возле доски-стола и разговаривали, громко и оживленно, время от времени прихлебывая пиво из высоких стаканов.
Лора вышла в соседний зал, бросив подруге на ходу:
– Подожди меня здесь!
Скоро она вернулась с двумя стаканами пенящейся золотистой жидкости: теперь, с пивом, подруги были как все остальные. Нонна уже немного освоилась и с любопытством оглядывалась по сторонам. Вокруг действительно было много девчонок в джинсах, в каких-то чудных брюках, лохматых кофточках. Изысканные одежки Нонне в глаза не бросились. Зато кругом мельтешили какие-то ленточки, тесемки, целые килограммы крупных пуговиц, цепи и цепочки – всё это мелькало, звенело и подпрыгивало вместе с хозяйками и хозяевами. Пойти попрыгать со всеми девушки как-то не решились. Они сидели за узким столиком, бережно держа в руках по стакану с пивом, – будто высокие стеклянные сосуды были разрешением на их присутствие в этом интересном, хотя и весьма необычном для них месте.
Наконец на сцене появились музыканты: четыре молодых человека, довольно лохматых, одетых в живописные пестрые балахоны, и аккуратная девушка с короткой стрижкой, в высоких сапожках и очень короткой юбочке. Музыканты деловито двигались по крошечной сцене, что-то расставляя, передвигая и прилаживая. Худой юноша со светлыми патлами установил микрофон и произнес в него неожиданно громко: «Зацвел огород, раз, два!» Тут звук сорвался, по залу прокатилось нечто странное, визгливо подвывающее, и закончилось металлическим звоном. Микрофон наладили, потом поставили еще один, чуть сбоку.
– Это для скрипачки, – со знанием дела пояснила Лора. – Скрипка – она нежная, если не усилить, гитаристы и ударник ее глушить будут.
Публика в зале немного поутихла, слегка развернулась к сцене, приготовилась слушать. Первые такты песни прозвучали под аккомпанемент хлопков и топот каблуков. Слушатели реагировали довольно бурно, синеволосая девица рядом с Нонной всё норовила подпеть.
Вдруг погас свет. На мгновение зал затих, слышны были только приглушенные голоса гитары и скрипки и совсем негромкий – вокалиста. Композиция закончилась, после минутной тишины раздался гром аплодисментов. Тут и там вспыхивали огоньки зажигалок, девица по соседству оглушительно завопила:
– Давай, Леха, давай веселей!
Свет зажегся только к концу третьей песни. Музыканты сделали небольшой перерыв. Тяжело, наверное, выступать в таких условиях. Нонна от ужаса умерла бы сразу, будь она на их месте. Ну, в крайнем случае, онемела бы совсем. А Леха этот, смотри-ка, не растерялся, исключительно стойкий оказался парень…
– Этот Леша у них главный? – спросила Нонна.
– Ну да, он всем руководит. И музыку – тоже он. А тексты Галя сочиняет вместе с Андрюхой, гитаристом, – объясняла Лора, постукивая донышком стакана по доске.
Тут возле них и оказался сам Леша. У Нонны перехватило дыхание: так близко видеть настоящего музыканта, даже можно сказать, певца, ей еще не приходилось.
– Привет, Лоркин! – голос солиста «Пути» без песни казался каким-то странным, бледным, что ли. – Пришла-таки поддержать товарищей по борьбе с наукой? Благодарим, однако. А с подружкой-то познакомь!
Парень явно рисовался. Но девушки не показывали, что они это заметили.
– Знакомься, Нонна, это Леха Волков, мой однокурсник и реальный устойчивый хвостист. В свободное от учебы время, – то есть всегда! – сочиняет песенки для голоса с гитарами и алюминиевыми тарелками. Изредка из этого выходит кое-что стоящее.
– Очень музыкальное у тебя имя, Нонна, – похвалил Волков, не обращая внимания на Лорины дружеские колючки. – Девчонки, продержитесь до конца выступления! Ну, мне пора к своим. Ребята уже готовятся.
Пока «Tiomny Putt» в лице всех своих пятерых участников готовился окончательно сразить поклонников и поклонниц, Лора и Нонна разглядывали зал уже совсем снисходительно: что с этой публики взять, дети еще, потому и обвешиваются игрушками. Не то что они, вполне уже серьезные девушки, ведь даже Лоре давно исполнилось двадцать. Еще год пролетит – и несолидно им будет с такими мелкими тусоваться.
– Леха что-то слишком уж тщательно настраивается. Не иначе, собирается сразить тебя наповал, – заметила Лора.
– Почему это именно меня? – Нонна почувствовала ощутимое тепло на шее и щеках. Интересно, покраснела она сейчас или нет?
– Она еще спрашивает… Даже тупым невооруженным взглядом видно, что мальчик на тебя запал. Но имей в виду, что он совсем легкомысленный парнишка. Хотя с ним не соскучишься. Иногда. Предупреждаю просто потому, что Леха определенно будет тебя клеить, – Лора взглянула на подругу, отхлебнула пива из стакана и одобрительно кивнула то ли Нонне, то ли качественному напитку. – Можешь им немного повосхищаться, – я имею в виду концерт. Тогда нам будет железно обеспечено халявное пиво.
Нонна сочла за лучшее промолчать, тем более что уже прозвучали новые аккорды. «А что, – подумалось ей, – с этой новой соседкой совсем не скучно. Хорошо, что она появилась в жизни так вовремя, незадолго до наступления тоскливой и безнадежно тихой старости».
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись пятнадцатая: «Время колдунов»
Вы замечали, что в полиции, в зале суда и прокуратуре и в других казенных местах большинство посетителей чувствуют себя как-то не по себе, угнетенно? Совсем другие ощущения, например, в библиотеке или в церкви. Но это чувства обыденные.
А вот образчик – страха необыденного, «самого сильного в жизни», как уверял меня один пожилой человек, переживший белую горячку похмельной ночью, когда с потолка спускаются черные, плоские существа с фосфорно горящими дырами глаз. И тебя будто бетонной стеной приваливает…
Разных страхов и тревог в последние десятилетия прибыло. Но корень у них – один.
Его попробовал определить наш, ярославский земляк, академик Алексей Алексеевич Ухтомский, живший подолгу в Рыбинске. Он окончил кадетский корпус, Московскую духовную академию, а затем естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, где с 1922 года заведовал кафедрой. Его дневники и письма были опубликованы лишь недавно. Там немало сказано о сатанинских и содомитских сторонах нашей жизни. Как ученый, он пытался исследовать, что же чувствует душа, столкнувшись с дьяволом. В письме к близкому другу Ухтомский признается:
«Еще в Петербурге, как помните, у меня было чувство страха перед улицей и перед собранием народа. А теперь все чаще начинаю понимать состояние наших старообрядцев-странников, ощущение реально, что антихристом наполнена земля, осквернена вода, заражены поселения, загрязнен и самый воздух над нами».
Любопытно, что несколько раньше похожее чувство в очерке «Хороший русский тип» описал человек совсем другого мировоззрения, представитель народнического крыла русской словесности Глеб Успенский. Трое – сам автор, крестьянин и интеллигентная старушка – случайно оказываются в одном вагоне петербургского поезда. Заводят разговор, в котором выясняется, что все они бегут от неприятного чувства страха и беспокойства из Петербурга. Но и на глухой станции, и в деревне автора, от лица которого ведется рассказ, встречает тот же видоизмененный, но необъяснимый страх и тревога, предощущение какой-то беды: «Скверно, нехорошо, скучно, но это не разврат. Нет! Это именно падение души. Душа остановилась, не действует, точно как часы остановились и стоят». «Душа остановилась как часы»! Как это точно сказано и… страшно!
Лет через сорок Георгий Чулков, приятель Александра Блока, его иногда попросту называют собутыльником поэта, написал небольшую повесть о таком страхе, опубликованную лишь в годы перестройки. О том, что не от НКВД ужас исходил в сталинское время, а от невидимо втеснявшегося все глубже в жизнь антихриста. Так трактовал этот страх еще при царе побывавший за революционную деятельность в ссылке литератор. В наши же дни, когда люди в городах выйти вечером на улицу боятся, эта тема стала еще ближе.
«Я ощущал огромную опасность, будто на земле попал в ад. Я не мог пошевелиться, убежать, закричать. Я лежал, точно труп, а душа исходила муками. Все, что там творилось, было мерзким и чудовищным, гадким и зловеще мрачным». Так в популярном издании рассказывал о своем контакте с пришельцами из иных миров один из современных свидетелей, американец… Правда или газетная выдумка? Но вспоминается, что это почти слово в слово повторяет описания из старинных житий святых, рассказывающих о бесовских наваждениях.
Но не будем уходить в старину, потому что, как ни странно, именно в двадцатом материалистическом, советском веке участились такие встречи «с неведомым». Так, старец Сампсон, умерший в Москве в семидесятые годы века минувшего, вспоминал, что он за свою жизнь не раз сталкивался со смертью. В 1918 году его расстреливали, и он, раненый, чудом уцелел под грудой трупов. После войны тонул: на его мертвое тело был уже составлен протокол участковым. Тело повезли на тряской телеге – легкие от воды очистились, и он опять ожил. И все это было не страшно. Страшно ему стало лишь один раз, когда в Александрово-Невской лавре во время болезни его одинокая келья наполнилась обезьянами, огромными кошками и цыганами. Он догадался, что это бесы, и закричал, призывая монахов. Это был невыносимый ужас – все то же переживание ада на земле.
О том же рассказывает и его современник, известный старец Силуан с Афона. В двадцатых годах прошлого века, став монахом, он много молился. И порой его посещали необычные видения. Келья наполнялась светом, от которого даже тело становилось призрачным – можно было видеть, как работали внутренние органы. В этом свете появлялись бесы и рассказывали о некоторых событиях из будущего. То есть, как теперь иногда толкуют знатоки, у человека «раскрывались биоэнергетические каналы». Это была граница, на которой слабому духом грозит безумие. Но старец Силуан преодолел искушение, и устрашающие явления прекратились. В старинном нашем языке для них существует свой термин: «страхования».
А священник из мышкинского села Охотина, отец И. как-то рассказал мне, как приехал к нему молодой человек, увлекавшийся йогой, а затем перешедший в православие и готовившийся поступить послушником в монастырь. В охотинский храм тогда нередко наведывались воры. Будущий послушник предложил посторожить – переночевать в кладбищенской сторожке. Вдруг после полуночи он с выпученными глазами будит отца И. и не может слова произнести от ужаса… «Они» стали его пугать…
«Кто – “они”? – переспросил я. – “Как кто? Хвостатые!”» Я изумился: «бесы?» – «Ты что? Разве можно это слово употреблять? – остановил меня отец И. – Я тебе не советую. Вот и он, мой гость, научился при помощи йоги вызывать их, а защитой от них еще не овладел. А для человека видеть их невыносимо».
«А которых алкоголики видят – они реальны?» – спросил я. «Да, это все одни и те же», – кивнул священник.
И затем рассказал вкратце, как однажды в молодости побывал в Латвии у известного старца и получил на время возможность видеть то, что скрыто от обычного глаза. Это было нечто непередаваемое. Всюду, как тени, кишели «они». От старца из Латвии он тогда поехал к другому высокому духовному лицу в Москву. И стало ему невмоготу. Особенно много «их» было на вокзале. Пока дожидался поезда – стоял рядом с детьми. Там было «почище», как он выразился. Епископ, едва глянув на гостя, сразу понял, что с ним творится. Благословил – и «все это снял». Хорошо, что мы не видим обитателей этой воздушной сферы, говорил охотинский священник, иначе бы жизнь на земле стала невыносимой.
В последнее время о таких случаях все больше и больше появляется рассказов. О том, как «они» внедряются в наш земной мир. Не отсюда ли растущее чувство страха и неуверенности в жизни, разные катастрофы, пожары и кризисы?..
Философ Владимир Соловьев предсказывал, что в конце ХХ века бесы в открытую вторгнутся в наш мир, можно будет их видеть и слышать их голоса. Встречи с НЛО, примитивный оккультизм, неоязычество, а то и воинствующее антихристианство, или просто шарлатанство того же пошиба, кажется, подтверждают это предсказание. Ему, как ни удивительно, вторит и «наука». В книгах о пережитой клинической смерти приводятся случаи, как сразу же за гранью земного мира душу обступают светящиеся фигуры и обязательно куда-то влекут ее. Причем часто эти образы подкупают дружественным расположением, теплотой. Если душа свободна, зачем же ее влечь и куда? Скорее всего, туда, в свою область духов тьмы, открывшуюся старцу Силуану еще при жизни.
Поэтические образы никто за реальность не принимает. Но вот странное стихотворение еще в годы «застоя» написал поэт Юрий Кублановский. Ему грезилось недалекое уже будущее, когда «Антихрист на сытом коне прыгнул наземь в свинцовом огне. И теперь все равно – что бежать, что в глубокой могиле лежать». Описание ада на земле здесь впрямую перекликается со свидетельством американца, побывавшего в гостях у пришельцев.
А вот что говорит об этой бесовской стихии одна из провидиц двадцатого века.
Матрена Дмитриевна Никонова, будущая блаженная Матрона, родилась в 1885 году в тульском селе в такой бедной семье, что и прокормить нового ребенка было трудно. К тому же она была слепой. Девочка эта с ранних лет прославилась даром прозорливости, к ней ездили за разными советами из окрестных сел и деревень. Закрытые на внешний мир глаза ее в тонкостях и деталях видели мир иной, во всей его красоте, с прошлым и будущим.
В дальнейшем, в разные годы своей жизни, находясь уже в Москве, Матрона не раз возвращалась к судьбе убитого царя, предрекала его канонизацию. Говорила, что после Сталина править страной будут: «один другого хуже». «А потом придет Михаил, он захочет сделать жизнь лучше, но у него ничего не получится». Умерла она в 1952 году. Причислена к лику святых православной церкви. (Стоит отметить, что приходилось читать и критическое отношение к её предсказаниям.)
На время коммунистических праздников, когда по улицам с шумом и грохотом оркестров, с флагами и транспарантами двигались возбужденные толпы, Матрона наказывала христианам оставаться дома, закрывать форточки и двери, закрывать и свои души от вторжения бесовских полчищ, слетавшихся на демонстрацию, как на шабаш. Кстати, такие бесовские шествия, сопровождающие то катафалк умершего грешника, то какое-то уличное торжество, были хорошо известны и подвижникам древности.
Почему же никто не сможет убедить людей в этом? – спрашивали великую подвижницу, которую Иоанн Кронштадтский назвал «восьмым столпом России». «Потому что народ под гипнозом, сам не свой, – отвечала она, – страшная сила вступила в действие. Эта сила существует в воздухе, проникает везде. Раньше болота и дремучие места были местом обитания этой силы, потому что люди ходили в храмы, носили крест, и дома были защищены образами, лампадками и освящением. Бесы пролетали мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога».
Грязные ругательства, которые теперь все чаще можно слышать прямо на улицах, это своеобразные призывы бесовской силы. Иногда люди оправдываются, мол, мы произносим эти слова неосознанно, по привычке. То есть уточним, как бы по гипнотическому внушению. По старинному народному определению, вид у всякой нечисти – «тошный». Так называют в народных сказках, например, Бабу Ягу, угощающую гостя в своей избушке мочой и калом. Интересно, как относятся к этой стороне ее биографии создатели известного музея Бабы Яги? (Помнится, в перечне музейных услуг для туристов фигурировало и «угощение» от этой бабушки.) От одного только ее вида человека выворачивает. Бесы также невыносимо вонючие. Не случайно дьявола на некоторых гравюрах изображали с двумя лицами, второе – на месте срамных частей.
О мышкинской или рыбинской (как её еще называют) старице Ксении Красавиной, дожившей до 1940 года, в последние двадцать лет появилось немало публикаций в ярославской печати. «После нас старцев уже не будет, будут одни колдуны», – предрекла однажды Аксиньюшка, как её называли в народе.
Эти слова по-иному воспринимаются сейчас, когда в газетах можно запросто узнать адрес колдуньи, снимающей сглаз или обещающей поправить ваши денежные дела. В больницах мне приходилось встречаться с людьми, которые в поисках выздоровления обращались и к знахарям-колдунам, и к шаманам. Черная и белая магии, увы, оказывается, это не выдумка. Зло любит прикрываться маской современности. Так, известный русский религиозный философ С.Н. Булгаков, еще в начале минувшего века писавший о вере в «земной рай социализм», о «теории прогресса», подметил, что промышленность в новые времена принимает функции серой магии [1].
Разве скупить заводы за бесценок или прибрать к рукам денежные вклады миллионов людей – это не отдает колдовством? Как такое могло случиться? – теперь многие ломают голову. То же и с привилегиями, с постоянными прибавками зарплат для чиновников, со сверхдоходами «олигархов», с химерами ЖКХ [2]. Народная эсхатология сохранила предания о наступающем царстве зла. В одной, уже в новые времена найденной на Севере былине, рассказывается, что в России власть захватила «сила нездешняя, пододонная», то есть поднявшая из адских глубин: «Как по Святой Руси Кривда пошла, разгулялася, / Как она поедом ест народ православный»…А не будет провидцев-праведников – не стоять и свету белому.
Поэтому вопрос «наступило ли время колдунов» теперь вполне укладывается в наши будни.
…В тупике стоял вагон-тюрьма: по ночам его открывали и уводили заключенных на допросы, иногда выносили труп – в вагоне сидели убийцы. Сюда же привели и молодого монашка в заплатанном подряснике и лаптях. Это был все тот же старец Сампсон, кроме воспоминания об огромных кошках и цыганах оставивший нам рассказ о том, как победить заколдовывающий, бесовский страх.
Его арестовали матросы у монастыря. Тут же, на воротах, хотели повесить, но комиссар, вынув наган, скомандовал: «Держитесь за меня, не отходите ни на полшага!» И привел его на станцию, в следственный отдел ЧК. Там монашка принимали за переодетого великого князя Владимира. Следователь повторял: «Вы похожи, признайтесь, у нас есть карточка».
Из монастыря ему каждый день передавали бачок молока, творог и большую ковригу хлеба. Этим кормился весь вагон, и убийцы его не трогали. В вагоне он просидел три недели, а в холодную тихую ночь его с двумя заключенными повели за станцию, к оврагу.
Когда, загремев, открылась во тьму дверь, монашек испугался и начал молиться. И тут же увидел, как на вагонной стенке затепливается круглый, живой, ласковый луч. И то чувство, что было в его сиянии, влилось теплом в душу. Он почувствовал, будто с его жизни сняли пленку, и под ней обнаружилась теплая, живая глубина. Эта живая глубина неистребима. И услышал: «Ты не умрешь, я есть!» И он успокоился, стал видеть все совершающееся сосредоточенно, слитно с тем, что видел.
Монашек шел, видя, что он теперь ничего не боится: ни страшной ночной пустоты, ни стонов сотоварищей, ни пыхтения расстрельщиков, ни того, как странно все эти последние в жизни звуки перекрывает ступот его лаптей. Рядом с ним все двигался тот ласковый луч и согревал, утешал: «Не бойся, ты не умрешь!»
Снег запаздывал, чисто вокруг. Осень, как метелкой, подмела. Поставили их на край оврага. Восемь человек встали в десяти шагах с винтовками. И когда его охватило желтым всполохом выстрелов и стало жарко, луч все говорил: «Ты не умрешь!» И когда один подошел, тронул ногой и сказал хрипло: «Готов», – он хотел лишь одного: остаться с этим ласковым лучом навсегда…
Но эти луч и тепло, как понял он много лет спустя, были лишь отражением в его душе лика Христова, и отражение истаяло. Когда расстрельщики ушли, из стога сена вылезли два монаха. Они переодели раненого в красноармейскую шинель, фрунзенский колпак и утащили в монастырь. И монашек вылечился и прожил еще очень долго. И долго еще шел от отраженного однажды в сердце света – к подлинному свету лика Христова в вечности: через ссылки и лагеря, которые он теперь принимал, как бездушные, свойственные этому миру обстоятельства. И кто глядел ему в глаза, тот видел всю эту дорогу.
г. Мышкин
Примечания:
1. На ту же тему магичности, о том, что «промышленности поклоняются, как божеству», о «выгоде и страхе», еще в середине девятнадцатого века писал Иван Киреевский: «Одно осталось серьезным для человека: это промышленность: ибо для него уцелела одна действительность бытия: его физическая личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разъединяет людей; она определяет отечество, она обозначает сословия, она лежит в основании государственных устройств, она движет народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет нравы, дает направления наукам, характер образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она действительное божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною; она принимает такое же значение в мире современном, какое во времена Сервантеса получила деятельность рыцарская. Впрочем, мы всего еще не видим. Неограниченное господство промышленности и последней эпохи философии только начинается». (О необходимости и возможности новых начал для философии. Журнал «Русская беседа», 1856 г., т. 2.)
2. Чем как не серой магией или гипнозом (банальной присушкой) можно объяснить имевшие место и в городе Мышкине факты: например, оплата за вворачивание лампочек в подвале, хотя подвала у дома не существует. Оплата за мнимую уборку снега с крыш, или очистку урн, тоже несуществующих, во дворе. Оплата общедомовых нужд за еще в советские времена снятые батареи отопления в подъездах. В этом же перечне и капитальный ремонт, которого в появе не было, и рост тарифов на «питьевую воду», хотя большая часть населения покупает её теперь в магазинах, а не наливают в чайник из крана, и так далее.
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
ЖЕЛТЫЙ ДОМ
Пиши стихи, а то сойдешь с ума.
Мир против нас, пора запомнить это.
Мир строит сумасшедшие дома
Для каждого артиста и поэта.
Не дом ли желтый – тот, где я живу?
Кругом замки, решетки и ограды,
И все о чем-то грезят наяву,
Произнося бессвязные тирады.
И все твердят, что эта кутерьма
Куда дельней, чем сцена или лира.
Пиши стихи! А то сойдешь с ума —
И станешь ими. Станешь частью мира…
Творческая индивидуальность близка к безумию, это люди знали всегда. Я веду речь о другом – о том, что даже обычная городская многоэтажка с ее обитателями, если вдуматься, тоже похожа на «желтый дом»: в той или иной степени, но все современные горожане страдают расстройством психики. А если еще учесть, что все они спрятаны друг от друга за прочными дверями, запирающимися на замок, сходство покажется еще более разительным. И нужды нет, что в клетки квартир люди запирают себя сами, – психиатров и санитаров ведь не напасешься на всех!
Если согласиться с вышесказанным, то оценки, выдаваемые этими людьми поэтам, артистам и прочим творцам прекрасного, потеряют былую убедительность. Ведь если сумасшедший говорит о ком-то: «он не от мира сего», то, скорее всего, этот «кто-то» – не более психически ущербен, чем сам говорящий.
ЗАМЫСЛЫ
С утренней зари – до темноты
Свищет в душу ветер суеты.
Как птенцы без крова и семьи,
С плачем гибнут замыслы мои.
Если честно – мне их очень жаль…
Но гоню я жалость и печаль.
Пусть умрут! Не стоит им взлетать,
Если не сумели устоять.
Да, жестковато, – говорю я ныне, перечитывая свое стихотворение, написанное в начале 80-х годов прошлого века. Зато всё выражено отчетливо: если творческие замыслы не выношены, не созрели, то им и не нужно воплощаться в гармонические строки. Глубинная шаткость взглядов, идей, смыслов все равно однажды даст о себе знать – и произведение не переживет своего времени.
С другой стороны, эти самые замыслы – столь нежная субстанция, что не заслонить ее от ветра мирской суеты, хотя бы на первых порах, было бы крайне немилосердным. Кто же знает, что впоследствии вырастет из этих робких, пугливых птенцов? А вдруг они потом окрепнут – и миру явятся райские птицы?
Годится ли для творческих замыслов спартанский подход? Сегодня я затрудняюсь однозначно ответить на этот вопрос…
ШКОЛА
В этой школе,
выйдя в коридор,
можно было увидеть, как мальчик
колотит другого по голове
доской с гвоздем.
В этой школе
на уроке литературы
учительница брала из охапки дров,
сваленных у печки,
полено поувесистей
и швыряла в ученика на задней парте –
четырнадцатилетний наглец обсуждал вслух
ее интимные занятия.
В этой школе… впрочем,
остальное вы дорисуете сами,
кроме одного –
в этой школе учился я.
Вот ее точные координаты:
1970-й год от рождества Христова,
страна Советов,
Ярославская область,
Пошехонский район,
село Никольское.
Вы мне что-то хотите сказать?
Я жду.
Ну!..
В постсоветские времена у нас в Ярославле довольно долгое время действовал маленький книжный магазинчик, владелец которого, он же и продавец, возил из Москвы «литературу для умных». Зависнув однажды в этом раю, я вдруг услышал из-за горы книг голос хозяина:
– А ты знаешь, я тут недавно одно твое старое стихотворение нашел в «Антологии русского верлибра». Составитель Карен Джангиров, девяносто первого года издание…
– Правда, что ли? А ну покажи!
Открыв толстенный том, я с удивлением обнаружил в нем свое стихотворение «Школа», о существовании которого и думать было забыл. Батюшки-светы!.. выходит, я еще и вот такое сочинял?
Да, вспоминаю, сочинял… был в моей жизни краткий период, когда я, увлекшись творчеством своего знакомца советских времен, литовского поэта Витаутаса Бложе, запоем начал писать верлибры, – и старина Бложис, кстати, весьма благосклонно к ним относился… Так, значит, и это стихотворение оттуда же, с рубежа 80-х и 90-х? Но что же это я такое тогда накропал?.. и почему неведомый мне Карен Джангиров поставил эти строчки в свою антологию?
Может быть, он увидел в них еще одну возможность «пнуть проклятую Совдепию»? Нет, судя по авторскому предисловию к антологии, ее составитель брал повыше: он клал свой толстенный кирпич в стену «контртрадиции», долженствующей, по его мнению, затмить величественное здание традиционного русского стихосложения. Выходит, и я в этой затее поучаствовал?
Что ж, через четверть века всё встало на свои места. Традицию затмить не удалось, свободный стих, увы или ура, остался на задворках русской поэзии. А сам Карен Джангиров давно уже живет в Канаде… Я прочел его собственные верлибры: гм… это, конечно, поэт. Но его наступление на традицию потерпело на русской земле очевидное поражение.
Главная причина, мне думается, в том, что верлибр – это только «чтение для глаз». Запоминать и повторять верлибры, твердить их, как магические заклинания, ни один русский человек никогда не сможет и не будет. А без магии изустного слова – какая же русская поэзия?
Я думаю, что как минимум еще несколько веков мой народ будет считать стихами лишь те тексты, что обладают если не рифмой, то хотя бы размером. И только в этом случае русская поэзия будет рождаться в толще моего народа вновь и вновь…
СВИДАНИЕ
Спасибо, что ты приезжала,
Чтоб слезы мои утереть.
Ты видела – их было мало,
И больше не будет уж впредь.
Всё легче я в этой юдоли
Справляюсь с душевной тоской.
Ты знала: я плакал от боли,
Но не поняла, от какой.
А я не ошибся нисколько,
Тебе тою ночью звоня:
Ты местная шлюха – и только,
Но всё же любила меня.
Хоть был я всего лишь просветом
В твоей непроглядной судьбе, –
За это свиданье с поэтом
Немало простится тебе.
Пусть сбудутся все твои грезы
И сны – даже те, что пусты,
Пусть кто-то утрет твои слезы,
Когда зарыдаешь и ты.
Да, влюбиться можно и в шлюху. И не только потому, что они бывают очень красивы. Человек сплетен из тысяч незримых нитей – и какие-то из них почти всегда находят в чужом, инородном существе своих собратьев. И тут же плотно сплетаются, срастаются с ними. Так люди, нравственно и интеллектуально чуждые друг другу, внезапно становятся близкими – и получается в итоге то, что мой учитель назвал «ненавидящей, тяжкой любовью»: когда отсутствие духовного cродства не восполняется близостью душевной и телесной; лучше сказать – когда духовное кричит, попираемое душевным и телесным.
Такой союз всегда непрочен: однажды духовное, – как самое сильное и независимое в человеке, – непременно выскользнет из-под гнета и победно заявит о себе. Тогда – разрыв, трагедия, страдание.
…До сих пор я помню квартиру ее родителей, где в их отсутствие мы с ней предавались однажды любовному сумасбродству. Я был тогда в этом жилище впервые – и меня, помню, больше всего поразило там место, отведенное книгам. Эта жалкая полочка с десятком макулатурных томиков, ютящаяся где-то у самого пола, навсегда врезалась мне в память.
***
Да, мы с тобой единоверцы…
Но есть различие одно:
Ты пишешь: «грусть терзает сердце»,
А мне не грустно, а смешно.
Твои метафоры искусны,
Размеры, рифмы – им под стать.
Но ты назвать стремишься чувство,
Назвать! А надобно – рождать…
Главную ошибку многих своих сотоварищей по поэтическому цеху я понял довольно рано. И свое понимание отразил в этом маленьком экспромте середины 80-х годов.
С тех пор я только укрепился в этой мысли. И даже стал сомневаться, может ли настоящий поэт назвать «единоверцем» того человека, который не знает – или не хочет знать – основ поэтического творчества. Ведь эти основы состоят совсем не в умении строить метафоры, выдерживать рифму, соблюдать размер…
Какой же он для меня единоверец – этот странный человек, употребляющий для передачи своей грусти словосочетание «грусть терзает сердце»? Да это антагонист мой, супротивник, враг!
НЕ ВАШ
Когда беру бумажный лист
И заостренный карандаш,
Мразь по прозванью «журналист»
Мне говорит: «Ты тоже наш!»
Я говорю, что я поэт,
Что мало общего у нас…
А мразь в ответ хохочет: «Нет,
Ведь ты нам сердце не потряс!..»
Молчу… и думаю в ответ
Под шелест купленных страниц:
А может, просто сердца нет?
Одна гордыня без границ,
Да взгляд, с каким последний тать
Поостерегся бы пройти,
Да зуд чесоточный – писать
Про всё, что встретишь на пути,
Да жизнь, что намертво срослась
С летящим по ветру враньем…
А впрочем, что мне эта мразь?
Мне нужно думать о своем.
Мне нужно жить своей судьбой
И знать, что я душою чист,
Когда кладу перед собой
Бумажный лист.
Разница между поэтом, берущим в руку стило для того, чтобы открыть людям свое сердце, и бумагомаракой, зарабатывающим этим же стилом себе на хлеб с маслом, очень велика – и я однажды счел необходимым жестко подчеркнуть это отличие. Так родилось стихотворение «Не ваш».
Правда, мне и самому некоторое время пришлось зарабатывать на жизнь газетной поденщиной. Но, к счастью, я довольно рано ушел из репортеров в редакторы, а потом освоил еще и издательское дело – и в итоге сам уже практически не писал «статей к сроку». Провинциальные щелкоперы еще долго продолжали числить меня «своим», но на самом-то деле я уже был для них чужаком…
ЗАЙЧИК
Вянет лист, шуршит журнальчик,
Дело к холодам.
Бодро скачет мальчик-зайчик
По чужим следам.
Делит всех на худших-лучших
В свежих новостях…
Что ты знаешь, попрыгунчик,
О людских страстях?
Эти страсти есть ли, нет ли, –
С писком не спеши.
Ты сперва распутай петли
Собственной души.
Побелей до мыслей лютых
О своем житье,
А потом суди о людях
И другом зверье.
Раскрой газету, включи телевизор, войди в свой аккаунт в социальных сетях – и тут же перед тобой нарисуется бодрая заячья мордочка. То это обозреватель, то критик, то режиссер… но всегда и везде он делает одно и то же – учит тебя уму-разуму. На современном российском городском арго – «лечит».
Сыплет фамилиями своих дружбанов, рассказывает о том, как славно он оттягивался намедни в главном заячьем городе Париже. Возводит глазки горе, упоминая о кумире всех косых – Бродском. А потом начинает направо и налево раздавать оценки: у этого – медвежьи ухватки, та слишком рыжа и хитра, тот сер и свиреп…
Напрасно ты ждешь от него хоть какой-то правды о полевых и лесных делах. Не для этого он перед тобой нарисовался. Ему и его сородичам нужно совсем другое: чтобы у тебя не сформировалось свое собственное мнение о том, что происходит вокруг. Чтобы ты, не дай Бог, не начал принимать в расчет обычное человеческое разумение.
А если у тебя уже есть свое мнение, есть круг людей, оценкам которых ты доверяешь, – тогда ты для него сразу становишься больным на всю голову. Тебя уже не вылечить. И ты в его заячьем умишке и на его заячьем языке переходишь в разряд «ватников».
Что ж, может быть, это не так уж и обидно, как может показаться на первый взгляд. Русский ватник – вещь хорошая. Скольких людей спасла она от лютых морозов!
Кстати сказать, если с этой точки зрения присмотреться к попрыгунчику, то и от него, пожалуй, может быть какая-никакая польза. Из него и его ушастых дружбанов получится неплохой заячий тулупчик. Только сначала надо будет ободрать их как следует, а потом мочить, пока не размягчатся носы и лапы…
ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ
Покуда розовеют на глазах
Макушки тополей и стрелы кранов,
Катай слова в прокуренных усах,
Скорби о ненаписанных романах,
О непрочтенных книгах… Вспоминай
Былых друзей и спившихся кумиров,
Смотри на хороводы птичьих стай,
На головы молчащих пассажиров,
И наблюдай, как теплая заря
Засвечивает край твоей печали…
– Конечная! —
По правде говоря,
Ты всё сказал, пока они молчали.
Твои кумиры спились или скурвились, друзей разнесло по свету, задуманные тобой романы не написаны, а добрая половина книг в твоей домашней библиотеке так и осталась непрочитанной. И все-таки горевать тебе не о чем, ты осуществился на планете Земля – потому, что ты поэт. Прямо вот тут, на драном сиденье утреннего автобуса, ты создал строчки, запечатлевшие это мгновение земной жизни, уловившие и остановившие его. Теперь оно всегда будет жить в русской, – а значит, и в мировой, – поэзии.
И ведь как просто это вышло!.. ты не готовился к этому предварительно, не прочитал гору литературы о нежной утренней заре и ежедневных поездках сочинителей за куском насущного хлеба, не выдумывал заранее никаких метафор, не рисовал раскадровок, не намечал ни задач своего проекта, ни его вех… ты просто втиснулся в людской водоворот на своей остановке, углядел свободное место, сел – и, закрыв глаза, погрузился в вечные свои раздумья обо всем на свете. А через несколько минут глянул в окно и поразился тому, что всё вокруг еще тускло-серое, в том числе и небеса, но макушки далеких тополей уже нежно-розовые. Да и стрелы башенных кранов – тоже…Господи, значит, такое бывает каждый день? Но как же ты не замечал этого раньше? И мгновенно откуда-то пришла к тебе первая строчка – длинная, отлитая чуть ли не в гекзаметре:
Покуда розовеют на глазах макушки тополей и стрелы кранов…
Поначалу ты даже решил не ломать ее пополам. И даже что-то такое стало уже мерещиться рядом, наподобие второй строки:
Смотри в окно, на птиц и на людей, печально улыбайся на прощанье…
Но тут же ты понял, что получается как-то слишком уж печально… с чего бы вдруг? Ведь настроение у тебя сегодня совсем не траурное, да еще и эти розовые верхушки, предвестники близкого солнечного восхода, уже пролезли в твое будущее стихотворение… оно уже внутренне озарено ими! А что, если все-таки сломать строку пополам?
Покуда розовеют на глазах
Макушки тополей и стрелы кранов…
Что ж, неплохо. Теперь в дело идет рифма:
Ищи тра-та-та в серых небесах…
Но что это за тра-та-та такая? Ищи кого-то в серых небесах? Ищи усмешку в серых небесах? Гм, если твой герой все-таки чем-то с утра опечален, то он может, конечно, искать в серых небесах и усмешку – свою собственную, конечно. Ту самую, которую он тут же спрячет в своих усах, пожелтевших от слишком частого употребления дешевого табака… Стоп, стоп!.. вот же оно, слово – усы! В усах!
Ищи тра-та в прокуренных усах…
Опять эта тра-та… Да и что можно искать в усах? Уж лучше тогда катать… Ведь если посмотреть на героя пристальнее, то можно заметить, что у него беззвучно шевелятся губы, а значит, и усы – он ищет нужное слово, он перекладывает слова с место на место, перекатывает слова, катает их…
Господи, вот оно уже и пошло, поехало…
Покуда розовеют на глазах
Макушки тополей и стрелы кранов,
Катай слова в прокуренных усах…
Вот так оно всё обычно и начинается у тебя, и продолжается, и катится, и лепится, и рождается одно из другого, – и отсекается, конечно, если оказывается чужеродным. А в итоге – покуда твои собратья по утреннему автобусу молчали, ты создал маленький шедевр.
Ну, пусть не шедевр. Но все-таки это вышло хорошо. Ты ухватил что-то незримое и неслышимое, доселе никем не замеченное, не ухваченное, не воплощенное в слово. Заметил, ухватил, воплотил…
Вот уже и конечная остановка. Пора выходить, пора перетаскивать душу на совсем другую волну. Хорошо хоть, что стихотворение фактически сочинилось уже, не нужно откладывать его доработку на потом – зайди-ка потом в это же самое состояние души, попробуй. Получилось, что ты уже всё сказал?
Ты всё сказал, пока они молчали…
Но вот это, может быть, уже и перебор. Они ведь тоже, эти молчащие головы, о чем-то думали всю дорогу. Может быть, пытались решить какую-нибудь сложнейшую теорему, придумать схему перенастройки станка, новую методику продаж…
«Но они ничего не сказали, – думаешь ты, утопая в людском водовороте. – Они молчали. А ты сказал, ты уже сказал. Тебе осталось только записать…»
Тебе осталось только записать,
Перенести на белую бумагу…
«Господи, – бормочешь ты, шагая по залитому утренним солнцем тротуару, – ну почему, почему именно сейчас я должен вновь начинать думать о куске насущного хлеба? Ведь настоящий мой хлеб – это то, чем я занимался эти полчаса! Неужели этот хлеб никому, кроме меня, не нужен?»
ГНОМЫ
Синий луг и зеленое небо
Гном подземный малюет опять…
– Некрасиво, неверно, нелепо!
– Я так вижу! –
Ну, что ж, исполать.
Исполать вам, подземные гномы,
Что желаете видеть свое.
Я не враг вам. Но в ваши хоромы
Не ведите – мне там не житье.
Не селите в замшелую нору,
Не могу я там жить, не хочу.
Сердце молится только простору
И бессмертного солнца лучу!
Не хитрите, подземные гномы,
И не числите нас во врагах.
Всех врагов схоронили давно мы
В синем небе, в зеленых лугах.
Мировая культура приемлет полярные взгляды на одни и те же явления нашего мира. И все-таки история земных цивилизаций, век за веком, отсеивает зерна от плевел – и разрекламированные картины, изображающие синий луг и зеленое небо, уродливые «авангардные» стихи и романы и пошлые театральные постановки опускаются на дно, становясь сначала песком времени, а потом его мутью. И на просторе человеческой культуры вновь расцветают белоснежные лилии подлинного искусства.
Я никогда не поверю в то, что астронавт, летящий в 48-м веке по орбите Сатурна, в минуту отдыха будет погружаться душой в оргии де Сада, в примитивный мир Малевича и Кандинского, в местечковые поделки какого-нибудь Утесова. Нет, он захочет погрузиться во что-то равновеликое тому, что видит в иллюминаторе – в мир Микеланджело, Пушкина, Баха…
Так и вижу, как поднимаются на дыбы неистовые ревнители толерантности. А, кричат они, ты готов, подобно Гитлеру, объявить всё, что тебе не нравится, «дегенеративным искусством», отправить его творцов в Майданек?..
Успокойтесь, господа. Гитлер – это Гитлер, а я – это я. Опять же, Гитлер был убежден еще и в том, что дважды два – будет четыре. А вы будете утверждать, что дважды два – пять?
ШЕПОТ РОЗЫ
Стихи или прозу
Писал я, дурак молодой?
Прелестную розу
Поставил я в банку с водой.
И сел за тетрадку…
А роза склонилась слегка –
И светлую прядку
Поправила мне у виска.
Стихи или проза
Успешно ложились в тетрадь.
Повадилась роза
Мне на ухо что-то шептать.
Но, в шуме столетья
Тот шепот расслышав едва,
Не смог одолеть я
Привычки транжирить слова.
Лета свечерелись.
Поднялся я из-за стола.
– Ты где, моя прелесть?
А роза уже отцвела.
Сухое подобье
Цветка с помертвевшим листом,
Смотря исподлобья,
Стояло в сосуде пустом.
В неясном волненье,
Среди опадающих дней,
Я встал на колени
Пред юностью мертвой своей.
Занозы столетья
В ладонь мою больно впились.
– Ответь мне, ответь мне,
О чем ты шептала всю жизнь?
Но только усталость
Смотрела с цветка моего.
Уже осыпалось
Сухое подобье его.
В сосуде столетья
Качнулись мои времена.
О Боже, ответь мне,
О чем же шептала она?
Ты пишешь и пишешь, а роза твоей жизни увядает… И вот она засыхает окончательно. Глядя на бумажное подобье своей неповторимой судьбы, на все эти опубликованные тобой стихи, прозу, статьи, эссе etc, ты задаешь себе сакраментальный вопрос: а на кой ляд тебе всё это было нужно? Что это тебе дало?
Деньги? Сущие копейки!
Известность? Да пропади она пропадом!.. ведь ты теперь шагу не можешь ступить без того, чтобы на тебя не показывали пальцем, не подглядывали за тобой во все замочные скважины!
Чувство самоуважения? А за что тебя уважать, брат, – за то, что ты всю жизнь самозабвенно водил пером по бумаге, вместо того, чтобы драться на дуэлях, путешествовать и менять женщин, как перчатки?
Но тут же из тумана истории выходит твой собрат по перу, грузный мужчина с пышными усами, – и, схватив тебя за ворот, мрачно рычит:
– Я точно высчитал, сколько мы утрачиваем за одну ночь любви. Слушай меня внимательно, юноша, – полтома. И нет на свете женщины, которой стоило бы отдавать ежегодно хотя бы два тома!
Отшатнувшись, ты попадаешь в объятья другого собрата, высокого господина в пенсне, который, покашливая, замечает:
– Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют…
А затем рядом с тобой материализуются третий, четвертый… и вот ты уже окружен сонмом известнейших людей, ставящих творчество выше жизни. Кое-как высвободившись из их объятий, ты бормочешь нечто вроде того, что всегда хотел не только творить, но и жить… И в этот момент на засыхающую розу твоей судьбы падает первый нежный луч розовой зари, возвращая тебя к письменному столу.
– Я же не только творил, я еще и жил, – бормочешь ты, глядя на сухое подобье роскошного цветка. – Землю попашем, попишем стихи… как-то так…
Диана КАН. Московский форум корейского содружества
Состоявшийся в Москве Международный форум русскоязычных корейских писателей, организованный Институтом литературного перевода Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея, был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. География только официальных участников форума – всемирная, не говоря уже о том, что на него приехало множество корейских деятелей культуры, к примеру, из Торонто (Канада), США и других стран Перечислим лишь некоторые имена участников. Это писатели Анатолий Ким, Александр Кан, Владислав Хан, Диана Кан, Владимир Наумович Ким (Ёнг Тхек), Роман Хе, Марта Ким, южнокорейский поэт Ли Дон Су… Это учёные-лингвисты и писатели-переводчики – профессор Ким Хён Тхэк из Университета иностранных языков Хангук, директор Корейского института литературного перевода, поэт Ким Саин, литературовед того же института Со Хёнбом. К сожалению, далеко не все представители корейской литературной и культурной диаспоры смогли быть на форуме в силу разных причин. Но зато организаторы сделали то, о чём говорилось и мечталось давно – издали «Книгу Белого Дня (Литература корейцев СНГ в поисках утраченной идентичности)» – сборник избранных эссе Александра Кана. Нынешний форум в России прошел впервые, но вообще он третий по счёту – два предыдущих состоялись в Китае и Японии.
Форум проходил в культурном центре посольства Республики Корея. Это историческое здание на Чистых Прудах рядом с театром «Современник». Открыл мероприятие приветственной речью чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации господин Ли Сок Пэ, отметив, что форум является первым в череде мероприятий и торжеств, посвящённых развитию дружеских межгосударственных связей Республики Корея и Российской Федерации.
Директор Корейского института литературного перевода, поэт Ким Саин в своем приветственном слове выразил искреннюю надежду, что форум станет залогом того, что мы внимательнее рассмотрим и учтём уроки истории на будущее. Что форум станет ещё одним звеном налаживания живого диалога между писателями корейской диаспоры и корейскими писателями. «Мы очень гордимся тем, что литература корейской диаспоры наполняет русскую литературу новыми смыслами, – добавил господин Ким Саин. – Нам бы хотелось выразить слова благодарности и уважение русскому народу за то, что он с такой теплотой относится к малым народностям. Ведь именно благодаря влиянию прекрасной русской литературы таланты корейских писателей смогли так замечательно проявиться».
Модераторами первого дня форума были профессор Университета иностранных языков Хангук, известный в Корее русист Ким Хён Тхэк, а также не менее популярный филолог и литературовед, профессор Ким Хён Тхэк – один из организаторов форума. С основным докладом выступил известный русский прозаик, чьи произведения переведены на 28 языков мира, Анатолий Андреевич Ким. Он говорил о русской литературе и национальной идентичности писателей корейского происхождения. Доклад маститого литературоведа Со Хёнбома был посвящен литературе корейцев Китая и Японии.
Второй день работы форума был ознаменован интереснейшим докладом (с уникальными фотографиями) известного корейского поэта, лауреата множества литературных премий Ли Дон Суна «Генерал Хон Бом До – типичный представитель корейской диаспоры». Решение написать поэму о генерале Хон Бом До поэт принял в далёком 1983 году. Решение пришло по завету его деда, участника борьбы за независимость Кореи, заключенного в тюрьму японцами и подвергнутого пыткам, не совместимым с жизнью. Неудивительно, что история корейского движения за независимость так волновала внука героического деда. Выбор поэта пал на народного генерала Хон Бом До, итогом чего стал поэтический эпос «Хон Бом До» в пяти частях (в десяти книгах), работа над которым длилась двадцать лет! В 2003 году поэма была издана.
Также большой интерес собравшихся вызвал доклад издателя русскоязычного сайта «Корё Сарам» Владислава Хана «Вариации на тему “Покинуть родину – переехать – пустить корни” в истории переселения корейских соотечественников». Владислав Хан посмотрел на проблему сквозь оптику литературного творчества, приведя примеры из произведений писателей Анатолия Кима (повесть «Рассказы моего отца»), Михаила Пака (роман «Смеющийся человечек Хондо»), Владимира Наумовича Кима (Ёнг Тхек; роман «Кимы», повесть «Ушедшие вдаль»), Владимира Ли (повесть «Берег надежды»), Александра Кана (книга эссе «Родина») и многих других.
Кстати, вышеупомянутый Александр Кан был модератором второго дня форума и открыл мероприятие докладом «Литература как Родина и Спасение». Как литература становится родиной в условиях потери родины? И как она же, литература, становится спасанием тогда, когда, казалось бы, нет надежды на спасение?..
Думается, каждый писатель отвечает на эти вопросы по-своему. К примеру, доклад московской поэтессы Марты Ким был построен на основе авторских стихотворений, где поэтесса говорила о языке, о радости и боли, о любви и разлуке, о надежде и разочаровании…
Очень живой отклик собравшихся вызвал доклад писателя Владимира Наумовича Кима (Ёнг Тхек) «Амбвивалентность укоренения – “Корни” и “Рассеивание”», который был посвящен трагической истории корё сарам (самоназвание этнических корейцев на постсоветском пространстве), проблемам выживания и жизни в инородной среде. «…Как бы ни обрусились, нашим родителям никогда в голову не приходило заставлять нас отрекаться от своей национальности. – подчеркнул Владимир Наумович. – А вот в Японии, насколько я знаю, корейцы с детских лет скрывают свою национальную принадлежность. Потому что там к корейцам относятся как к людям второго сорта… В этом отношении корейцам СНГ повезло. А всё, что мы потеряли – родной язык, уклад жизни, какие-то традиции – можно восстановить. Но то, что мы приобрели вдали от родины предков – чужой язык, культуру и прочее – отнять нельзя. Это достояние корё сарам, которое, как и его славная история, есть составная часть культуры корейского народа».
Я представила доклад на давно волнующую меня тему становления корейских соотечественников в России и СНГ писателями русской литературы. Я исходила из своего личного, порой трагичного жизненного опыта, когда некоторые, скажем так, не отмеченные литературным талантом коллеги не раз пытались меня унизить по национальному признаку. Зато они же научили меня тому, что если хочешь состояться в профессии, ты не должен просить себе скидок ни по национальному, ни по возрастному, ни по половому признаку. И эти же нападки привели к тому, что я сформулировала для себя единственный приоритет в литературе – качество текста, которое не должно давать шансов твоим завистникам… Завершил серию докладов замечательный поэт Роман Хе, приехавший на форум из Сахалина. Его доклад стал авторской мелодекламацией, ведь Роман Хе известен как поэт, умеющий превращать поэзию в музыку и музыку в поэзию… Не могу не восхититься виртуозной работой корейских переводчиц-синхронисток, благодаря которым мы, гости из самых разных стран, не ощущали никакого языкового барьера.
Отрадно, что несмотря на то, что форум был официальным межгосударственным мероприятием, на нём царила такая атмосфера дружбы и взаимной заинтересованности, что его можно назвать форумом корейского дружества, взаимопомощи и, конечно же, любви к Литературе, которая побеждает эпохи и границы.
Фотографии предоставлены международным сайтом «Корё Сарам» и его руководителем Владиславом Ханом
Литературная критика
Валерий ТОПОРКОВ. К истолкованию стихотворения Константина Кравцова «Белыми нитями тел…», или Полный цикл превращений одного образца современной религиозной поэзии
Белыми нитями тел
сшитый с землею едва,
холод высок как расстрел.
За ночь седеет трава,
зиждется слабый огонь
и не отходит от рва –
сыплет и сыплет в ладонь
полные снега слова [9].
Откровенно говоря, я не знаю, как доказать абсолютно очевидный для меня, как читателя, факт, но, вопреки всякому сомнению, утверждаю: перед нами не просто восемь строк трехcтопного усеченного дактиля или терцинный октет с трехчастной композицией и повествовательной (элегически-медитативной) интонацией – перед нами пример самой что ни на есть чистой, живой, совершенной поэтической речи во всей своей неброской и торжественной красоте, подлинной и глубокой трагичности, близкой, хотя и не тождественной молитвенной (панихидной). Читаешь стихотворение – и словно делаешь восемь глотков студеной колодезной воды, утоляя жажду – с заходящимися зубами, обожженным горлом, напрочь заледеневшей утробой. Вольно или невольно оно заставляет вспомнить пророческие слова Николая Гумилева: «…наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений» [5].
В самом деле, чем больше и сосредоточеннее погружаешься в этот поразительно цельный, необъяснимым образом завораживающий текст, тем отчетливее понимаешь, что если и вправду истинная природа лирической поэзии не имеет ничего общего с пресловутой «субъективностью» [подр. см.: 8], то насколько же она должна быть выше любых частных, сугубо индивидуальных человеческих притязаний, чтобы дать нам едва ли не единственную возможность по-настоящему приобщиться к исконной – беспримесной и неискаженной – метафизической реальности речи, свое высшее предназначение обретающей отнюдь не в «окончательной» изученности или оценке – но в способности оставаться некоей тайной, терпеливо ждущей «разгадки и понимания духа бытия» (согласно определению цели и сущности художественного творчества, сформулированному когда-то Иваном Лукашом) [6]. Ведь помимо того, что мы неизменно обозначаем двуединой категорией «форма-содержание», или обобщенно – «эстетическое», поэтическое слово всегда несет в себе так или иначе распознаваемые признаки породившего его культурно-мировоззренческого основания. Не случайно Борис Пастернак писал, «что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но, наоборот, нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины» [7]. И не важно, разрешима ли в принципе проблема его понимания на строго научных (рациональных) путях или нет, – ведь искусство тогда только оказывается до конца оправданным, неизбыточным, когда ответом на него, помимо ожидаемых «критического разбора» или «научного анализа», становится ― опять-таки ― искусство, о важнейшем из критериев оценки которого когда-то очень точно сказал Александр Блок: «К вечной заботе художника о форме и содержании присоединяется новая забота о долге, о должном и недолжном в искусстве. Вопрос этот – пробный камень для художника современности…» [2].
Исключительная ценность лирического стихотворения как потенциального «сплава переживаний» состоит в том, что, сохраняя неизменной свою духовную сущность, оно не является самотождественным уже относительно двух независимых прочтений. «Понимание, – писал Ганс-Георг Гадамер, – может выходить за пределы субъективного замысла автора, более того, оно всегда и неизбежно выходит за эти рамки» [3]. Согласно же Полю Рикёру, «истина каждого образа проясняется в образах, следующих за ним» [10].
В связи с этим особый интерес приобретает тот факт, что еще в средневековой (традиционной) индийской поэтике было разработано специальное учение, согласно которому все подлинно поэтические тексты несут в себе так называемое скрытое значение, сокровенный смысл или затаенный эффект – дхвани.
Различают три типа дхвани: 1) несущий простую мысль; 2) вызывающий представление о какой-либо семантической фигуре; и 3) внушающий то или иное поэтическое настроение (дхвани-раса).
Последний, безусловно превосходя потенциал первых двух, соответствует высшему уровню литературы (поэзии) и, в свою очередь, делится еще на два подтипа: 3.1) когда словами выражено одно, а сказать хотят совсем другое; 3.2) когда выраженное словами совпадает с тем, что хотят сказать, но подчинено оно другому намерению. В теории дхвани-раса (т. е. поэтической суггестии, пользуясь более привычной терминологией западноевропейской поэтики) описаны следующие десять видов поэтических настроений: любви, иронии, сострадания, гнева, мужества, страха, отвращения, откровения (изумления); спокойствия, ведущего к отречению от мира; родственной близости [подр. см.: 4].
Отсюда можно предположить, что дхвани «Белыми нитями тел…» относится к третьему из вышеназванных типов, в подтверждение чего остается лишь показать, каким образом его поэтическое настроение (центральный мотив) передается (внушается) читателю, а также определить его вид.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что в тексте стихотворения отчетливо выделяются два лексико-семантических ряда: «человеческий» и «природный». Тщательно их анализируя, нельзя не обнаружить, что не они вовсе несут на себе главную поэтико-семантическую нагрузку, – но ещё один (третий) ряд, частью смешанный, частью производный, который образуют слова, в силу своей изначальной или новоприобретенной многозначности либо относящиеся и к «человеческому» и к «природному» ряду, либо – сверх природного и/или человеческого – приобретающие тот или иной дополнительный метафизический смысл.
Сложная творческая работа поэта, конечно же, прослеживается в намеренном сближении, пересечении материала первых двух рядов между собой, а также первого и второго – с третьим, и наоборот, результатом чего становится общее смещение (сдвиг) смыслов (значений, образов) или, выражаясь фигурально, полный цикл их превращений, синтезируемых в дхвани. Причем ключ к уяснению тематического содержания стихотворения, по всей видимости, дан поэтом в третьей строке, отталкиваясь от которой можно предположить, что в нем говорится о неотвратимом человеческом страдании, событийно реализованном в сцене жуткого насилия – «расстреле», своеобразным памятником жертвам которого и призвано стать это пронзительное восьмистишие.
Процесс, по-моему, лучше всего демонстрирует гегелевская диалектическая триада, где тезису соответствует реалистически понимаемое художественное пространство (место действия, внешняя к а р т и н а р а с с т р е л а), антитезису – сам р а с с т р е л (как действие, факт убийства, насильственной физической смерти), а синтезу – то, что можно назвать д у х о в н ы м д е л а н и е м в его религиозно-творческом воплощении, через которое мученическая, воистину преображающая (очищающая) гибель обретает свой окончательный (сакральный) смысл как тайна (перспектива) посмертного бытия «под сенью Всемогущего» (Пс. 90:1), «в руке Господа» (Ис. 62:3).
Но чтобы как-то приоткрыть глубину того, что скрыто за синтетической ипостасью текста, для которой характерна предельная семантическая (металогическая) концентрация, я попытаюсь дать его развёрнутое истолкование.
Итак, самый первый и самый последний образы стихотворения, его альфа и омега: «белые нити тел» (метафорический) и «полные снега слова» (симфорический) – они не просто оригинальны, не просто сильны, но и удивительно необычны. «Тела» казненных – «белые» на темном фоне «земли» («рва» – будущей братской могилы) – названы поэтом «нитями», которыми «высокий холод» – некая ткань (ближайшие ассоциации – воздушная, небесная («Он распростер небеса, как тонкую ткань…» (Ис. 40:22))) – «сшивается с землей» – другой тканью или (опять же ассоциативно) материей. Ясно, что человеческие «тела» являются лишь видимыми, внешними или наружными частями подразумеваемого (двустороннего, прерывистого) шва – лицевыми стежками, то есть шва, образованного единой нитью, изнаночные части которой, соответственно, остаются невидимыми (скрытыми). При этом зримые и незримые части этой нити, надо полагать, принадлежат как земной («ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19)), так и небесной ткани (тверди) («Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65, 17)). То есть, скорее всего, речь здесь идет о двуединой природе самого человека, ее всегдашней внутренней (умственно-волевой) напряженности и противоречивости.
Небо (воздух, воздушное пространство) специфицируется поэтом как «холод». В реалистическом плане – это «холод» осенне-зимней ночи или раннего утра (обычное время приведения в исполнение смертных приговоров). А между тем только после указания на «землю» в развитии сюжета начинают воочию проявляться все сопутствующие предметы и явления окружающей природы, играющие в нем не просто вспомогательную (пейзажную) роль. Действительно, природа предстает перед нами как активный соучастник всего происходящего, как нечто персонифицированное (антропоморфное), самостоятельное, далеко не безразличное (прием олицетворения). Даже «трава» за ночь не просто покрывается инеем или «снегом», но «седеет», (пред)чувствуя страшное (психологический параллелизм), и в этом ее относительная, но все более и более одухотворяющаяся, обретающая очеловеченные признаки жизнеспособность.
«Холод» же в своем предельном, сущностном, воплощении определенно становится символом великой (евангельской) скорби, а значит – скорби «высокой». «Высокой» настолько, что можно расслышать голос Спасителя: «В мире будете иметь скорбь…» (Ин. 16:33). И как подтверждение тому – «огонь», «зиждущийся» (почувствуйте, как аллегория адской злобы уже согрета «нагорной» любовью (см.: Мф. 5:44), упрямо «не отходящий от рва»… и все-таки «слабый» (здешний, земной, преходящий). Ибо сказано: «…Я победил мир» (Ин. 16:33). Мученическая смерть оборачивается приобщением к этой безначальной победе («поглощается» (Ис. 25:8; 1 Кор. 15:54)) – «земля» «сшивается» с «высоким холодом» (небом), далеко не случайно сравнивающимся с р а с с т р е л о м, постигаемым как нечто открывающее, прокладывающее путь горе, а не долу (земле, вечной смерти, грядущей за реальным (пистолетным, ружейным или пулеметным) о г н ё м, в мгновение ока прошивающим еще живые тела смертоносным свинцом, точно прокалывая их незримыми иглами). Она «сшивается» с «холодом», который не прейдет до скончания века… А сейчас, сразу за первыми выстрелами – кажется, волею какого-то надмирного сочувствия – начинается снегопад. Его начало символично, – ведь в эту секунду человек поднимает глаза, подставляет ладонь. Почти машинально. То есть природа вновь реагирует, отзывается на происходящее, вторя падению т е л в р о в («ладонь» земную). При этом воображаемые траектории падения снежных хлопьев еще более усиливают ассоциацию с небесной тканью, фактура которой, таким образом, оказывается достаточно проявленной: тканью, сшитой «с землею едва».
Однако мы уже видели, как природное освобождается от ига собственной материальности («ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31)), и поэтому легко угадываем где-то за могильной «ладонью рва» – всесправедливую, крепкую, несокрушимую Длань, заботливо подставленную избранным («овцам») своим – «белым» от переполняющего их «снега» – Живым Богом («И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28)). Рухнувшие на «землю», «ссыпанные» в «ров» «нитчатые тела» противопоставляются «сыплющимся в ладонь словам». Тленная (тающая, исчезающая) белизна первых – очистительной заснеженности вторых, для которых «прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). Я назвал бы эту заснеженность верным признаком просветленности от «духа и жизни» (Ин. 6:63) – наградой за последнюю, неуничтожимую, сокровеннейшую надежду на посмертное Тепло, неустрашимость перед «холодом мира», в которой чутким читателем уже угадывается соответствующая разновидность навеваемого стихотворением (прикровенного) настроения – «спокойствия, ведущего к отречению от мира» (в заданном контексте название, разумеется, условное), девятое из десяти в перечне проявляемых поэтических настроений, составленном теоретиками школы «дхвани-раса».
И вот: «огонь… сыплет… слова» – то есть, поражая «тела» вольных или невольных мучеников, медленно присыпаемые – видимым – «снегом» (саваном), и сами же ему уподобленные, на цепенеющей от палаческих (портновских) пулевых (игольных) ударов (уколов) границе земли и неба, на самом деле он открывает путь избавляемым от бренной (телесной) тяжести бессмертным «словам» (душам), уносящим с собой – «снегом» невидимым – не только всю скорбь, всё терпение, но и всю преодолеваемую ими (жестокую) действительность. Именно поэтому «снег» продолжает идти уже внутри самих «слов», непостижимым образом наполняя их силой неумолимого пророчества: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39). А это, похоже, и есть несбереженные, потерянные души, идущие «от великой скорби» (Откр. 7, 14; ср.: Откр. 6:9). Следовательно, если «спасение есть чистый источник живой воды» [1], то кравцовский «снег» (воду замерзшую – посмертную) разумно было бы истолковать и как имя состояния (модуса) промежуточного между состоянием «вод» жизней человеческих (см.: Откр. 17:15), с одной стороны, и состоянием «воды жизни» вечной (cм.: Откр. 22:1) – с другой (со всеми вытекающими отсюда ассоциациями). И этот «снег», начинающийся по эту сторону, реальный, продолжается уже по ту сторону, ослепляя своей сверхреальной всенарастающей белизной…
Думаю, излишне приводить здесь какие-либо примеры из русской, европейской или мировой истории. Ее красноречивым мартирологам несть конца. Надо только помнить, что монолог «Белыми нитями тел…» спроецирован поэтом на все времена – прошлые, настоящие и будущие. Он будто видит сам и помогает увидеть нам, как от озябших, застывших т е л казнимых, падающих в р о в вместе со «снегом», вопреки довлеющей физике, исходят – высвобождаются – «сыплются» каким-то неизъяснимым «снегом» инобытия – их души («слова»). Прибавьте к этому патетический, возвышенно-заупокойный тон стиха: отталкиваясь от реальной к а р т и н ы р а с с т р е л а, знакомой еще по старым черно-белым кинохроникам с ускоренным движением кадра, наше воображение постепенно уподобляется рапидной киносъемке, замедляющей (упокаивающей) время запечатлеваемых событий, как бы стремящихся побороть в себе собственную же природу – временность, выходя за ее рациональные границы – в область «вечного настоящего» (“nunc stans” Фомы Аквинского).
В этом проявляется мотив вечной, всеохватывающей Божественной памяти. Приобщением к ней отмечены все одухотворенные «слова», все спасаемые «слова» без изъятия, включая нас, читателей необыкновенно талантливого произведения, духовной основой которого могло стать исключительно религиозно-творческое миросозерцание автора.
Без прямых конфессиональных или вероучительных отсылок, минимальными языковыми средствами им достигается переосмысление творимого в мире зла в иррационально-религиозном, тотально-промыслительном ключе, ставшем верным источником нового слова о мученичестве, столь ощутимо проникнутого умонастроением непререкаемой и неуязвимой веры чающего «воскресения мертвых, и жизни будущаго века»…
Уверен, даже несмотря на то, что предложенную интерпретацию вряд ли можно считать исчерпывающей и бесспорной, главный итог любого неповерхностного, если не конгениального прочтения этих восьми леденяще-обжигающих строк, сродни внезапно найденному катарсическому коду, будет неизменным, какими бы путями к нему не идти.
Список использованной литературы
1. Библейская энциклопедия. М.: ТЕРРА, 1991. С. 129.
2. Блок А. А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 4. С. 55.
3. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 19.
4. Галинская И. Л. Загадки известных книг. М.: Наука, 1986. С. 15–17.
5. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 68.
6. Лукаш И. С. Портреты (Лесков, Мережковский) // Человек. 1992. № 2. С. 140.
7. Пастернак Б. Л. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Художественная литература, 1990. Т. 3. С. 279.
8. Соловьев В. С. О лирической поэзии // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 399–401.
9. Кравцов К. П. Январь. М.: Э.РА, 2002. С. 20.
10. Ricœur P. Autobiographie intellectuelle. Paris: Esprit, 1995. P. 36.
Литературоведение
Юлия СЫТИНА. О некоторых особенностях «арифметики» Достоевского
Реализм Достоевского порою называют «фантастическим». Таким можно назвать и отношение писателя к «арифметике». У Достоевского, закончившего Инженерное училище и получившего хорошее математическое образование, были с ней особые отношения, что нашло отражение и в поэтике его произведений. К вопросу об «арифметике» Достоевского так или иначе обращались многие исследователи, выделяя различные ее истоки, делая те или иные акценты в зависимости от предмета своих научных изысканий.
Почти одновременно с появлением Достоевского в литературе заявляет о себе и неэвклидова геометрия, открытия которой впоследствии неизменно будут сопоставляться с художественным миром писателя. К такому сравнению побуждает исследователей сам Достоевский: его герои то восстают против «математики» («подпольный» человек), то, напротив, апеллируют в философских исканиях к «арифметике» (Родион Раскольников) или к Эвклиду (Иван Карамазов). Наиболее распространенной, вероятно, можно считать точку зрения, согласно которой мировоззрение Достоевского и даже его поэтика во многом могут быть соотнесены с неэвклидовой геометрией, но никак не обусловлены ею: Достоевский идет своим путем, научные открытия только подтверждают его мировидение. Об этом так или иначе писали уже религиозные философы Серебряного века – В.В. Розанов [39, с. 97], Вяч. Иванов [38, с. 232–233], Н. Бердяев [2, с. 61–62], а затем Г.С. Померанц [37, с. 72–105], Е.И. Кийко [25], В.Е. Ветловская [5], В.Н. Захаров [22; 23], Б.Н. Тарасов [45], Ф. Хеффермель [53] и другие исследователи. Б.Н. Тихомиров отмечает, выражая, как представляется, наиболее распространенное мнение: «<…> познакомившись с идеями неевклидовой геометрии, писатель в кризисе традиционных математических представлений будет искать дополнительное подтверждение принципиальной невозможности рационального постижения “запредельной”, не вмещающейся в “земной закон” божественной истины» [47, с. 103].
Однако существует и иная точка зрения, распространенная по преимуществу вне достоеведения, согласно которой именно математические открытия повлияли на мировоззрение Достоевского. Её развивает, например, И.С. Кузнецова, размышляя о конфликте типов теоретической и практической рациональности в русской философии и науке XIX века. К его началу, как аргументированно пишет исследовательница, в русском обществе сформировался «тип рациональности, в основе которого лежали принципы классической физики, нормы доказательности научных утверждений, выработанные в математике XVII–XVIII столетий» [28, с. 8]. Одним из главных постулатов этого подхода, имеющего не только абстрактно-теоретическое, но и онтологическое и даже этическое измерения, было убеждение в том, что параллельные прямые не пересекаются. И.С. Кузнецова приводит суждения Л. Эйлера, согласно которым «даже если» традиционное учение не может быть неопровержимо доказано, оно должно быть сохранено, поскольку из него «не только не проистекает никаких неудобств, но более того, из противоположной гипотезы родится очень много противоречий» [28, с. 8].
Любопытно, что похожая логика затем появится и у либералов с радикалами на «незыблемость» прогрессивных экономических теорий и политических идей века. С такой точки зрения будут критиковать и Достоевского [см.: 17; 22; 27]. Сам же писатель заметит устами рассказчика в «Подростке», что «здравый смысл» отличается от «реализма»: «Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что он слеп» [10, с. 115]. В скобках можно заметить, что «здравый смысл» у Достоевского (да и у некоторых других русских писателей) зачастую приобретает отрицательные коннотации, связанные с ограниченностью и поверхностностью отсылающего к нему человека [см.: 7, с. 45–46; 42, с. 133]. Широко известны и другие высказывания Достоевского о «реализме»: «<…> то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив» [13, с. 19]; «Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала – это все еще пока для человека фантастическое» [11, с. 145].
«Концы и начала» были фантастичны и для эвклидовой геометрии, расширять понятия которой начинает в 1830-е годы уже новая, неэвклидова. Одним из ключевых в развитии этого методологически нового подхода стало имя Н.И. Лобачевского, которому удалось при помощи «неевклидовой» геометрии как получить «уже известные интегралы, что означало выполнение новой теорией функции объяснения известных математических фактов» [28, с. 11–12], так и предсказать новые. И вновь напрашивается ассоциация с оценкой Достоевским своего художественного метода: «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики <…> Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось» [12, с. 329].
Симптоматично, и тем отчасти может быть дополнительно оправдана проведенная аналогия, что как против Достоевского («Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться» [54, с. 742]), так и – причем не менее яростно – против Лобачевского и его последователей («совершенно бессмысленная чепуха» [55, с. 185] – о математике Г. Гельмгольца) обрушился Н.Г. Чернышевский, смотря на научные открытия «эвклидовым», совершенно уверенным в собственной непогрешимости умом. Парадоксально, но и по-своему закономерно, что, позиционируя себя передовым радикалом, Чернышевский на деле оказывается отстающим, не способным понять новые научные открытия, поскольку они, вероятно, неизбежно пошатнули бы его самоуверенность в решении социальных проблем. Однако стоит заметить, что если взгляды критика на математику уже давным-давно стали фактом истории и потеряли актуальность, то в гуманитарной сфере, в литературоведении и преподавании литературы наблюдается порою явное запаздывание [см.: 3].
Кузнецова в реакции Чернышевского на положения неэвклидовой геометрии усматривает пример «феномена запаздывания» [28, с. 15] общества, не сразу готового принять и осмыслить научные открытия из-за кажущейся несовместимости их со «здравым смыслом». Исследовательница видит важную заслугу Достоевского в том, что он сумел постичь суть «неэвклидовой» геометрии (как полагает Кузнецова, при помощи С.В. Ковалевской), и уже «после великого произведения Ф.М. Достоевского («Братьев Карамазовых». – Ю.С.) и широкая общественность проявила готовность к восприятию новых идей» [28, с. 16].
Однако насколько правомерно писать о такой «вторичности» Достоевского? Полностью ли дело в математических открытиях, и действительно ли они изменили мировидение писателя, ведь истоки его философии гораздо древнее? Еще до возможных разговоров с Ковалевской о математике Достоевский пишет «Записки из подполья», герой которых восстает против «законов» общепринятой науки, хотя еще без ссылки на Эвклида. Более того, в свою очередь Достоевский окажет воздействие на развитие не только философской, но и научной мысли – широко известно признание Эйнштейна в том, что именно Достоевский оказал на него ключевое влияние [см.: 4]. В свете этих соображений более взвешенной представляется позиция целого ряда исследователей, указанных в начале статьи, согласно которой открытия в математике только подтверждали мировоззрение писателя, но не влияли на него.
Интересно, что с развитием математики и философского ее осмысления появляются и новые суждения об «арифметике» Достоевского. Так, В. Губайловский соотносит взгляды писателя с возникшим уже в конце XX века «математическим платонизмом», согласно которому, по определению Р. Пенроуза, «математики действительно открывают истины где-то уже существующие, реальность в значительной степени независима от их деятельности» [7, с. 66–67]. Достоевский, с точки зрения Губайловского, «относится к математическим объектам так же, как Пенроуз, – он принимает реальность бесконечности, он видит треугольник Лобачевского» [7, с. 67], и при этом «стремится к последней строгости и аксиоматической точности в рассуждении» [7, с. 67].
Исследователей интересуют и конкретные числа в творчестве Достоевского [например: 5; 23; 48]. В.Н. Топоров, занявшись статистическим подсчетом чисел в «Преступлении и наказании», нашел их «огромное количество» [49, с. 209]. По мнению исследователя, Достоевский, с одной стороны, подобно Рабле «десакрализует, дисгармонирует архаичные представления об элементах числового ряда» [49, с. 209], но с другой – у него «обнаруживаются и следы мифопоэтической концепции числа» [49, с. 210]. В результате анализа многих числовых рядов в романе Топоров приходит к выводу: «<…> сакральный аспект чисел, противопоставленных профаническим числам, годным лишь для “низкой жизни”, снова возвращает нас к архаичным схемам мышления и, в частности, к практике ритуальных измерений основных параметров мира. И у Достоевского число введено в мир и определяет не только размеры, но и высшую суть его» [49, с. 211; курсив Топорова. – Ю.С.].
Нужно отметить, что проблема связи Богопознания и математики возникла еще задолго до Достоевского: в античные времена ярчайшим ее представителем был Пифагор, в христианской культуре к математическим формулам в их связи с доказательством бытия Божия обращались Фома Аквинский [52, с. 95], Николай Кузанский [33, с. 64–66], Аврелий Августин, Рене Декарт и другие мыслители [см.: 4; 32]. В целом традиция доказательства бытия Бога через незыблемость математических исчислений характерна именно для католицизма. Православию же больше свойственна иррациональность, выход за пределы формальной логики. Показательно, например, что Николай Кузанский – пусть не прямо, но косвенно – выступил против томизма, «вышел за пределы аристотелевской логики, а также космологии и физики» [44, с. 13], именно благодаря тому, что «побывал в православной Византии, где имел возможность читать греческие рукописи и познакомился с неоплатонизмом» [4, с. 34].
Как замечает В. Губайловский, «и Спиноза, и Декарт, и Лейбниц, и Шеллинг предпринимали попытки сведения философского рассуждения к математической форме», но эти пробы, по мнению исследователя, «выглядят не слишком убедительно», в частности, поскольку «объекты, которыми оперируют философы, – содержательны», а «если в доказательство включается содержательная интерпретация, это сразу приводит к парадоксу» [7, с. 54]. Замечено это было уже в XIX веке, но тогда еще не представлялось столь самоочевидным. Так, В.Ф. Одоевский в «Русских ночах» пишет о ложности «искусственных систем, которые, подобно гегелизму, начинают науку не с действительного факта, но, например, с чистой идеи, с отвлечения отвлечения» [34, с. 136; курсив Одоевского. – Ю.С.].
В науке XX века (в том числе в так называемых «точных» науках) наблюдается массовый отход от казавшихся ранее незыблемыми «очевидностей». Например, о. П. Флоренский в работе «Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях» развил «анти-кантовскую» гипотезу Н.И. Лобачевского о том, что «разные явления физического мира протекают в разных пространствах и подчиняются, следовательно, соответственным законам этих пространств» [51, c. 82]. Рассуждая о «кривизне» пространства, Флоренский теоретически обосновал условность известного определения прямой как «кратчайшего расстояния между двумя точками» [см.: 51, c. 81–110].
Об абстрактности, и потому условности, научных «истин» размышляет А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа», говоря о «мифологичности» науки и заявляя, что «мифологична» «не только “первобытная”, но и всякая» [29, c. 45] наука. Так, вся «механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства» [29, c. 45], что Лосев прямо называет «мифологией нигилизма», ибо этот «однородный» ньютоновский мир «абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира» [29, c. 45]. «Что это как не черная дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом», – пишет далее Лосев, прямо отсылая к представлениям Свидригайлова о «вечности» [9, с. 221]. Для русского философа открытый Эйнштейном «принцип относительности», помимо прочего, «снова делает возможным <…> чудо» [29, c. 48]. Лосев подчеркивает (выделяя курсивом), что «сущность чистой науки заключается только в том, чтобы поставить гипотезу и заменить ее другой, более совершенной, если на то есть основания» [29, c. 53]. И потому «дело физика показать, что между такими-то явлениями существует такая-то зависимость. А существует ли реально такая зависимость и даже само явление, будет ли или не будет существовать всегда и вечно такая зависимость, истинна она или не истинна в абсолютном смысле, – ничего этого физик как физик не может и не должен говорить» [29, c. 53; курсив Лосева. – Ю.С.].
Ложность подобных построений остро чувствовал и Достоевский. Пожалуй, наиболее известное, провокационное и неоднозначное обращение его к числам – бунт «подпольного» человека против формулы «2х2=4», которая становится эмблемой непреложности неких рациональных «истин». Герой «Записок из подполья» с возмущением опровергает доводы «положительной» науки и «здравого смысла»: «Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже всё хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица» [8, с. 119]. Сам подпольный человек как живой парадокс и нарушение всех рациональных представлений о homo sapiens служит лучшей иллюстрацией принципа: 2х2=5. Противно всякой «бытовой, эгоистической логике» [49, с. 143], которая в мире Достоевского соотносима с «эвклидовым» разумом и рациональным 2х2=4, ведут себя и другие его герои: Прохарчин, Раскольников, Мышкин, Дмитрий Карамазов… Вместе с тем, «“отходя” от Бога», герои Достоевского теряют духовную опору и подпадают под «идейное влияние рассудочного – самую коварную область, где “дважды два – четыре”, где нет чувств, нет веры, а только сухая арифметика “эвклидового разума” – особый дьявольский периметр, дающий уверенность и силу человеку превратиться в мерную единицу “всех вещей в мире”, жить без Бога». [31, с. 232].
Нежелание принимать 2х2=4 за истину в последней инстанции служит прекрасной иллюстрацией реализма «в высшем смысле» Достоевского. Рассматривая отношение писателя к этой формуле, В.Н. Захаров приходит к выводу: «Достоевский отрицал традиционную поэтику, которая основана на непреложности закона “дважды два четыре”. Дважды два пять – один из тех принципов его поэтики, который позволял ему выражать и доводить до читателя заветные идеи, в том числе возглашать осанну в горниле сомнений, утверждать вековечный идеал вопреки “математическим” опровержениям свободы, Бога, Христа» [23, с. 113]. В мире Достоевского 2х2=4 становится символом рациональности; 2х2=5 – тем нарушением очевидности, за которым скрывается иррациональное восприятие мира, вера в Божий промысел о человеке. По сути своей, эта оппозиция имеет глубокие корни в русской культуре и восходит к евангельским представлениям о «ветхом» Законе и новозаветной Благодати. Как отмечает И.А. Есаулов, в христианскую эпоху эта оппозиция пронизывает «все поле европейской цивилизации, однако с особой остротой» [19, с. 8] она проявляется именно в русской культуре. И потому не удивительно, что 2х2=4 подвергалось сомнению и до Достоевского: у И.С. Тургенева, В.Г. Белинского, В.Ф. Одоевского, А.А. Григорьева, Г.Ф. Квитки-Основьяненко [см.: 41].
