РА. Индийский путь северного бога
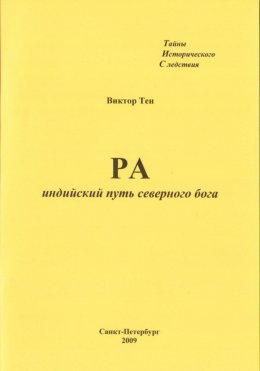
Загадочный бог Вед
В индуистском пантеоне с древнейших времен присутствует божество, удивительным образом обособленное от других сакральных сущностей. Это бог Рудра. Различия заключаются в следующем:
1. В «Ригведе» ему посвящены три гимна, в которых Рудра изображается молодым, сильным, быстрым, свирепым. У него твердые члены, спутанные волосы, прекрасные губы; он улыбается, как Солнце. Вместе с тем, он свиреп и разрушителен, как ужасный зверь (РВ, II, 33,11). Он – красный вепрь неба» (II, 33, 7) и бык, отец мира (VI, 49, 10), у него колесница, в руке – молния или палица, лук и стрелы (в «Атхарваведе» он не раз называется лучником)» (6).
При всем при этом Рудра – воинственный, могучий, юный и деятельный – никак не участвует в главной космогонической схватке: борьбе богов с Вритрой, в которой задействованы так или иначе все Боги, ибо это схватка творения. Подобная индифферентность была бы объяснима, если бы Рудра являлся поздним «пришельцем» в пантеон или сакральной сущностью, порожденной уже в ходе космогонии. Однако он – один из самых древних богов, присутствующих в пантеоне Древней Индии изначально.
2. Отсутствие Рудры в основополагающей мифологеме тем более странно, что ему, как никакому другому ведическому божеству, присуще такое качество, как амбивалентность. Он насылает болезни, разрушает, сжигает – и, в то же время, к нему обращаются молитвы об избавлении он болезней и бедствий.
Амбивалентность в той или иной степени является качеством именно демиургических божеств. Низшие божества, как правило, обладают определенными функциями с определенным знаком. Бог-демиург аморален в высшем смысле этого слова, от него исходит как добро, так и зло; как благо, так и наказание. Таким же качеством в ведической мифологии изначально отличался и Рудра.
3. В отличие от всех других богов древнеиндийского пантеона, жертвы Рудре приносились не на восточной, а на северной стороне, за пределами поселения людей (!), причем, они – подношения Богу – бросались на землю, как собаке.
4. Странно выглядит содержание жертв, приносимых Рудре: то, что неприлично было предложить другим богам – гнилые отбросы. При этом, кроме отбросов, временами Рудре приносили в жертву самое дорогое, включая принцев и принцесс.
Начало новой «биографии» Рудры
В сакральной «биографии» Рудры четко прослеживаются три периода: ведийский, брахманский и упанишадский.
В ведийский период Рудра связан со смертью («свиреп и разрушителен, как ужасный зверь»), но может и отвращать смерть: его просят о лекарствах, дающих долгую жизнь, его называют исцелителем и лучшим из врачей.
Оргиастические черты Рудры неотделимы от связываемых с ним представлений о плодородии и жизни. Он окружен зооморфными символами сексуальной силы. Оплодотворяющий дождь – одно из средств Рудры против слабости. К Рудре обращаются с просьбой: «да размножимся мы, о Рудра, через детей». О нем говорят: «Да создаст он благо нашему скакуну, здоровье барану и овце, мужчинам и женщинам, быку». С Рудрой связывают понятие жизненной силы…
Таким образом, Рудра соотносим со всеми членами комплекса «смерть-плодородие-жизнь»; недаром его называют Трьямбака, «имеющий трех матерей» (т.е. три космических царства). Преимущественные связи Рудры – с марутами, Сомой (в «Ригведе» еще и с Агни…). Жена Рудры – Родаси». (6). Нельзя не обратить внимание на то, как совсем «по-русски» звучит имя древнеиндийской богини.
Образ Родаси тоже многозначен. Ее имя производят от санскритского «rodas» – «земля». Она – «несущая удовольствия». Она простоволоса, длинноволоса, молода. Имя Родаси употребляется также в двойственном числе и означает при этом парный образ земли и неба. В таком контексте «родаси» являют собой двух юных дев (7).
В период брахман, основное содержание которого составляет переход от древнего, первобытного ведического вероисповедания к классическому брахманизму, происходит удивительная инверсия образа Рудры. Смысл этого преображения заключается в появлении рядом с именем Рудры такого эвфемического эпитета, как «шива» – «благой». Со временем «шива Рудра», «благой» Рудра», становится просто Шивой. Теоним «Рудра» становится фигурой умолчания, как, например, в русском именовании «Спаситель Христос» осталось только определение «Спаситель», которое само было впоследствии заменено редуцированным вариантом «Спас». Говоря «Спас», мы подразумеваем Христа. Впрочем, иногда уже и не подразумеваем, а уповаем на смысл, заключенный в самом слове «Спас». Так происходит речевой отказ от первоначального имени собственного, подсознательное затушевывание его в пользу актуального содержания, заключенного в эпитете, в нарицательном. Слово Спас начинает бытовать автономно, как имя собственное. При этом содержание, заключенное в нем, оказывается даже шире исходного. Мы говорим: «Спас зимний», «Спас летний»… Подставьте в данные выражения «Христос» вместо «Спас» – и получится бессмыслица, если не кощунство. Христос – это только имя. Спас – не только имя, но и понятие.
Теоним Шива общеизвестен. Но, как мы видим, он – отнюдь не имя собственное. Шива – изначально – эпитет Рудры. Это важный отправной пункт нашего исследования, равно как и важный отправной пункт религии брахман.
Знаковая инверсия (преображение Рудры-Шивы)
Под новым именем «Шива», Рудра входит в классический индуистский пантеон в качестве члена брахманской тримурти (троицы): Брахма, Шива, Вишну.
Интересно, что Шива борется с аскетами (10 000 аскетов наслали на него свирепого тигра, а Шива убил тигра и покорил аскетов своим танцем). Основным иконическим образом Шивы становится лингам (фаллос), установленный в йони (символ женского полового органа). Подобные каменные колонны распространены по всей Индии. С лингамом Рудры-Шивы связаны несколько легенд, которые свидетельствуют о борьбе членов тримурти за первенство.
В «Шатарудрии», гимне «Яджурведы» (TS. 4.5.1.-11; VS.16.1 – 66) говорится, как Брахма приказал Рудре творить. Строптивый Рудра оторвал свой фаллос и бросил его на землю. Лингам вошел в землю и превратился в огромный огненный столб, конца которого найти не смогли.
Данный гимн говорит о том, что Рудра – это на самом деле Бог-демиург, без помощи которого не мог обойтись сам Брахма, а также о том, как затруднительна была его адаптация к формировавшейся новой религии – брахманизму – с верховным Богом Брахмой во главе. Неоднозначны отношения этого божества с Брахмой, когда Рудра уже под именем Шивы вошел в брахманский пантеон.
В «Махабхарате» мудрец Упаманью говорит, что знак творения – не лотос (эмблема богини Лакшми), не диск (эмблема Вишну), но лингам и йони и потому Шива – верховный Бог и творец мира.(XIII, 14, 33).
Согласно другому мифу, отраженному в пуранах, «во время спора Брахмы и Вишну, кого из них почитать творцом, перед ними вдруг возник пылаюший лингам необозримой величины. Пытаясь
найти его начало и конец, Вишну в виде кабана спустился под землю, а Брахма в виде гуся взлетел в небо, но оба не достигли цели. Тогда они признали Шиву величайшим из богов» (1).
Суть инверсии образа Рудры-Шивы в период брахман заключается в следующем: Рудра изначально являет собой разрушительную силу. Рудра может «отменить» эпидемию или стихию, потому что он же их и насылает. Шива изначально благ, но может разгневаться, – и тогда берегись. В этом главное содержание смыслового переворота от Рудры к Шиве, совершенного в ходе нескольких веков развития древнего индоевропейского пантеона на полуострове Индостан. Рудра совершил Преображение.
Гнева Шивы боятся на только люди, но и боги. В «Махабхарате» рассказывается, что первоначально Шива был отстранен от жертвоприношений богов, но однажды, будучи не приглашен на жертвоприношение, в гневе уничтожил жертву и согласился восстановить ее лишь после того, как ему была обещана постоянная доля. (Мх, XII 283-4). В этом гимне прослеживается след древней изоляции Рудры.
Главная смысловая нагрузка образа Бога-разрушителя, без чего отождествление Рудры и Шивы становится бессмысленным, в период брахман была перенесена на такую функцию Шивы, как уничтожение мира и богов в конце каждой кальпы. Именно с этим связаны многие устрашающие черты иконического облика Шивы. Именно поэтому его постоянные спутники – злые духи и оборотни, сопровождающие Шиву в злорадном предвкушении того ужасного деяния, которое им предстоит совершить под главенством этого бога.
Под знаком Шивы: диалектический гиперпантеизм
В следующий период развития индуистской мифологии – период упанишад – сакральное значение Шивы возрастает до немыслимых пределов. Складывается особое течение в индуизме – шиваизм – в котором вопрос о том, кто самый главный из богов, решен окончательно и бесповоротно. Более того, формируется восточный пантеизм. При этом Восток, как всегда, заходит намного дальше Запада.
Западная форма пантеизма провозглашает (устами Спинозы, например), что Бог есть Универсум, Бог «во всем». Адепты Шивы говорят, что весь мир – в Шиве. Это более, чем пантеизм, это гиперпантеизм.
Шива ассоциируется с мировым древом. Утверждается, что при постижении его природы, достигается освобождение от сансары.
У человека, воспитанного в духе западной культурнорелигиозной традиции, не может не вызывать удивления факт, что прообраз Шивы – бог-разрушитель Рудра – иконически представал скорее привлекательным, чем отвратительным: он юн, у него «твердые члены», «прекрасные губы»… Наоборот, благой бог Шива ужасен, а если учесть, что короля играет свита, то в окружении клыкастых демонов, предвкушающих, как будут рвать людей и богов в конце света, Шива ужасен вдвойне.
Этот «кошмарный ужас» имеет тот же источник и природу, что и химеры, «украшаюшие» готические соборы. Западная церковь не дошла до того, чтобы изображать Спасителя во время Второго пришествия непосредственно в окружении химер, но каждый католик, идя в храм, прекрасно видит, какие жуткие создания будут терзать его плоть, если за грехи свои в ходе Страшного Суда он окажется ошуюю (т.е. по левую руку) Бога. Мы видим, что Восток опять зашел дальше Запада.
При этом вся теология достаточно логично выстроена, если иметь в виду, что это диалектическая, а не формальная логика. Восточное мышление диалектично в основах народного бытия, в первобытных представлениях, в мифологии, являющейся неотъемлемой частью жизни простых людей. Оно изначально диалектично, тогда как западный стиль мышления диалектичен «в верхах», в лучших достижениях своей философии. Например, в прекрасном, гармоничном, высокохудожественном (да!) учении Гегеля, который говорил: в моем учении нет ничего, чего нет в учениях Востока, но восточные мудрецы проникли в темную глубь, а я хочу проникнуть в ясную глубь.
Диалектика Запада, в отличие от восточной, не ядерная, это диалектика становления истины, а не истина в ее диалектике.
Инверсия моральная: «злой, но благой»; «благой, но злой»
Мифологический Рудра, безусловно, является в индуистском пантеоне фигурой чрезвычайной.
Об этом свидетельствует его изоляционизм в ранний, ведийский период, сочетающийся с удивительно большим, практически необъятным сакральным могуществом и разработанностью легенды уже в ведийский период.
