Альтернатива
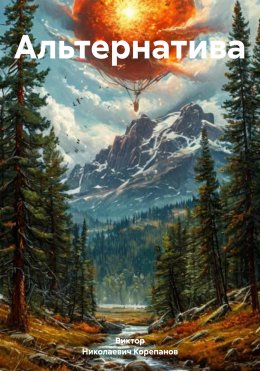
Это произведение – плод воображения. Некоторые персонажи имеют реальные имена и фамилии, принадлежащие реальным людям того времени, о котором идёт речь в книге. Однако их характеры, диалоги и поступки – это всего лишь плод фантазии автора. Любое сходство с реальными людьми или событиями – это случайность.
Пролог
Сегодня, 30 июня 2024 года, я праздную свой 75-летний юбилей в одиночестве. Так уж сложилась моя судьба, что я остался один.
Внезапно раздался стук в дверь. Я открыл её и увидел пожилую женщину-почтальона, которая протянула мне белый конверт.
– Вам телеграмма с уведомлением, – сказала она. – распишитесь в получении.
– Интересно, кто вспомнил обо мне? – подумал я, оставляя подпись на бланке.
Затворив дверь, я с волнением вскрыл конверт. Внутри обнаружилась открытка с видом на таёжное озеро и лаконичной надписью: «Поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого здоровья и ярких воспоминаний!».
Некоторое время я молча созерцал её, не веря своим глазам.
– Это же озеро Чеко! – воскликнул я, и в моей памяти всплыла картина охотничьей заимки, где произошла моя встреча с незнакомцем во время моего участия в последней Комплексной Самодеятельной Экспедиции. Об этой встрече я в то время ни слова не сказал друзьям, поскольку внезапно возникшая амнезия не позволила мне этого сделать.
И вот теперь, словно открылись шлюзы памяти, я вспомнил его рассказ, наполненный удивительными событиями из его жизни, и последние слова, произнесённые им при расставании: «Придёт время, и ты всё напишешь».
Я сел за компьютер и изложил всё о событиях прошлого, в которых я принял участие со своими друзьями в 1976 году. Об этих событиях я не сказал ни слова.
К сожалению, у меня нет документальных подтверждений его рассказа, но я уверен, что он правдив.
Часть 1.
Встреча на заимке у озера Чеко.
В преддверии лета, едва рассвело, город уже окутала духота. Я уже неделю находился в отпуске, и изнуряющая жара и духота городской жизни не давали мне покоя. Решение отправиться на рыбалку возникло внезапно, без предварительного планирования. После завтрака, стоя у открытого окна и услышал разговор двух пожилых жителей нашего дома.
– Нужно выйти пораньше и занять место, – сказал дед Ерофей (мой сосед по подъездной площадке). – А то молодые займут прикормленные места, и останемся без рыбы.
– Не стоит суетиться, Ерофей! – успокаивал его друг по рыбалке, дед Игнат, проживающий в нашем доме во втором подъезде. – На берегах Волги места хватит всем. Собирайся и выходи. Я тоже соберусь, но сначала проведу дома политическую беседу.
– Что ж, – размышлял я, – это воистину замечательная идея провести время на лоне природы в компании бывалых рыбаков, внимая их рассказам и вдыхая свежий речной воздух.
Пока старики собирались, я проворно упаковал в рюкзак провиант, бутылку водки и рыболовные принадлежности и присел на скамью у столика, где пенсионеры по вечерам коротали время за игрой в домино и делились новостями. Спустя полчаса они вышли из своих жилищ, и я последовал за ними.
– Здравствуйте, уважаемые аксакалы! Позвольте составить вам компанию на природе. К будущей ухе – мой вклад, произнёс я и потряс рюкзаком, из которого послышалось бульканье.
Деды переглянулись и приняли меня в свою компанию.
Автобус доставил нас до остановки «106 км». Мы спустились в луга и неспешно пошли по просёлочной дороге через редкий лес к Волге. Несмотря на свой возраст, они уверенно шли вперёд, обсуждая рыбацкие проблемы. За разговорами мы незаметно вышли к реке, и пошли вдоль берега, выбирая место для стоянки.
Я неспешно брёл по плотному песку вдоль берега, выискивая место для рыбалки. От реки веяло прохладой и запахом водной растительности. Мелкие волны ласково плескались у моих ног. В воде проворно сновали мелкие рыбёшки, скользя по песчаному дну в поисках пищи.
Наконец я обнаружил место с крутым склоном и подходящей глубиной реки и дед Ерофей стал неспешно готовить снасти к главному мероприятию – рыбалке. Он извлек несколько пар донок и аккуратно разложили их вдоль берега на песке, соблюдая дистанцию, чтобы при броске не запутать лески. Дед Игнат с топориком и отправился в тополиную посадку, где нарубил колышков для установки донок. Затем они глубоко вбили колышки в песок, привязали к ним свободные концы снастей и, для надёжности, покачали их. Убедившись, что даже сом не сможет вырвать их при сильном рывке, старики решили передохнуть и покурить.
– Давайте-ка лучше перекусим, – предложил дед Игнат, после перекура и расстелил импровизированную скатерть – детское зелёное одеяло – по песку. Затем они достали из своих сумок бумажные свертки и на развернутом одеяле разложили незатейливую снедь: пучки зеленого лука, брусок соленого сала и хлеб, вареный картофель и яйца. Я, молча, достал свои продукты и выложил на общий стол.
– Пузырь закопай в воду в песок, – посоветовал дед Ерофей. – К ухе, как раз остынет!
После полудня, немного передохнув, мы решили заняться рыбалкой, чтобы наловить к вечеру немного мелкой рыбы, которая послужит приманкой для щук и окуней. Быстро отрегулировали поплавки на нужную глубину, нанизали на крючки червей и забросили удочки в воду, стараясь закинуть леску с крючком, как можно дальше от берега.
Я присел на край склона и застыл в ожидании клёва. Расслабившись и погрузившись в размышления, и не заметил, как поплавок начал подпрыгивать, нырять и, не дождавшись моего внимания, рванул к островку из камышей.
– Подсекай! Чего спишь? – раздался зычный голос деда Ерофея, моего соседа по лестничной площадке, с которым я вызвался пойти на рыбалку.
Я вздрогнул от неожиданности и резким движением дёрнул удочку вверх. Раздался всплеск! И серебристая рыбка, сорвавшись с крючка, устремилась в густую траву позади меня. Дед Игнат, напарник деда Ерофея, не смог сдержать смеха и прокомментировал мои действия: «Вот это подсечка! А если бы на крючок попался лещ на пару килограммов? Удилище бы сломалось! Не зевай! Следи за поклёвкой! Ты зачем сюда пришёл?»
Я также не смог сдержать смех и бросился в погоню за добычей. Это была крошечная рыбка, размером с мой указательный палец. Она вяло трепетала хвостом и жадно хватала воздух широко раскрытым ртом. Мне стало жаль эту кроху, и я поспешил опустить её в воду. Несколько секунд она лежала неподвижно, брюшком кверху, а затем вдруг резко перевернулась, вильнув хвостиком и плавниками, и скрылась в глубине.
Мимо нас, приветствуя, проходили поодиночке и группами рыбаки, торопящиеся занять свои давно облюбованные места. Узкая песчаная коса, протянувшаяся на несколько километров, изгибалась между обрывистым берегом и руслом Волги, скрываясь за холмом. Она была излюбленным место всех городских рыболовов.
Близился вечер, и поток любителей рыбалки из города иссяк. Дед Игнат предложил прогуляться до соседей.
– А с этим, как быть? – кивнул я на оставляемые, на песке вещи и донки.
– Никто их не тронет, – махнул рукой дед Ерофим и добавил – Здесь все рыбаки, а не жулики.
И мы отправились на встречу с ближайшими соседями, чтобы узнать, как у них обстоят дела с уловом. Это были пожилые супруги, словно сошедшие со страниц сказки А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». Они обосновались здесь основательно. В крутом склоне виднелся вход в землянку. Чтобы попасть внутрь, нужно было подняться по трём ступеням, вырубленным в глине. Рядом с входом стоял стол с посудой, а перед ним – скамейка. Между столбами на натянутых верёвках висели гирлянды из вяленой, и свежей рыбы, особенно много было сомов.
Деды обменялись рукопожатиями с хозяином стоянки, а бабка лишь слегка кивнула нам и занялась своими делами.
– Ну, Марфа, ты даёшь! Лето только началось, а ты уже всех сомов выловила, – с лёгкой завистью сказал дед Игнат, разглядывая гирлянды из рыб.
– Так мой улов – только половина, – невозмутимо ответила бабка.
Пока деды обменивались любезностями, я присел на скамейку и заметил открытый мешок рядом. Заглянул внутрь и был поражён: мешок был полон красных дождевых червей. Баба Марфа подошла ко мне и зачерпнула червей ладонью.
– Сами выращиваем их всю зиму, – с гордостью сказала она. – Они у нас в погребушке живут. Им нужно только тепло и навоз. Весной, как только паводок сойдёт, мы с дедом приезжаем сюда и живём до сентября. Ох, люблю я сомов ловить!
Она умело насадила червей на крючки и забросила снасть в Волгу. Затем проверила натяжение лески и сказала: «Ловись, сом, большой и маленький!»
После непродолжительного пребывания в гостях мы вернулись на своё место и приступили к обустройству лагеря. Завершив все приготовления, мои спутники занялись ловлей рыбы. Я уступил место опытным рыбакам, а сам, пока они соревновались в своём мастерстве, исследовал окрестности и собрал внушительную охапку хвороста для вечернего костра. Ужение рыбы не представляло для меня особого интереса, и мне недоставало терпения, чтобы сидеть и ждать, когда же шевельнётся поплавок. Я отправился на реку вместе с пенсионерами-рыболовами, чтобы провести время на свежем воздухе и обдумать предложение моего друга Владимира о поездке к Подкаменной Тунгуске в поисках следов космического корабля пришельцев. Он получил образование в области физики и математики, в то время как я изучал биологию. Однако это не стало препятствием для нашего общения. Наше знакомство состоялось на туристическом слёте, когда мы были студентами. В рамках соревнований по спортивному ориентированию между вузами мы оказались в одной команде. Владимир признался мне, что его увлечение спортивным ориентированием было вызвано не столько любовью к этому виду спорта, сколько необходимостью. Он стремился подтвердить гипотезу А. Л. Казанцева о том, что в бассейне Подкаменной Тунгуски произошёл взрыв межпланетного космического корабля. После получения сертификата инструктора по туризму Владимир планирует организовать экспедицию на Подкаменную Тунгуску с целью поиска подтверждения этой гипотезы. Я относился к этой гипотезе с некоторым сомнением, хотя и были обнаружены некоторые факты, подтверждающие её, например, радиоактивные следы. Однако среди исследователей не было единого мнения о происхождении этих следов, поскольку после пятидесяти лет с момента этого события в нашей стране неоднократно проводились испытания ядерного оружия.
Однако мой друг Владимир предложил новую идею: на космическом корабле мог быть установлен не ядерный, а термоядерный двигатель. В результате взрыва не образовались изотопы, но в почве были обнаружены крупицы иридия, свинца и других металлов, которые в настоящее время используются в космической промышленности.
Эта мысль почти убедила меня. Осталось только одно – решиться на рискованное путешествие, имея ограниченные финансовые возможности.
День прошёл незаметно за рыбалкой и размышлениями. Солнце уже скрылось за туманной дымкой на горизонте. Ближе к ночи, когда спал полуденный зной, вдоль берега вспыхнули вереницы рыбацких костров. Подошли мои соседи с вёдрами рыбы и начали делить призовое место. Но так как рыбы в вёдрах были одинакового размера и количества, первое место единогласно присудили мне как первооткрывателю поклёвки.
В мгновение ока был разведён костёр. Я принёс половину ведра воды. Картошка и лук были быстро очищены, и старшие принялись за приготовление ухи. Каждый старался предложить свой неповторимый способ приготовления этого блюда. Я не вмешивался в жаркий спор, мне было всё равно, как её готовить, лишь бы она получилась вкусной.
Пока уха готовилась, я быстро организовал импровизированный стол на природе из маленького одеяла на песке и расставил на нём пластмассовые стаканчики, тарелки и ложки. Затем я нарезал хлеб и колбасу и поставил в центр стола бутылку водки. После того как мы насладились ухой, мы выпили оставшуюся водку. На троих это было совсем немного, но это стало отличным началом для долгой и приятной беседы.
Деды вспоминали свою молодость, повествуя о том, как они жили в разных уголках нашей необъятной страны. Но, достигнув преклонного возраста, они встретились и познакомились в нашем доме, где им были предоставлены квартиры. Их дружба началась на рыбалке.
– Вот здесь, на этом самом месте, – произнёс дед Игнат.
– Десять лет назад, – подтвердил дед Ерофей.
«Ты тогда был ещё совсем юн», – сказали они хором и взглянули на меня, словно пытаясь оценить, насколько я изменился с тех пор.
Во время беседы деды не забывали о рыбалке. Они закинули донки и проверили, насколько натянуты лески. Дед Игнат разровнял угли костра и засыпал их песком. Я с интересом наблюдал за его действиями. Он пояснил, что хотя лето и тёплое, но лежать на песке у реки может быть вредно для почек, а угли под песком сохранят тепло до утра.
Я расположился на покрывале, ощущая блаженное тепло, которое проникало в мою спину. Подложив под голову пустой рюкзак, я устремил свой взор в бескрайние просторы небесного свода, где уже начали мерцать первые звёзды. Вскоре из них образовались знакомые созвездия, вызывая во мне трепетные чувства. В такие моменты я всегда представлял, как вокруг этих далёких светил вращаются планеты, подобные Земле, и как кто-то, подобно мне, смотрит на небо в надежде на встречу.
Внезапно среди звёзд промелькнула яркая оранжевая искра и тотчас же исчезла.
– Это точно метеорит! – воскликнул дед Егор. – Смотрите, ещё один!
– Нет, – спокойно ответил дед Игнат, – это всего лишь метеоры, мелкие частицы космической пыли. Видишь, как быстро они вспыхивают и гаснут? Они слишком малы, чтобы представлять угрозу. Они сгорают в атмосфере быстро и без остатка. А вот метеорит…
– Откуда ты знаешь? – Удивился дед Ерофей. Я тоже посмотрел на деда Игната с удивлением.
В те далёкие времена, когда мне было всего восемь лет от роду, произошло нечто невероятное. Ранним утром меня разбудил лай и вой наших охотничьих собак. В чуме в тот момент не было взрослых: мать ушла на пастбище доить оленей ещё до рассвета, а отца несколько дней не было в стойбище. Он отправился в тайгу, чтобы проверить несколько стоянок, по которым мы кочевали в зависимости от времени года и нужд нашего стада.
Я вышел из чума, чтобы успокоить собак, и с ужасом увидел, как со стороны лесистых гор в небо взмывает второе солнце, ярче первого. Оно было настолько ярким, что глазам было больно смотреть. Затем раздался сильный грохот, подобный раскатам грома во время грозы. Такого грохота я никогда не слышал ни до, ни после, даже во время войны. К небу поднялся столб яркого огня, не сопровождаемый дымом. В деревенских домах в окнах зазвенели стёкла, задрожала земля под ногами, поднялся сильный ветер, который повалил, стоящие чумы и разогнал пасущихся оленей.
Меня отбросило в сторону, и я ударился боком о землю. Было очень больно и страшно. К счастью, я отделался лёгкими ушибами и царапинами. В тот момент, когда вокруг царила атмосфера всеобщей паники и страха, я не смог сдержать эмоций и разрыдался. Но когда ко мне подбежала моя мать, испуганная и взволнованная, я мгновенно успокоился в её объятиях.
Отец вернулся домой только через две недели после случившегося. Его одежда была порвана, лицо в ссадинах, а три оленя пропали. Он был чем-то сильно напуган, но никому ничего не рассказывал, даже матери, о том, что с ним произошло в тайге.
– А где это произошло? – Воскликнул дед Ерофей. Я с изумлением посмотрел на деда Игната, очевидца давних событий, ожидая подтверждения своей догадки.
В Сибири, неподалёку от торговой фактории Ванавары, расположенной на берегу Подкаменной Тунгуски, правого притока Енисея, находился небольшой посёлок, состоявший из нескольких жилых домов. В них жили работники фактории и приезжавшие купцы, целью которых была закупка пушнины. Также в посёлке располагались подсобные постройки, в которых находился приёмный пункт пушнины от охотников-эвенков и продуктовые склады.
Рядом с посёлком располагалось наше стойбище оленеводов, в котором стоял чум моего отца.
– Так ты эвенк? – удивился дед Ерофей.
– Да, – ответил дед Игнат. – Мать у меня русская, а отец – крещёный эвенк. Имя мне дала мать. У неё в детстве умер старший любимый брат. Хотя у нас, эвенков, не принято давать имена умерших родственников. Но отец так сильно любил мать, что согласился на это имя.
– Ты не сердись на меня, – смущённо произнёс дед Ерофей.
– Да что ты, – успокоил его дед Игнат. – Имя у меня русское, а вот внешность и правда не похожа на отцовскую. Но ведь на лбу человека не написано, кто он по национальности.
Я разрядил неловкое молчание вопросом:
– Дед Игнат, а ты когда-нибудь был на месте падения метеорита?
– Нет, – ответил он. – Это страшное событие произошло в тайге, в шестидесяти километрах от нашего стойбища в Ванаваре. Великий Шаман запретил эвенкам ходить туда, чтобы не тревожить сошедшего с небес бога Агды – грома, молнии и огня. Со временем я забыл о пережитом в детстве страхе. У меня было много других забот: часто приходилось менять стоянки, заготавливать дрова на зиму, собирать ягоды, ловить рыбу и охотиться. Зимой мы занимались пушным промыслом. Отец научил меня всему, что знал и умел сам. В пятнадцать лет я уже был самостоятельным охотником, а тайга стала для меня родным домом. К тому времени отец сильно постарел. Они с матерью перешли, как у нас говорят, к оседлому образу жизни. Поселились на постоянное место жительства, на стойбище. Зимой я обеспечивал родителей пушниной и мясом. Любимым блюдом родителей на завтрак была строганина из медвежьего мяса. Летом мать занималась получением сгущённого молока – моколдо, и сбором ягод. Молоко, смешанное с ягодами – монты, считалось у нас лучшей пищей в летнее время. Иногда мы навещали родственников отца, которые постоянно кочевали по тайге.
В апреле 1927 года в Ванавару прибыли люди с Большой Земли, ведомые целью найти проводника, который помог бы им отыскать в тайге место, где, по их утверждениям, упал огромный камень. От начальника экспедиции, чья фамилия звучала как-то по-птичьи, я узнал подробности о небесных камнях.
– Кулик Леонид Алексеевич, – подсказал я.
– Точно. Он предлагал охотникам заключить соглашение об участии в экспедиции проводниками в обмен на продукты, но все отказались. Боялись мести бога – Агды. Кто-то посоветовал обратиться за помощью к моему отцу, но он наотрез отказался, сославшись на возраст и здоровье. Я хотел предложить свои услуги, но отец запретил. А мне так хотелось увидеть место, где с неба упал огромный камень, который напугал меня в детстве.
После долгих уговоров согласился Лючеткан, старый оленевод, работающий на фактории. На следующий день после прибытия на факторию начальник экспедиции вместе с ним и одним рабочим на лошадях отправились к поваленному лесу.
Наша семья также покинула факторию, но в другом направлении. На первой же стоянке, когда мы остановились на ночной отдых, я обратился к отцу с вопросом: «Почему ты отказался от приработка? Мы бы пошли вдвоём и получили порох и патроны, хлеб, сахар, чай?»
Отец присел у разожжённого костра, немного помолчал и поведал мне о том, что произошло с ним в тайге, когда он возвращался домой: «Возвращаясь, домой, я решил сократить путь и направился по склону каменистого гребня, который окружал озеро Чеко. Олени шли медленно, утомлённые долгим переходом. Я не торопил их. Солнце только-только показалось над лесом. Воздух ещё не успел прогреться, и комары не беспокоили оленей. Они неспешно щипали свежую траву. Вдруг они остановились, насторожились и разом повернули головы в сторону восходящего солнца. Мы уже поднялись на вершину, когда внезапно с ясного и солнечного неба раздался гром. Я огляделся, пытаясь понять, откуда доносится этот страшный звук, но не мог найти его источник. Стоя на голом скалистом склоне, я осматривал окрестности. Гром становился всё громче, и вдруг я увидел над собой огромный шар – второе солнце. Оно приближалось ко мне, издавая уже не гром, а пронзительный вой. Я отшатнулся и внезапно увидел впереди себя, метрах в десяти, как из зарослей появилась размытая фигура человека. Два солнца слепили глаза, и я видел только её очертания. Он кричал, размахивал руками и топал ногами, и вдруг раздался страшный грохот, и в небо поднялся столб огня. Земля под ногами задрожала, лес вспыхнул, и деревья начали падать. Сильный ветер сбил меня с ног и понёс вниз по склону в густой кустарник, который смягчил моё падение. От сильного удара о ствол дерева я потерял сознание. Когда я очнулся, то с трудом поднялся на ноги. Голова кружилась, и меня слегка подташнивало. Я оглянулся. Оленей не было. Вещи, которые они везли, были разбросаны в разные стороны. Я посмотрел в сторону озера. Тайга до самого горизонта была повалена на землю, над упавшими деревьями металось пламя. Всё вокруг было покрыто дымом и мглой.
К вечеру я нашёл двух оленей из пяти. Остальные пропали. Из-за слабости и головокружения я не мог идти. С трудом сев на оленя, я отправился в путь. Я не понимал, куда направляю оленей, или они сами выбирали дорогу. Ночевал под старой елью прямо на земле. Наломать хвои не было сил, да и топор пропал. Чтобы согреться, я лёг между оленями, связав им ноги, чтобы они не убежали ночью. Утром я вышел к стоянке охотника. Хозяином стоянки оказался шаман Фёдор Полигус из рода Купогир.
Несколько дней я приходил в себя в чуме шамана с его помощью. Когда я окреп, то рассказал ему о том, что видел. Оказалось, что Фёдор тоже был свидетелем огненного шара, но находился на несколько километров дальше меня. Когда я рассказал ему о человеке, который появился на краю обрыва, и о том, как он кричал, размахивал руками и подпрыгивал, шаман сначала замер от удивления. Затем он бросился в чум и вернулся с бубном в руках. Он закружился вокруг меня, издавая горловые звуки и выбивая ритмичные удары в бубен. Я растерянно сжался в центре круга. Шаман камлал целый час, затем шумно вдохнул и выдохнул воздух и без сил упал на траву. На его губах выступила пена. Глаза были открыты, но зрачки закатились под веки. Я стоял и не знал, что делать.
– Это был бог – Агды! – Внезапно прохрипел он. – Я закрыл тебя от его взгляда. Больше никогда не ходи на то место, иначе ты умрёшь!
В благодарность за всё я отдал ему одного оленя и вернулся домой».
Вскоре после кончины отца моя мать решила вернуться в родные края. Она была уроженкой Красноярской губернии, и я не мог оставить её одну.
– Дед Игнат, – не смог я удержаться от вопроса, – а куда делся увиденный тобой человек? Как ты думаешь, кто это был?
– А кто его знает, – сказал он и помолчав добавил, – скорее всего, охотник из русских. Одет он был не по нашей традиции.
Деды немного помолчали, а затем, словно сговорившись, поднялись и пошли осматривать снасти. Я уснул, и мне ничего не снилось.
Но после этой ночной рыбалки мысль о посещении эпицентра взрыва Тунгусского метеорита на загадочной таёжной реке Подкаменная Тунгуска прочно засела в моей голове.
На следующий день я направился к Владимиру. Он был не один – с ним были двое товарищей, и они обсуждали план предстоящей экспедиции.
– Решил? – Спросил он, не дожидаясь ответа, и указал на свободный стул. – Садись.
Я сел за стол, на котором лежали бумаги и карты.
– Это мой друг Андрей, – представил меня Владимир.
– Александр! – протянул мне руку крепкий парень с развитой мускулатурой, сидевший рядом со мной.
– Денис! – протянул мне руку для рукопожатия парень хрупкого телосложения, сидевший напротив.
– Сможет ли он нести рюкзак? – подумал я, и в этот момент мои пальцы хрустнули в руке соседа.
– Ох, извини! «Не рассчитал», – сказал он, быстро отпуская мою руку.
– Ну что, знакомство состоялось. «Перейдём к моему плану», – сказал Владимир. – Нам необходимо войти в состав КСЭ, иначе нам не попасть на тропу Кулика.
Мы с удивлением посмотрели на него.
– Вам не доводилось слышать о Комплексной Самодеятельной Экспедиции? – С неподдельным изумлением вопросил он. – Это же уникальное общественное объединение, базирующееся в Томске, которое занимается исследованием Тунгусского метеорита!
Короче говоря, я связался с руководителем КСЭ, Васильевым Николаем Владимировичем, и он одобрил наше участие в экспедиции. Но поскольку это самодеятельная экспедиция, которая не оплачивается, все расходы на наше участие мы должны взять на себя: проезд до Красноярска и обратно, деньги на питание и другие непредвиденные расходы. Иными словами, каждый участник экспедиции обеспечивает себя сам. Я понятно объяснил? Кто не хочет участвовать – может быть свободен.
Желающих отказаться от путешествия не нашлось, и мы приступили к обсуждению предстоящих расходов. Владимир с удивительной скоростью составил список необходимых покупок и объявил: «Я всё подсчитал. На двести рублей мы можем приобрести самые необходимые продукты, которые не портятся: тушёнку, сгущёнку, рыбные консервы, крупы, чай и макароны и так далее. Каждый из нас вносит по пятьдесят рублей. Остальные деньги пойдут на транспортные и другие непредвиденные расходы».
– Откуда взялись эти деньги? – Спросили мы в унисон?
– Как организатор данного мероприятия, – с улыбкой ответил Владимир, – я получил командировочные через отдел культуры и спорта в городском совете на организацию спортивного туристического маршрута «Ванавара – район падения Тунгусского метеорита». Некоторые предприятия города также оказали материальную помощь. Все чеки и билеты я буду сдавать. По окончании путешествия я отчитаюсь за все расходы.
Мы потратили пару дней на сборы. Я тщательно подготовился к экспедиции. В рюкзак я положил предметы первой необходимости: несколько комплектов нижнего белья, зубную пасту и щётку, бритвенный набор, средство от комаров, катушку чёрных ниток и пару иголок, а также аптечку. Мало ли что может произойти в пути: я могу промокнуть или порвать одежду, а переодеться или зашить дырку будет нечем. Поэтому я также взял с собой свитер и пару шерстяных носков, фонарик с запасными батарейками, спиннинг, туристический топорик и сапёрную лопатку. Оставшееся место в рюкзаке я заполнил продуктами, которые купил Владимир.
Мы тщательно изучили маршрут от Ванавары до места падения метеорита, используя первоисточники. Денис занялся приобретением билетов на поезд «Адлер – Красноярск».
Настало время отправляться в путь. Я вышел из дома и столкнулся с дядей Игнатом.
– Привет, романтик! – Воскликнул он, и добавил, – отправляешься за приключениями? Хочу предупредить, не расспрашивай эвенков о боге Агды. Это может плохо кончиться. Шаманы не любят такие вопросы. Счастливого пути!
И он ушёл, не оборачиваясь. Я стоял в замешательстве, поражённый проницательностью деда Игната, но совет его принял к сведению.
* * *
Итак, 20 июня 1976 года мы отправились в нашу экспедицию на поезде «Адлер-Красноярск», который отправлялся с Куйбышевского вокзала в 01:03 по московскому времени.
– До отправления поезда ещё больше часа, – сказал Вадим, посмотрев на свои наручные часы. – Значит, посидим на вокзале.
Мы закинули рюкзаки за спину и направились в зал ожидания. Найдя свободные места, я с облегчением сбросил свой груз и подумал: «Смогу ли я с такой ношей преодолеть восемьдесят километров по тайге? Я ведь уже два года не ходил в походы».
Время до посадки пролетело незаметно. По громкоговорителю объявили: «Внимание! Начинается посадка на скорый поезд номер сорок семь. Порядковые номера вагонов идут с головы поезда».
Денис первым поднялся с кресла, подхватил свой рюкзак: «Ну что сидите? Пошли». Бросил он через плечо и направился к выходу из зала ожидания.
– Куда торопишься! – Воскликнул Владимир. – До отправления поезда ещё двадцать минут.
– Наш вагон предпоследний, – напомнил ему Андрей и пошёл за Денисом.
Возле десятого вагона, в который у нас были билеты, стояла стройная проводница в фирменной одежде. Вадим протянул ей наши билеты.
– Места занимайте согласно купленным билетам, – звонким голосом объявила проводница. – Билеты потом проверю.
В проходе вагона тускло светились матовые плафоны. Мы быстро прошли к своим местам, стараясь не задеть спящих пассажиров на верхних полках. Поместив багаж под столиком вагона, мы сели на свои места, и я стал и краем глаза рассматривал идущих пассажиров по вагону. Их лица выражали крайнюю степень усталости и безразличия, и ни один из них не проявлял интереса к тому факту, что вместе с ними едут исследователи Тунгусского метеорита.
«Возможно, они никогда и не слышали о нём», – подумал я.
Вскоре подошла проводница и сделала нам замечание: «Рюкзаки поставьте под спальные места». Затем она проверила, все ли пассажиры на своих местах, и забрала их билеты.
– Верну перед прибытием на место назначения, – успокоила она пожилых людей и командированных, которые беспокоились, что остались без билетов.
В этот миг состав дёрнулся, и я, устремив взор в окно, увидел, как платформа, на которой толпились провожающие, медленно отдалялась, а они, размахивая руками, провожали взглядом удаляющийся поезд. Спустя несколько минут нашему взору предстали пустующие рельсы, пакгаузы и склады. На одном из запасных путей сиротливо стояли грузовые вагоны. Скорый поезд «Адлер – Красноярск» стремительно набирал ход.
По завершении маршрута по станциям Куйбышевской области мы приступили к ужину несмотря на то, что время уже перевалило за полночь. В ход пошли рыбные консервы и чай.
По завершении ночного ужина мои спутники незамедлительно погрузились в сон, в то время как я, устроившись на верхней полке, предавался созерцанию ночных пейзажей, открывающихся за окном. Мимо проносились дома с мерцающими окнами, деревья, колхозные поля сменялись степью и небольшими лесами. Картины чужой жизни за окном сменялись с такой быстротой, что я начал ощущать усталость и погрузился в глубокий сон под ритмичный стук колёс поезда и едва не проспал столицу Башкирии, Уфу, которая возвышалась над железной дорогой на холмах.
Пробудился я от голоса проводницы, возвестившей: «Граждане пассажиры! Через тридцать минут – станция Уфа! Стоянка двадцать минут!»
Я вместе с остальными пассажирами вышел из вагона, чтобы с перрона окинуть взглядом столицу Башкирии. В детстве мне часто приходилось проезжать через неё на автобусе, направляясь на всё лето в деревню к бабушке, матери моего отца. Несомненно, Уфа с каждым моим приездом претерпевала значительные изменения. В настоящее время на месте старого вокзала возвышалось современное здание, а на полупустых холмах появились многочисленные многоэтажные дома, чьи окна были ярко освещены.
После отбытия от Уфы, поезд в течение дня пересекает несколько небольших рек по железнодорожным мостам, а ночью, когда мы спали, проехал станцию Златоуст и границу между Европой и Азией. К сожалению, нам не удалось увидеть каменный столб, на одной стороне которого написано «Европа», а на другой – «Азия», даже если бы мы не спали, поскольку он находится в пяти километрах от Златоуста. За этой станцией, оставшейся в Европе, последовал азиатский город Челябинск, так как он находился на территории Азии и вот, 23 июня, в девять часов утра по местному времени, мы прибыли на станцию «Красноярск-Пассажирский».
Мы вышли из центрального входа вокзала на привокзальную площадь, где нас встретила толпа пассажиров. В центре площади возвышалась стела, украшенная геральдическими символами – гербом Красноярска, с изображением льва, серпа и молота. Люди с чемоданами, сумками и баулами медленно обходили стелу и направлялись к стоянке такси и автобусов. Наша цель – добраться до аэропорта «Емельяново».
Путь до Подкаменной Тунгуски, которая стала известна на весь мир после падения неподалёку от неё Тунгусского метеорита, начинался с посёлка Ванавара. Добраться туда из Красноярска можно было только на самолёте, поскольку в то время не было других видов транспорта из-за отсутствия дорог. Вся местность представляла собой сплошные водоёмы и болота. В этом посёлке нас уже ждали члены комплексной самодеятельной экспедиции.
Вначале Денис и Владимир обращались к прохожим с вопросом: «Не могли бы вы подсказать нам, как добраться до аэропорта «Емельяново»?
– Не знаю, я здесь недавно, – ответил идущий мимо мужчина с чемоданом.
– Спросите у таксистов, – посоветовала женщина, нагруженная большой сумкой.
– Нет, – покачал головой Александр, – лучше обратиться к местным жителям.
Я услышал звук каблучков и обернулся. Ко мне приближались две девушки, направлявшиеся к вокзалу.
– Вы не подскажете… – начал я.
– Автобус в «Емельяново» отправляется с автовокзала, – на ходу ответила одна из девушек.
– Вот автобус, направляющийся на автовокзал, – с улыбкой произнесла её подруга, указывая рукой на сине-белый автобус, который находился неподалёку от нас на остановке.
– Спасибо, солнышко! – Поблагодарил Денис и поинтересовался. – А как вы узнали, куда нам нужно?
Девушка остановилась:
– Вы немного ошиблись. Меня зовут Света. Обычно с такими рюкзаками к нам приезжают те, кто ищет следы Тунгусского метеорита. Они все ищут аэропорт. Удачи в поисках!
Девушки рассмеялись и скрылись за дверями вокзала, а Денис всё стоял и смотрел им вслед, повторяя, как заведённый: «Вот бы познакомиться. Вот бы познакомиться».
– Познакомишься на обратном пути, – прервал его Владимир и взял свой рюкзак.
Как только мы заняли свои места в автобусе, он сразу же тронулся с места и через двадцать минут, петляя по улицам города, доставил нас на автовокзал.
После недолгих поисков мы купили билеты до аэропорта «Емельяново» и через час благополучно покинули Красноярск, так и не успев его толком осмотреть. В моей памяти о старинном сибирском городе остались только красивый вокзал и площадь со стелой.
Мы совершили перелёт из аэропорта «Емельяново» в Ванавару на борту воздушного судна Ан-24Б. Погода была великолепной, и воздушное судно плавно поднялось ввысь, взяв курс. Я смотрел в иллюминатор величественное зрелище, от которого захватывало дух. Под крылом самолёта проплывали облака, напоминающие белоснежную вату. Иногда в их толще возникали просветы, и тогда моему взору представала картина, от которой захватывало дух: тёмно-зелёная тайга, голубые жилки рек, сверкающие под солнцем озёра и тень, бегущая по земле от нашего самолёта. Но вскоре пейзаж за окном изменился. Облака обратились в необозримую снежную равнину, испещрённую острыми гребнями, и я, откинувшись в кресле, смежил веки. Мерный гул моторов клонил ко сну, и я погрузился в полудрёму.
Проснулся от голоса стюардессы: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пристегните ремни! Через двадцать минут наш самолёт приземлится в аэропорту Ванавара! Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки двигателей!»
По-прошествии десяти минут самолёт совершил резкий крен, и я ощутил, как закладывает уши. Пол словно ушёл из-под ног. За иллюминатором воцарилась темнота, мы вошли в плотные облака. Вскоре облака остались позади, и моему взору предстала буро-зелёная равнина, по которой тянулась взлётно-посадочная полоса.
Мягкая посадка – и вот мы в Ванаваре!
Самолёт остановился неподалёку от здания аэропорта. Пассажиры зашевелились в своих креслах. Из кабины вышел пилот, не удостоив нас взглядом, проследовал в хвост самолёта и открыл дверь-лесенку.
Мы покинули воздушное судно, забрали свои вещи и направились к выходу. Там нас уже поджидал молодой человек, несколько старше нас.
– Виталий, – представился он, приветствуя каждого из нас рукопожатием. – Мы рады, что вы решили присоединиться к нашей группе. В этом году желающих было немного, с вами нас будет двенадцать.
В Ванавару мы отправились на небольшом автобусе, марку которого, к сожалению, не запомнил. От аэродрома до посёлка всего лишь километр по местным меркам. Дорога представляет собой обычную грунтовую дорогу, и в дождливую погоду, вероятно, будет сложно по ней ехать.
Мы въехали в посёлок. Я сидел позади водителя и внимательно рассматривал улицы, по которым мы проезжали. Это был типичный таёжный посёлок, районный центр. Деревянные дома чередовались с кирпичными двухэтажными зданиями. Жизнь в посёлке шла своим чередом, и его жителей не волновала нераскрытая тайна Тунгусского метеорита.
Автобус доставил нас к гостинице, где уже собрались все члены Комплексной самодеятельной экспедиции. Мы заняли один из свободных номеров. Руководитель экспедиции нас не встречал. Он был занят подготовкой к экспедиции.
– В Ванаваре, – объяснил Виталий, – организация выхода к объекту исследования – сложный процесс. Здесь глухая провинция. Быстро найти нужных людей, собрать все документы для выхода в тайгу и договориться с охотниками для сопровождения не получится. Рабочий день учреждений здесь начинается в 9 утра и фактически заканчивается после обеда. Но это не помеха для Николая Владимировича. Он не впервые в такой ситуации, и найдёт нужных людей по телефону, и уже к вечеру у него будут все необходимые документы. А пока у вас есть свободное время, прогуляйтесь по посёлку, но не допоздна. В шесть часов – вечер знакомства.
После скорого обеда в столовой, расположенной неподалёку от гостиницы, мы отправились на экскурсию по Ванаваре. У нас оставалось некоторое время до встречи с руководителем экспедиции, и мы решили осмотреть весь посёлок.
Зайдя в продуктовый магазин и увидев цены, мы очень обрадовались, что все закупили дома. Несение рюкзаков по вокзалам было утомительным, но мы значительно сэкономили на расходах.
Вечером мы познакомились с остальными участниками экспедиции и обсудили программу.
– Наша цель, – сказал Николай Владимирович, – исходя из возможностей нашей группы, состоит в том, чтобы найти распылённое космическое вещество в муравейниках, отобрать геологические пробы для поиска следов взрыва (шок-метаморфизма), осмотреть и изучить повреждения деревьев, пострадавших от катастрофы 1908 года.
– А что означает шок-метаморфизм? – Поинтересовался я.
– Это процесс, происходящий на поверхности Земли после падения крупных метеоритов. – Пояснил Николай Владимирович. – Главным фактором здесь является давление. В результате горные породы в пределах метеоритных кратеров сжимаются, дробятся, плавятся и испаряются. Образуются минералы, не характерные для данной местности.
При этих словах на лице Владимира отразилась гамма негативных эмоций.
Руководитель комплексной самодеятельной экспедиции усмехнулся и продолжил: «А также изучение радиационного фона района и отбор почвенных проб на радиоактивные изотопы.
Владимир облегченно вздохнул.
– Вы разделяете точку зрения Казанцева? – Спросил Васильев у Владимира. – Тогда вам и карты в руки. Займитесь отбором проб на изотопы. Ольга Борисовна объяснит вам, как это делать.
Хочу сказать пару слов о маршруте. У нас есть три варианта, чтобы добраться до центра тунгусского феномена: вертолёт, моторные лодки по рекам или пешком. Первые два варианта слишком дорогие, поэтому мы пойдём традиционным путём – по знаменитой тропе Кулика.
За три дня пути нам предстоит пройти около 80 километров по тайге, минуя многочисленные болота, старые гари, хвойные леса, реки и ручьи. Готовы ли вы к трудностям?
– Всё в порядке, – ответил за всех Денис. – Мы участвуем в туристическом ориентировании.
– Отлично! А в дальние походы ходили?
– Мне не приходилось, – смутился Денис и добавил – думаю, выдержу.
– А ну-ка, покажите рюкзаки! – скомандовал Виталий и взял мой рюкзак. Он взвесил его на руке, хмыкнул, проверил остальные и скомандовал: – Перезагрузить.
Мы открыли рюкзаки под его руководством и переложили вещи по его совету.
– Поднимите их по очереди, – обратился он ко мне, протягивая мой и Дениса.
– А зачем они такие разные по весу? – удивился я.
– В пути будете меняться рюкзаками примерно через каждый километр, – объяснил Виталий. – Несёшь тяжёлый – устал. Берёшь у товарища лёгкий рюкзак – и душа радуется!
Все засмеялись.
– Раз всем всё понятно, тогда пойдёмте в столовую ужинать и отдыхать. Завтра в путь, – закончил вечер знакомства Николай Владимирович.
* * *
На рассвете наша группа выдвинулась в путь, и её сопровождали два эвенка-охотника.
«В лесу обитают не только грибы и птицы, – сказал Николай Владимирович, – но и дикие звери».
Перед выходом из посёлка, мы увидели на стволе большой лиственницы табличку с надписью «Тропа Кулика». Владимир, с выражением лица, как у паломника, идущего к своей святыне, остановился под этим деревом, словно статуя.
У меня в памяти невольно всплыли бессмертные строки А. С. Пушкина, и я продекламировал:
«… Я памятник себе воздвиг не рукотворный
К нему не зарастет народная тропа…»
– Совершенно верно, – подтвердила Ольга Борисовна. – Вот уже семьдесят лет исследователи ходят по этой тропе, но тайна Тунгусского метеорита остаётся неразгаданной.
Прежде чем отправиться в путь, мы выстроились в колонну по одному. Впереди шёл один из охотников, за ним – руководитель экспедиции. Затем встали женщины, а мы, как пионеры, оказались в середине. Игорь, Виталий и второй охотник замыкали колонну.
Дорога начиналась сразу за кладбищем и пролегала через густой лес, который вплотную подступал к Ванаваре с северной стороны. Путь наш заканчивался на Цветковском торфянике.
– А где же цветы? –спросил Александр, обозревая торфяник.
– Это название, данное бывшему болоту, не имеет отношения к цветам, – пояснил руководитель экспедиции. – Оно было присвоено ему в честь Михаила Ивановича Цветкова, возглавлявшего местный госторг. Он участвовал в первых экспедициях Кулика, обеспечивая их всем необходимым, и поддерживал связь таёжной группы с Ванаварой с помощью эвенка-почтальона.
Путь был лёгок, но после Цветковского торфяника он незаметно превратился в тропу, которая вела через густой лес, кишащий комарами, с торфяным болотом и кочками. Нам приходилось перепрыгивать с кочки на кочку, чтобы не провалиться в коричневую жижу. После нескольких часов прыжков по кочкам с тяжёлым рюкзаком за плечами я отчётливо осознал разницу между спортивным ориентированием и настоящим туристическим маршрутом. Кроме того, запах торфяной жижи, стоявший в воздухе, забивал нос и затруднял дыхание. Каждые двадцать шагов мне приходилось откашливаться, чтобы очистить лёгкие от тяжёлой смеси болотных газов. Я уже начал опасаться, что не смогу преодолеть это испытание и упаду в грязь.
По-видимому, Васильев, почувствовав моё состояние, остановил отряд и предложил поменяться рюкзаками. Это было настоящим облегчением, хотя разница в весе составляла всего пять килограмм.
По прошествии часа мы сделали привал в относительно сухом месте. Небольшая возвышенность, окружённая редкими деревьями, обдувалась лёгким ветерком, который немного разгонял комаров, которых не пугал даже запах «ДЭТА».
Первая часть пути оказалась весьма утомительной. Все были измотаны. Пожалуй, только руководитель экспедиции и охотники-эвенки чувствовали себя бодрыми. Я лежал на спине, подняв ноги вверх, уперев их в тонкий ствол дерева, и подсчитывал, сколько ещё таких переходов мне предстоит совершить. Выходило, что не менее семи, если учесть, что мы прошли восемь километров за один переход.
Когда мы, наконец, покинули болотистую местность и вступили в лес, наполненный смолистым ароматом, я испытал чувство облегчения. Однако вскоре я осознал, что путешествие по лесу оказалось столь же утомительным, как и по болоту, хотя в лесу мы шли немного быстрее. Вместо прыганья по кочкам, нам приходилось пробираться через густые заросли кустарника и перелезать через поваленные деревья. В таком темпе мы очень долго следовали по тропе Кулика, которая вела к его избушке. Поэтому путь через тайгу от районного центра Ванавары до места падения загадочного метеорита, мне казался бесконечным. Однако, как известно, всему есть конец. Признаться, я не очень хорошо запомнил маршрут. В памяти остались лишь ключевые точки отдыха, да и то я не уверен, что отметил их в правильном порядке. Я шёл, изнурённый напряжением, едва держась на ногах, не жалуясь и не стеная, благодаря лишь тому, что рядом были женщины, которые шли рядом, нагруженные, словно верблюды.
Поначалу я наслаждался созерцанием пейзажей, но вскоре это занятие мне наскучило. Но я был вынужден вновь и вновь заставлять себя рассматривать окружающий лес, дабы отвлечься от ноющей боли в мышцах ног и спины. Наконец, солнце начало клониться к горизонту, и тени стремительно удлинялись. В воздухе ощущалась прохлада, и я, измождённый жарой, испытал облегчение.
На первой же ночной стоянке я погрузился в сон, словно в бездну. Утром с трудом поднялся, когда зазвенели железные ложки и посуда. Наши выносливые спутницы готовили завтрак. Я быстро умылся и выполнил несколько упражнений, следуя совету Виталия. И после лёгкого завтрака с облегчением отправился покорять очередной заболоченный участок тропы Кулика.
К счастью, через несколько переходов тропа выровнялась и пошла по сухим местам, вдоль небольших болот до самого ручья Петрик. Здесь было много сухих холмов, поросших хвойным лесом, и мы устроили привал для обеда. Я лежал на спине, положив ноги на рюкзак, наслаждался моментом отдыха и старался не думать о том, что впереди ещё несколько десятков километров тяжёлого пути.
После отдыха и приёма пищи путь стал значительно легче. Особенно после ручья Петрик вид тайги стал приятнее. Поднявшись на невысокий горный хребет, мы смогли окинуть взором местность вплоть до самой реки Чамбы. Нам предстоит преодолеть за четыре часа пути еще много километров по пересечённой местности, представляющей собой чередование холмов и долин, покрытых преимущественно смешанными лесами и сосновыми борами. В связи с жаркой погодой, мы заблаговременно запаслись водой, наполнив фляги из ручья. После привалов рюкзаки снова потяжелели, но идти стало легче, чем раньше. Затхлый болотный воздух сменился ароматом хвойной смолы. Исчезли кочки под ногами. Разнообразие трав и первые весенне-летние цветы радовали глаза. Над нами порхали красивые бабочки, а лесные птицы перекликались друг с другом. По стволам сосен вверх и вниз сновали белки и бурундуки. Они с любопытством рассматривали нас, нисколько не опасаясь.
К вечеру, после очередной остановки, мы достигли берегов реки Чомба, которые были покрыты старым лиственничным лесом. Выбрали место для ночлега рядом с высокой лиственницей, на стволе которой было множество надписей, стихов и пожеланий. Это место давно стало излюбленным для участников комплексных северных экспедиций. Половина пути была пройдена.
Мы быстро расчистили площадку, установили четыре палатки и разожгли костёр. Пока женщины готовили ужин, Николай Владимирович предложил желающим отправиться на рыбалку, чтобы разнообразить меню. Желающих оказалось немного: Владимир, Денис и сам руководитель экспедиции. У меня просто не было сил, и я отдал свой спиннинг Владимиру. Алексей и эвенки-охотники занялись сбором дров для костра.
Прошло меньше часа, и с радостными возгласами вернулись рыбаки. Они несли богатый улов.
– Вот это улов так улов! – воскликнул Денис, извлекая из садка рыбу, которая была похожа на брусок серебристого цвета с небольшими тёмными пятнами в виде креста на голове и боках. Верхняя челюсть рыбы заходила за задний край глаз. – И весит она никак не меньше пяти килограмм. Все по очереди подержали в руках страшное речное чудовище, оценивая его вес. Посыпались вопросы: «Что за рыба? Кто поймал?»
– Николай Владимирович, конечно, – смущённо ответил Владимир и добавил, обращаясь ко мне: – На твоём спиннинге леска тонковата. Да и насадка не подходит.
– Это таймень, крупный хищник сибирских рек. Поймать его можно спиннингом с берега летом, используя искусственную мышь, – вступил в разговор Николай Владимирович и показал насадку. – Но мне, можно сказать, просто повезло. Поймать такого хищника не так-то просто. А вот ребята наловили много рыбы. Покажите-ка.
Денис вывернул сетку, и на траву посыпались рыбы среднего размера с ярким окрасом и большим спинным плавником, украшенным разноцветным узором.
– Какая поразительная рыба! – Воскликнула Виола Тимофеевна. – Как миниатюрная яхта с таким изящным парусом!
– Это хариус, – продемонстрировал я свои познания в биологии.
Эвенки безмолвно улыбались, наблюдая за горожанами.
Пока все восхищались уловом, Николай Владимирович достал охотничий нож с резной ручкой из оленьего рога и ловко очистил тайменя от чешуи, выпотрошил его и аккуратно разрезал на кусочки. Затем он срубил несколько веток кустарника и сделал из них небольшие шампуры. Денис быстро установил рогатые колышки вдоль костра. Ольга Борисовна насадила, кусочки тайменя на шампуры и поставила их над костром. Виталий с не меньшим мастерством разделал и выпотрошил хариусов, после чего они отправились в котелок с водой, который уже стоял на костре. Виола Тимофеевна добавила в котелок специи, лук и картошку.
Ужин получился отменным: пшённая каша с тушёнкой, по кусочку шашлыка из тайменя, тарелка ухи и чай.
Пока мы готовились к трапезе, комары, изголодавшиеся за время нашего отсутствия, уже приступили к своему пиршеству. Их было так много, что они не боялись ни репеллента, ни дыма от костра. Мы быстро завершили ужин и, собравшись в палатках, заснули почти без разговоров, не обращая внимания на писк не прошенных гостей, которые успели к нам подселиться.
Утром все искупались в Чомбе, хотя вода в ней была довольно прохладной. После купания мы почувствовали себя бодрее и прошли около пяти километров вверх по левому берегу реки, преодолевая каменистые перекаты. И вскоре вышли к берегу неширокой речушки Хэрэлгэн, которую перешли по стволу упавшего дерева. Далее дорога стала суше, и запетляла в небольших сосновых борах. Преодолев небольшую сопку, вышли в долину реки Макикты и дальше наш путь пролегал через низкорослые заросли ивняка, берёзы и другой таёжной растительности, где среди камней весело журчал ручеёк. Тропу было хорошо видно, несмотря на заросли, но она постепенно спускалась к торфянику. Нам пришлось медленно продвигаться вдоль границы высохшего болота и вскоре мы увидели Макикту – реку с быстрым течением, которая протекала в окружении леса. Здесь мы решили устроить привал у небольших каменных горок.
На следующее утро мы продолжили наше путешествие по долине реки. Тропа, по которой мы шли, постоянно меняла направление, то поднимаясь вверх, то спускаясь к торфяному болоту, а затем снова поднимаясь в гору.
Пройдя очередной склон, мы спустились к руслу реки и увидели небольшой ручей. Мы легко перешли его по камням и продолжили путь по тропе Кулика. В основном она была сильно заросшей и почти не отличалась от обычных вьючных троп, но на некоторых открытых участках было видно, что здесь проходил «зимник» – санная дорога.
Внезапно след зимника упёрся в небольшое болото, и мы пошли в обход. За болотом местность постепенно поднималась, и сухая торная тропа, проложенная среди живописного смешанного леса, вела нас к верховьям реки Макикты. Наш лёгкий путь закончился. На протяжении нескольких километров нам пришлось преодолевать труднопроходимый заболоченный участок, пробираться через грязь и отбиваться от комаров. К двум часам заболоченный участок закончился, и тропа вновь пошла по сухому склону долины, поросшему высоким лесом. Постепенно тропа, ведущая вниз по склону, привела нас к долине реки Хушма. И вот мы достигли долгожданного берега. Песчаные и галечные пляжи, кристально чистая вода и уютные берега – всё это открылось перед нами. За поворотом, чуть выше по течению, мы заметили высокое каменное обнажение – яр. Здесь был брод, и мы, перейдя реку, направились к Пристани.
Солнце уже почти скрылось за вершинами деревьев, и сумерки начали сгущаться. Мы шли по тропе вдоль берега, срезая изгиб реки. Высокий кустарник и крутые берега, покрытые илом после паводка, затрудняли движение с тяжёлыми рюкзаками за спиной. Но цель нашей экспедиции была уже близка. Мы перешли ручей Чургим по большому бревну, и вышли к старой Куликовской бане. Наш маршрут длиной в 80 километров подошёл к концу, и мы оказались у заимки Кулика.
– Наконец-то! – с облегчением выдохнул я, разглядывая ветхие домики заброшенной базы.
– Здесь до сих пор сохранились две избы, построенные во времена первых экспедиций, – пояснила нам, первопроходцам, биолог Виола Тимофеевна, которая не раз посещала эти места. – Вот эта изба – общая, она до сих пор служит пристанищем для исследователей: здесь находится лаборатория и склад. А поменьше – «командирская», в ней жил сам Кулик. Теперь это место превратилось в своеобразный музей.
– Когда я впервые посетил эту базу, – добавил руководитель экспедиции, – домики стояли на открытом пространстве среди причудливо поваленных и обожжённых деревьев. Сейчас же они окружены молодыми зарослями леса. Лишь изредка встречаются искорёженные и обожжённые деревья – остатки свидетелей давней трагедии.
После непродолжительного отдыха Игорь, Алексей и я приступили к установке палаток. Денис с охотниками быстро собрали сухие ветки и развели костёр. Когда вода в котлах, подвешенных над огнём, закипела, женщины быстро приготовили ужин: гречневую кашу с тушёнкой и чай со сгущённым молоком. После утомительного перехода и сытого ужина всех потянуло в сон. Женщинам выделили места в лаборатории, а мы разошлись по палаткам. Охотники и руководитель экспедиции остались сидеть у костра.
* * *
Николай Владимирович не дал нам долго нежиться в постелях. В семь часов утра он поднял всех на ноги и быстро организовал работу. Мне и Виталию поручили носить воду из ручья Чургим в баню. Денис и Владимир отправились за дровами. Александр и Игорь получили задание: сделать удочки и наловить рыбы для ухи. Женщины начали готовиться к полевым работам. После завтрака Николай Владимирович разделил нас на три группы и выдал каждому участнику топографическую карту, разделённую на зоны для исследования. На карте были пронумерованные квадраты, некоторые из которых были заштрихованы косыми линиями. Николай Владимирович объяснил, что не заштрихованные квадраты представляют собой участки поваленного леса, которые ещё не были исследованы после падения метеорита и поставил перед нами задачу – взять образцы проб в этих зонах для дальнейшего анализа и распределил обязанности.
– Завтра утром Владимир, Денис и Ольга Борисовна отправятся собирать образцы для анализа на содержание изотопов и изучения радиационной обстановки. Алексей и Виталий, Виола Тимофеевна, как биолог, займёмся изучение повреждений деревьев, пострадавших от катастрофы. Андрей и Игорь – поиском распылённого космического вещества в муравейниках и сбором геологических образцов. – и добавил, – Оставшиеся будут работать со мной здесь. А сегодня мы топим баню, отдыхаем и выбираем маршруты по карте, чтобы подготовиться завтра к выходу на работу.
Утром мы позавтракали на базе, а обед состоял из продуктов, которые взяли с собой. Ужин же мы готовили из добычи, которую приносили охотники после возвращения. Иногда охотники отправлялись в самые отдалённые места с бригадами, а те, на кого выпадала очередь, готовили еду на базе.
Возвращались мы с работы засветло, чтобы успеть обработать собранные образцы на Пристани. Пробы измельчали, замачивали и затем промывали через специальные сита. Собранные материалы раскладывали по специальным ёмкостям с крышками, маркировали их и указывали координаты. Эта работа была очень утомительной и, на мой взгляд, не приближала нас ни на шаг к разгадке тайны Тунгусского метеорита. Но у меня была одна мысль, которая не давала мне покоя: «С кем мог встретиться отец деда Игнат на озере Чеко во время взрыва метеорита? Если я смогу найти это место, то, возможно, я смогу разгадать тайну Тунгусского метеорита». Ни изматывающая работа днём, ни романтические вечера с песнями под гитару не могли заглушить эту мысль.
Конечно, можно было бы расспросить охотников-эвенков, которые явно были ровесниками деда Игната. Но я хорошо запомнил его напутствие, которое он дал мне перед отъездом.
В конце концов, я обратился к Николаю Владимировичу с просьбой разрешить мне отправиться на озеро Чеко.
– С какой целью? – спросил он и посмотрел мне в глаза так пристально, что я едва не признался в истинной причине своего визита. Пришлось отмазку придумывать на ходу.
– Меня попросил сосед, дед Игнат. Он родом отсюда. Жил в стойбище неподалёку от этого озера вместе с родителями. Сам он уже в преклонном возрасте, – вдохновенно сочинял я историю, не отрывая взгляда от внимательных глаз Николая Владимировича. – Приехать в родные места уже не может, вот и попросил привезти воды из озера Чеко.
– А твой дед Игнат, может быть, был свидетелем тех давних событий?
– Да, в какой-то степени, – ответил я честно. – Он рассказывал, что видел взрыв и был очень напуган. Но ему тогда было всего восемь лет, и он не очень хорошо помнит те события. Позже он никогда не бывал здесь. Шаманы запретили тревожить какого-то бога огня.
– Ну-ну, бога Агды. – Сказал Николай Владимирович, и немного помолчав, добавил. – Я думаю, что старые шаманы были в курсе того, что здесь тогда произошло, раз пугали народ невидимой смертью. Не зря эвенки рассказывали о тех, кто умер после посещения этих мест. Не зря.
Но в тот день он не дал мне определённого ответа.
Прошло ещё три дня, наполненных кропотливой работой по сбору образцов, и вечером, за ужином, руководитель экспедиции объявил: «С завтрашнего утра у нас два выходных дня, мы идём в баню и вечером танцуем».
Когда все разошлись по своим делам, он подошёл ко мне и сказал: «Заходи ко мне через час».
С большим нетерпением я ожидал назначенного времени и наконец, вошёл в «командирскую» избушку. Николай Владимирович сидел на самодельном табурете у стола, на котором лежала топографическая карта.
– Вот твой маршрут, – сказал он, указывая на голубое пятнышко на карте. – К озеру ведут две тропы. Одна, старая охотничья, проходит по подножию горы Вюльфинг вокруг Северного торфяника и дальше через ручей Чеко. Вторая тропа отходит влево от тропы, ведущей на гору Фаррингтон. Я рекомендую тебе второй вариант – он короче. Пойдёшь один, охотников в попутчики не дам. В этом районе нет крупных хищников, а мелкого зверья, почему-то, мало. Надеюсь, двух дней тебе хватит на исследования?
– Я обернусь за один день! – радостно воскликнул я, и как оказалось, слишком поспешно.
Николай Владимирович лишь усмехнулся в ответ и сказал: «Не выходи рано утром. Вся одежда промокнет от росы».
Утром, в десять часов, я собрал в рюкзак всё необходимое. Ольга Борисовна, не принимая моего отказа, дала мне еды на два дня, напомнив народную мудрость: «Идёшь в лес на день, бери еды на два». Я до сих пор благодарен ей за это.
Погода была на моей стороне. Было не слишком жарко. От нашего лагеря до горы Фарингтон примерно три километра, и я быстро их преодолел. Оттуда по тропе я спустился в низину, к небольшому болоту, и прошёл по восточным склонам небольших холмов через Хойский торфяник. В итоге я вышел к ручью Хой. С трудом преодолел переправу через ручей, отмеченную шестами, и пошёл по тропе через хвойный лес. По пути я заметил деревья с метками старых затесов и следы зимней дороги, проложенной охотниками. До озера Чеко я добрался за три часа. Мог бы и раньше, но немного поплутал в хитросплетении тропинок. Озеро расположено в котловине и имеет почти круглую форму. С моей стороны пологий берег порос густыми кустами и небольшими деревьями. Противоположный берег с крутым склоном покрыт таёжным лесом с буреломом до основания хребта, на который я хотел подняться. Но осуществить своё желание не удалось из-за отсутствия информации о наличии охотничьих троп. Как говорится, «близко локоть, да не укусишь». Я провёл некоторое время у озера, пообедал. Затем наполнил фляжку водой, чтобы оправдать свой поступок перед начальником, и отправился в обратный путь.
Оглянувшись на недоступный хребет, я сказал себе: «Придётся обратиться за помощью к охотникам-эвенкам».
Возвращаясь по тропе, я сбился с пути. Не могу понять, как это произошло. Я решил вернуться к озеру, чтобы продолжить путь, но только ухудшил ситуацию.
Я решил ориентироваться по компасу, но в таёжном лесу это оказалось непросто. Держать направление было очень сложно. Я постоянно натыкался на поваленные деревья и сбивался с пути. Я останавливался, снова устанавливал направление по компасу и опять терял его. В итоге за пару часов я прошёл всего три километра, сильно устал и проголодался, особенно хотелось пить. Я заметил, что под ногами извивается русло пересохшего ручья и понял, что вода должна быть внизу, под камнями, покрытыми мхом и растительностью. Снял рюкзак, положил его на поваленное дерево и пошёл искать воду. После долгих и бесплодных поисков воды, которые заняли более часа, я вынужден был остановиться на ночлег. К моему удивлению, я обнаружил, что от усталости и напряжения не могу вспомнить, где оставил свой рюкзак. В результате я остался без воды, пищи и спального мешка. На мне была лишь промокшая от пота рубашка, а на груди висела небольшая сумка, в которой находились спички и кусочек бересты – предмет, который я всегда носил с собой в походах по привычке.
Я начал лихорадочно искать свой рюкзак. В лесу уже сгустились сумерки, и лишь бледный свет луны едва пробивался сквозь густые кроны деревьев. Я осторожно пробирался между кустами, почти на ощупь обходя стволы деревьев. Мои поиски продолжались уже около часа, но я так и не смог найти свой рюкзак. Стало совсем темно, и я почувствовал, как во мне нарастает паника. Я приказал себе прекратить поиски и успокоиться. Придётся провести ночь в тайге.
То, что представлялось несложным при свете дня и с помощью топора, оказалось непосильной задачей в темноте и без каких-либо инструментов. Я с трудом собрал валежник и развёл костёр в попытке заснуть, но сон так и не пришёл. Я лежал на камнях, покрытых мхом, прижавшись к костру, но жар шёл только от огня, и мой бок медленно поджаривался. Снизу от болота и сверху я слегка подмёрз – ночи в Эвенкии были прохладными.
С наступлением утра я продолжил свой путь в заданном направлении, но вскоре сбился с маршрута и вновь утратил ориентиры. Продвижение по тайге представляло собой крайне сложное испытание. Густые заросли были столь плотными, что я едва мог различить очертания упавших деревьев, которые зачастую скрывались под сплошным покровом мха. Несколько раз я спотыкался об эти препятствия и падал, но, к счастью, каждый раз мне удавалось удачно подняться и продолжить движение по заданному курсу. По моим расчётам, я должен был выйти к Хушме, но её всё не было видно. Внезапно лес стал реже, и я вышел на залитую солнцем поляну, на которой возвышалась небольшая возвышенность с маленьким охотничьим домиком. Судя по его внешнему виду, бойкая сорная трава росла на его крыше, он был построен давно. Собрав последние силы, я подошёл к домику и постучал в дверь. Затем постучал ещё раз. Тишина. Я толкнул дверь и вошёл внутрь. В помещении царил полумрак, вызванный скудным освещением, проникавшим сквозь небольшое окно. Когда мои глаза привыкли к скудному свету, я огляделся вокруг. Несмотря на скромное убранство, внутри хижины царили чистота и порядок. Я опустился на скамью, стоявшую у стола, и вытянул уставшие ноги. Проснулся я от весёлого потрескивания огня в маленьком очаге. Сбросив с себя тяжёлую медвежью шкуру, служившую мне одеялом, я сел на лежанке, недоумевая, как я здесь оказался. Дверь скрипнула, и в комнату вошёл седовласый старик с охапкой дров. Увидев, что я проснулся, он приветливо улыбнулся и произнёс: «Вот и хорошо, проспал весь день, теперь можно и чайку попить».
Чувствуя себя виноватым за то, что без приглашения вторгся в чужой дом, я попытался было извиниться, но хозяин замахал на меня руками.
– Никаких извинений! – Воскликнул он. – Ты мой гость! Присаживайся к столу! А завтра провожу тебя до твоих друзей.
Меня не пришлось долго упрашивать. После долгой прогулки по тайге у меня разыгрался аппетит, а из чайника, стоявшего на столе, по комнате разливался аромат смородинового листа. Всё это вместе – запах смородины, тепло, пляшущие языки пламени в печке и приветливость хозяина – располагало к душевной беседе. Именно на неё я и надеялся, желая узнать что-то новое о тунгусском явлении. Если старик живёт здесь давно, а на вид ему больше восьмидесяти лет, то он должен знать о событиях 1908 года.
Чтобы направить разговор в нужное русло, я решил взять инициативу в свои руки. Наслаждаясь вкусом зелёного чая, я задал вопрос: «Давно ли вы здесь обитаете? Не наскучило ли вам здесь?»
– Какая же здесь скука, – ответил он, отпивая чай из блюдца. – С должности егеря меня еще не сняли, а работы здесь непочатый край. А мёд-то? Мёд бери! Не стесняйся!»
Дома мёд для меня был обыденным продуктом, ведь мой дедушка был большим любителем пчеловодства и часто помогал ему на пасеке. Но такого мёда я ещё не пробовал. От него пахло загадочными лесными цветами и летним зноем, и в моей памяти всплыла картина из детства.
Меня впервые привезли из города к дедушке на пасеку. Я бегу босиком по высокой траве, усыпанной яркими цветами. От аромата кружится голова. А я бегу, раскинув руки, и жадно ловлю поднятым вверх лицом тёплые лучи солнца. Воспоминание было таким ярким и манящим, что мне стало грустно. Мне невыносимо захотелось вернуться в то беззаботное прошлое.
– Вспомнилось детство? – Вдруг спросил меня старик.
– Да, – с грустью ответил я, – и мне так захотелось вернуться обратно в детство, но, как сказал поэт Новиков:
Никогда
Ничего не вернуть,
Как на солнце не вытравить пятна
И в обратный отправившись, путь,
Все равно не вернуться обратно.
Эта истина очень проста
И она, точно смерть, непреложна.
Можно в те же вернуться места,
Но вернуться назад
Невозможно…
– Как? – спросил дед дрогнувшим голосом.
Я повторил, не понимая, что происходит.
– Но вернуться назад невозможно, – прошептал он.
Дрогнувшей рукой он поставил на стол блюдце с недопитым чаем и встал. Как слепой, спотыкаясь о предметы, он подошёл к окну и долго всматривался в темноту, словно искал там ответ. Затем он медленно повернулся ко мне. Глаза его потускнели, на лице резче проступила сеть морщин. Казалось, даже его седая борода потеряла свой серебристый блеск.
– Ты растревожил мою старую рану, – глухо произнёс он. – Это моя судьба. От прошлого не скрыться.
Он нервно усмехнулся: «А где для меня прошлое? Там, где я жил? Или здесь, где я живу?»
– Как это понять? – Удивился я.
– Это очень длинная история! – С горечью воскликнул он. – Устраивайся как тебе удобнее, наберись терпения, и я расскажу тебе о том, что со мной произошло. До сих пор я не хотел делиться с кем-либо сведениями, которые могли бы быть опасными для меня. Но теперь я решил рассказать тебе эту историю. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил, беспристрастно и без искажений.
Голос старика был мягким и приятным, с низким, обволакивающим тембром. Но меня поразило, что в его голосе звучала усталость, возможно, накопившаяся за долгую жизнь. Я провёл ночь, слушая рассказ хозяина заимки, и передо мной разворачивалась цепь событий, которые, по его словам, привели нас к этой встрече.
Рассказчик не пытался убедить меня в правдивости своего повествования. Он просто излагал факты, опуская детали, такие как даты, фамилии учёных и своих товарищей. Он не пытался предсказывать будущее. Он как будто приглашал меня разделить с ним его горе и одиночество.
– Прошло столько лет, а я всё ещё воспринимаю всё пережитое как странный сон, – начал свой рассказ хозяин заимки. – Я уже несколько раз ловил себя на мысли, что достаточно лишь небольшого усилия воли, чтобы сбросить с себя это наваждение. И часто спрашивал себя: «А было ли это? Были ли мои приключения реальностью?»
Мне показалось, что я ослышался, когда увидел старца. Но он смотрел на огонь с таким отрешённым видом, что я понял: он меня не слышит.
– Да, да, – сказал он, опережая мой вопрос. – Тебе не показалось. Эти события произошли… в далёком будущем, но не в вашем мире. Меня, как и многих других выпускников астробиологического факультета АУК, пригласили на собеседование в просторный кабинет руководителя международного космоцентра. Руководитель обратился к нам с краткой, но содержательной речью: «Благодаря новой теории о происхождении вселенной и звёзд, астрофизики обнаружили систему из вихревых каналов, по которым происходит энергообмен между звёздами. Скорость потоков первичной материи по этим каналам в десятки миллионов раз превосходит скорость света. Таким образом, перед нами открылась поистине фантастическая возможность для исполнения мечты человечества – достичь звёзд. Возник вопрос: кто должен первым отправиться к звёздам – человек или зонды? В ходе дискуссий на совещаниях высказывались различные точки зрения, но в конечном итоге возобладал здравый смысл. Многолетний опыт исследования планет с помощью роботов выявил их неэффективность. Десятилетиями электронные устройства бороздили поверхность планет Солнечной системы, отправляя на Землю фотографии, которые вызывали споры, поскольку каждый видел на них то, что хотел увидеть. Однако только первые шаги человека по «новым землям» расставили всё по своим местам.
Предстоящий полёт к звёздам потребовал создания принципиально нового вида транспорта и оборудования. Лучшие умы человечества приступили к работе над уникальным проектом – вихрелётом, в котором они использовали весь накопленный человечеством опыт исследования космоса. Этот проект объединил в себе последние достижения инженерной мысли, новейшие открытия в области материаловедения, физики и других наук. Совместными усилиями мы создали первую партию вихрелётов-звездолётов. Вам, астробиологам не нужно объяснять, насколько важны эти исследовательские миссии. Вы – единственные специалисты, которые способны выполнить эту работу. Ваша задача заключается в том, чтобы установить наличие жизни на открытых планетах, а также определить, существует ли там разумная жизнь и в какой степени она способна к взаимодействию.
Все физические характеристики планет будут определяться с помощью электронных приборов.
Должен сразу предупредить, что после старта каждый из вас окажется в полной изоляции, наедине с бескрайним космосом. Хотя современные технологии свели риски к минимуму, они всё же существуют. Мы не будем настаивать на вашем участии в этой миссии – выбор остаётся за вами.
Я мог бы отказаться, но жажда новых впечатлений всё ещё жила во мне, и я без колебаний принял его предложение.
Несколько минут мы провели в безмолвии. Я пристально смотрел на старца, и меня одолевали смешанные чувства: я верил ему и в то же время сомневался. А он сидел, погружённый в свои размышления, поглаживая свою седую бороду, и даже не стремился понять, какое впечатление произвело на меня начало его повествования.
В этот момент я не могу точно сказать, о чём он думал. Внезапно он сменил тему, словно продолжая мысль, которая, по-видимому, давно его занимала.
– Если бы я выбрал другую специализацию, всё могло бы сложиться иначе», – вздохнул он. – Но нет! Во время летних каникул я отправился в высокогорную обсерваторию на экскурсию. Там мне показали подледную растительность – настоящую природную теплицу. Я впервые увидел, как под метровым слоем льда на площади в 400 квадратных метров растут и цветут растения альпийской зоны. Их удивительная жизнеспособность поразила меня, и я решил посвятить свою жизнь космической биологии.
Так я ступил на стезю грядущих странствий, хотя мог бы остаться в тиши академических занятий. Где я только не побывал! Проще перечислить места, где я не был. О Земле я уже и не говорю. Я осознал, что мне тесно в рамках Солнечной системы. И когда мне предложили принять участие в первой звёздной экспедиции, я без колебаний согласился. Мне казалось, что мне невероятно повезло. Желающих было множество. Но в основу отбора разведчиков легли абсолютное здоровье, физическая сила, выносливость, знание реактивной и иной техники, а также глубокие познания в области биологии. Выбор пал на выпускников нашего факультета, которые соответствовали всем требованиям к космонавтам, а также обладали знаниями в области астробиологии.
Прежде чем стать космическим путешественником, я прошёл ряд специализированных тренировок. Не знаю, как другие, но я не испытывал значительных затруднений, поскольку уже имел опыт длительных космических полётов. Однако даже меня, повидавшего разнообразные типы ракет, внешний облик вихрелёта привёл в замешательство. Передо мной возвышалось величественное сооружение серебристого цвета, почти столь же протяжённое, как ракета «Земля – Луна», но превосходящее её по диаметру почти вдвое. По своей форме оно напоминало грушу с правильным полусферическим носом, оплетённую витками труб.
Устройство этого чуда объяснял сам конструктор. Это была одна из самых увлекательных лекций, которые мне когда-либо приходилось слушать. У лектора не было ни плана, ни конспекта, но, по-видимому, вдохновение, знания и гордость за свой проект с лихвой компенсировали ему это. Он свободно переходил от одного узла сложной конструкции к другому, не забывая о деталях. Особенно долго он рассказывал нам об устройстве и принципе работы двигателя – сердца космического корабля, когда мы спустились через открытый кормовой люк и по крутой металлической лестнице мы в двигательный отсек корабля. Он провёл нас через помещение, где было нагромождение различной аппаратуры, по узкому проходу, который имел длину около десяти метров. Когда мы шли по нему, я почувствовал сильную дрожь под ногами.
Конструктор, повернувшись к нам, объяснил, что под нами размещен ядерный реактор звездолета и показал округлые люки, расположенные на стенах коридора. Они, закрывали окна с защитными свинцовыми стеклами, служащие для осмотра ядерного оборудования. И кратко пояснил нам о предназначении реактора в полетах к звездам.
Будучи далёким от физики, я не смог вникнуть в суть его объяснений. Однако я уловил одну аналогию: движение от звезды к звезде можно сравнить с эффектом квантовой механики, когда электрон способен преодолеть потенциальный барьер, если его общая энергия меньше высоты этого барьера. Так и космический корабль, защищённый вихревым магнитным полем, проникает в вихревой тоннель и с огромной скоростью устремляется от звезды к звезде. Достигнув цели, он выходит из тоннеля и занимает установленную орбиту вокруг звезды. Компьютерная система определяет местоположение нужной планеты. Затем координатор корабля приступает к сбору необходимых данных с помощью бортовых датчиков. Анализируются такие параметры, как температура на планете, содержание кислорода и других газов. После получения данных разрешается спуск исследовательского модуля на планету.
Так под его лекцию мы ознакомились с нахождение челнока для посадки на планеты, с устройством кибернетической универсальной лаборатории с методами разнообразных исследований. С камерой хранения зондов предназначенных для исследования физических и химических параметров планет.
При осмотре внутреннего устройства космического корабля меня одновременно удивила и разочаровала главная рубка корабля. Это была просто сферическая капсула, в которой располагалось спальное место. Круглое помещение зала было заполнено огромным монитором и небольшим пультом с рабочим местом оператора, на котором было несколько сигнальных лампочек, кнопок и переключателей.
Увидев моё разочарование, конструктор объяснил: «Управление кораблём осуществляет бортовой компьютер – андроид, искусственный интеллект. Это ваш незаменимый помощник, собеседник и защитник. Вы можете дать ему имя и выбрать голос, который вам нравится. Он будет выполнять своё предназначение».
Я дал ему имя – «Координатор».
Далее конструктора сменил инженер и приступил к демонстрации скафандра.
– Вы даже представить не можете, насколько могущественным станет человек в таком снаряжении, – сказал он, переходя к демонстрации удивительного защитного устройства для исследователя.
Скафандр оказался просто великолепным. Сделанный из многослойного материала, он был гибким и лёгким. Он облегал тело, словно вторая кожа. Внешний слой был чрезвычайно термостойким и защищал от высокого уровня радиации и внешних столкновений. Его материал мгновенно реагировал на удар, изменяя свою структуру и преобразуя энергию удара в электрический импульс для зарядки аккумулятора. В случае наличия кислорода в атмосфере найденной планеты, можно было дышать её воздухом. Однако в шлем были встроены не только простые фильтры, но и газоанализатор, который в случае опасности активировал ионообменный фильтр или переводил костюм в режим замкнутого цикла, включая подачу дыхательной смеси. Она хранилась в специальных устройствах при очень низкой температуре и по мере необходимости, после подогрева, поступала в шлем.
Экзоскелет, созданный из искусственных мышц, сплетённых из биокарбоволокон и вплетённых во второй слой материала, функционировал под управлением миниатюрного компьютера, который считывал электрические сигналы, исходящие от мышц человека.
Прозрачный лицевой шлем, изготовленный из непробиваемого стекла, служил экраном, на внутренней поверхности которого высвечивалась информация, предоставляемая компьютером. При необходимости шлем мог использоваться как осветитель. Слабый электрический ток вызывал свечение необычного материала, из которого была изготовлена наружная сторона шлема, превращая его в мощный прожектор. В комплект скафандра входили дозиметр, сканер, прибор ночного видения, внешние микрофоны и множество других устройств. Он, оснащённый разнообразным оборудованием, не только защищал космонавта от отрицательных условий внешней среды, но и выполнял функцию диагностической химической и биологической лаборатории.
Более всего меня поразило то, что облачение в скафандр подразумевало полное обнажение. Я испытал ужас, ощутив, как нечто влажное и липкое облепило меня изнутри скафандра. Однако инструктор успокоил меня, объяснив, что это биотик – искусственное живое существо, предназначенное для утилизации наших отходов, поскольку, вероятно, мы будем проводить значительную часть времени в скафандрах.
– Биотик, – сказал он, – будет контролировать и очищать кровь от токсинов, а при необходимости регенерировать повреждённые ткани тела.
После краткого ознакомления с этим грандиозным проектом наступили дни, исполненные утомительных практических занятий. Я с головой погрузился в работу, стремясь ускорить течение времени до старта. Я подгонял время, повторяя: «Скорее! Скорее!»
И вот, наконец, настал долгожданный и волнующий момент!
Мы с сопровождающими прибыли на космическую межорбитальную станцию, преодолев расстояние на борту межконтинентальной пассажирской ракеты. На платформе станции возвышались звездолеты, похожие на гигантские груши. Они были полностью готовы к межзвёздным перелётам и ожидали своего экипажа. Звездолёты находились чуть в стороне от нашей пассажирской ракеты, которая была пристыкована к станции. В темноте космоса, освещённые ярким солнечным светом, они ярко блестели своими серебристыми обводами.
После прощальных объятий и поцелуев сопровождающие в космических скафандрах остались у ракеты, а мы, восемь космических первопроходцев, направились к звездолётам, готовым к старту.
Входные люки открылись, и мы заняли свои места. На экране во всю стену штурманской рубки предстал голубой земной шар.
Через внешние микрофоны до меня донёсся хор голосов: «Ребята! Попутного солнечного ветра!»
Я отключил динамики и доложил о готовности к старту.
Метроном отсчитывал последние минуты моего пребывания на Земле. Я видел, как в немом кино толпа провожающих беззвучно двигалась, продолжая что-то кричать. Но ни один звук не доносился до меня. Это было последнее, что я видел.
Раздалась команда: «Старт!» Я нажал кнопку.
Дед закрыл глаза и отвернулся, чтобы скрыть слёзы.
Кто провожал его? Мать, отец, жена с детьми? Не знаю. Он не стал говорить, а я не решился спросить. Но с этого момента я окончательно поверил в его слова.
Дед поборол минутную слабость и сказал, будто ничего не произошло: «Я нажал кнопку. Ни толчка, ни вибрации. Мир вокруг меня не двигался ни вверх, ни в сторону, как это бывает при полёте самолёта или движении поезда. Он просто был за прозрачной стеной штурманской рубки, а в следующую секунду его там не стало».
Часть 2.
Космическая одиссея
В одно мгновение всё переменилось. Лица близких людей, сопровождавших меня, исчезли, и на их месте возникло космическое пространство, наполненное холодом, тишиной и светом далёких звёзд. Я испытал невероятное изумление, радость и восхищение, когда увидел их на экране. Мне не раз приходилось посещать планеты, вращающиеся вокруг Солнца, но это были иные чувства, потому что в этот момент я впервые оказался в реальном мире другой звезды.
На экране монитора медленно перемещались сверкающие точки – звезды – координатор вращал вихрелёт, в поисках планеты. Через несколько минут он «поймал» её автономной оптической системой навигации, и выпустил серию исследовательских спутников для сбора геофизической информации.
Через мгновение бледный лик планеты заслонил всё поле зрения. А на дисплее появилась информация, полученная исследовательскими зондами. Состав атмосферы: кислород – 23%, азот – 70%, углекислый газ – 0,5%. Температура воздуха варьируется от -30°C до -55°C. Техническая инфраструктура отсутствует.
В прошлом мне довелось побывать в местах, которые не отличались богатством природы. Например, на Земле я видел Антарктиду, а на Марсе – песчаные равнины, покрытые растениями, похожими на стрекоз. На тонких длинных ножках колыхались на ветру голубые, прозрачные листочки. Но до чего же на этой планете обездоленно выглядел окружающий ландшафт! Когда звездолет закончил полный оборот вокруг планеты, я убедился, что она полностью покрыта толстым слоем льда и снега. Лишь небольшая часть её поверхности свободна ото льда, и то это лишь вершины гор, иногда целые горные массивы, возвышающиеся над снежной поверхностью. Будучи первооткрывателем, я нарек её «Снежной королевой».
Вероятность обнаружения жизнеформ оказалась крайне малой. Однако планета пригодна для колонизации, и я принял решение идти на посадку. Я занял место в посадочном модуле. Корабль стремительно вошёл в атмосферу, и я невольно отпрянул, прикрыв глаза, когда перед моим взором на экране монитора пронеслись огненная буря и дым. Затем последовал мягкий толчок, и я оказался в царстве Зимы и Холода. Дрожа от волнения, я облачился в скафандр и вошёл в шлюзовую камеру. С металлическим звоном открылся люк, и меня окутали белые клубы морозного воздуха. Я долго стоял около корабля, медленно поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, внимательно рассматривая неведомый мне мир. Передо мной простиралась бескрайняя снежная равнина, лишь вдалеке возвышались на жалкую двухкилометровую высоту такие же заснеженные мёртвые вершины гор, утопленных во льду. В глубине души я всё ещё лелеял надежду обнаружить то, ради чего я прибыл сюда. Надежда поддерживалась наличием кислорода и относительно низкой температурой. Однако на Земле существует множество суровых мест, где тем не менее жизнь находит своё проявление. Но взору моему представал лишь однообразный арктический пейзаж, лишённый каких-либо признаков жизни. Ни следа, ни звука – лишь снег, снег до самых гор, которые едва виднелись на горизонте. С их безжизненных, обледенелых вершин веяло леденящим холодом. А над всем этим, словно в насмешку, висело бледно-жёлтое холодное солнце.
Я стоял в этом безмолвии, и мне не верилось, что где-то существует планета, покрытая зелёными лесами и синими морями.
– Возможно ли существование жизни в этом царстве вечной мерзлоты? – пронеслось в моём сознании, и я уже было намеревался вернуться на корабль. Но тут мой взор упал на тёмный продолговатый предмет, едва заметный под толщей снега и возвышающийся над ним в десяти метрах от меня. Я поспешил к нему, не осознавая, что меня ожидает.
Внезапно я почувствовал, как почва уходит из-под ног, и, не успев понять, что происходит, раскинул руки, пытаясь найти опору. Но было уже слишком поздно. Я скатывался в ледяную бездну, словно капля ртути, скользящая между двумя стёклами. Не было ни единого выступа, за который можно было бы ухватиться, а склон становился всё круче, и скорость моего падения увеличивалась.
В тот момент я ни о чём не думал. Мгновенно промелькнула мысль: «Кажется, друг, отлетался!»
Затем последовал недолгий полет, который поверг меня наземь и прижал к двум массивным глыбам.
– Благодарю создателя скафандра, – подумалось мне, – он с честью выдержал испытание. Я лежал неподвижно в кромешной тьме, пытаясь осознать, существую ли я.
Наконец, оправившись от потрясения, я поднялся на ноги и активировал нашлемный фонарь, дабы рассеять окружающий меня мрак. И тут не смог сдержать возгласа изумления. Передо мной раскинулись чертоги «Снежной королевы» – огромная подледная пещера. Лес колоссальных ледяных колонн поддерживал своды её зала. А из глубин пещеры доносились таинственные шумы и шорохи. Казалось, будто там, во тьме, одновременно взлетела стая летучих мышей. К тому же писк и шорох раздавались со всех сторон. Озадаченный и недоумевающий, я внимательно вслушивался и вглядывался в окружавший меня мрак, пытаясь определить источник непонятных звуков. Но кроме россыпей камней и сталактитов ничего не попадало в луч света моего фонаря. Я понял, что стал жертвой слухового обмана. Это слабые звуки падающих капель воды или осыпающихся мелких камней, усиленные стократно гулким подземным эхом, ввели меня в заблуждение. Успокоившись, я решил определить размеры подземного зала. Луч фонаря скользил по сталактитам из застывшей воды, зажигая в них голубоватые сияния. Но даже его сильный свет не позволил мне хотя бы приблизительно определить размеры пещеры. Он просто рассеивался в кромешной тьме, не достигая ни её противоположных стен, ни свода зала.
Я задумался: «Что предпринять? Подняться на поверхность и продолжить поиски других планет или исследовать эту загадочную пещеру?»
В общем-то, эта подледная полость заинтриговала меня своим существованием. Как она могла образоваться на промерзшей планете, где температура на поверхности достигает минус пятисот градусов Цельсия, а толщина льда в этом месте составляет не менее пяти-шести километров? И температура воздуха в ней оказалась как в теплице – плюс двадцать пять градусов.
– Возможно, в этом месте имеется источник тепла, или, быть может, неподалёку находится вулкан? – размышлял я. – Да, использовать такой подарок природы для будущей базы было бы весьма разумно, подумал я и решил обойти пещеру по периметру, чтобы собрать информацию.
Я продвигался крайне медленно, окружённый мраком, который едва рассеивался светом прожектора. Это искажало пропорции предметов и расстояние до них, создавая оптические иллюзии. Игра света и тени порождала странные видения. Я, то замирал в страхе на краю безобидной трещины, принимая её за бездонную пропасть, то искал обходной путь вокруг огромной скалы, пока не убеждался, что это небольшой камень, наполовину скрытый в тени.
Занятый преодолением нереальных препятствий, я не заметил, как упёрся в выступ скалы. Когда я обогнул его, луч прожектора осветил длинный пустой тоннель. Его чёрные, тщательно отполированные стены мрачно отражали падающий на них свет. Я пошёл по широкому коридору, который, казалось, не имел конца. До гладких стен можно было достать, одновременно вытянув руки в стороны. Звук шагов улетал в непроглядную тьму и через некоторое время возвращался эхом. От этого казалось, что я иду не один, и кто-то невидимый шагает за мной. Я замер, напряжённо вглядываясь в непроглядную тьму и вслушиваясь в тишину, пытаясь уловить подозрительные звуки. Но слышал лишь слабый монотонный шум, подобный тому, что издаёт морская раковина, поднесённая к уху. Прислушавшись, я различил то свист ветра, то шорох листьев, переходящий в гул морского прибоя, то детский плач. Звуки были едва различимы, буквально на грани слышимости. В иное время я бы не обратил на них внимания, но в этот момент все мои чувства были обострены до предела. Я осторожно направился в сторону источника непонятного шума, который по мере приближения становился всё отчётливее. Сомнений не было: я слышал эхо, возникшее в резонаторе, а проще говоря, недалеко находился вход в обширный зал. Готовый к самым неожиданным сюрпризам, я напряжённо вглядывался в мрак, слегка рассеиваемый светом. Воображение услужливо рисовало мне зловещую картину того, что могло скрываться в этом подземелье. Иллюзия света и тени создавала картину бесконечного тоннеля, но через несколько метров он заканчивался аркой входа, и я оказался перед внушительной лестницей, вырубленной ведущей вверх, во тьму.
Наличие ступеней означало присутствие людей или каких-то человекоподобных существ. Но как они могли оказаться под толщей льда, да ещё под землёй?
– Куда же ведёт эта лестница? – гадал я, медленно поднимаясь по ступеням.
Преодолев несколько пролётов, я увидел двустворчатую дверь высотой в два человеческих роста. Она была приоткрыта, и я осторожно потянул массивную дверь на себя. Она плавно и беззвучно приоткрылась, и я просунул голову в открывшийся вход. Узкий луч света не позволял охватить взглядом всё помещение целиком, а из разрозненных фрагментов не складывалась целостная картина увиденного. Я осторожно проник внутрь и попытался сориентироваться в кромешной тьме. Постепенно я начал различать внутреннее убранство помещения. Оно было просторным, круглым, с куполом. Не менее десятка проходов пересекались в нём, а в центре, подобно величественному айсбергу, возвышалась пирамида. Своим обликом сооружение напоминало египетские пирамиды-гробницы. Постепенно сужаясь, ступенями, оно уходило ввысь и на самой верхней площадке завершалось стволом гигантского древа, раскидистая крона которого служила сводом зала. Вероятно, это было культовое сооружение. У основания пирамиды в угрожающих позах застыли вырубленные в камне фигуры чудовищ, порождённых буйной фантазией неведомого скульптора. Чудовища были выполнены с удивительным реализмом. Игра света и тени дополняла искусство неведомого мастера, создавая иллюзию движения. Попадая в поток света, монстры угрожающе шевелились и сверкали злобным оскалом. Среди них, словно застывшие навечно в своём движении, находились карликовые фигуры гуманоидов. Их тела, лишённые покрова, представляли собой подобие металлических изваяний: их черепа, лишённые волос, и бочкообразные туловища отливали металлическим блеском. В руках они держали копья. Особенно поразительным было отсутствие лиц у этих существ. Точнее, их стилизованное выражение. Оно не было уродливым, но выглядело весьма необычно: совершенно круглое, с выступающим валиком лба, острыми, как у кошки, ушами, широким носом и полным отсутствием глаз и подбородка. Рот был узким и безгубым.
Я пребывал в глубоком раздумье, не зная, как реагировать на своё открытие. С одной стороны, я обнаружил внеземную цивилизацию, но с другой – она была погребена под километрами льда, подобно тому, как наша земная Атлантида скрыта под водами океана.
– Что ж, – решил я, – моя миссия завершена. Теперь это дело космических археологов.
Я обернулся, намереваясь возвратиться, и внезапно моё внимание привлекла неясная тень, промелькнувшая между чудовищами.
«Должно быть, это всего лишь игра света и тени», – подумал я, направляя луч света в ту сторону, и замер на месте. Только что стоявшие неподвижно изваяния, которые выглядели карикатурно похожими на людей, сомкнулись вокруг меня кольцом.
На мгновение дед замолчал, задумчиво провёл рукой по своей седой бороде, а затем продолжил: «Вот так, совершенно неожиданно, я столкнулся с обитателями Снежной королевы».
Когда на меня обрушилась лавина тёмных фигур, я не стал сопротивляться. Меня ловко спеленали, словно младенца, лишив возможности шевелиться. По безмолвному приказу меня подхватили и в абсолютной тишине, если не считать топота многочисленных ног, понесли по извилистым коридорам вглубь подземелья. Я не видел ничего, кроме мелькающих сводов над головой.
Внезапно несущие меня гуманоиды остановились. Молча, они освободили меня от пут и оставили одного. Помещение, в котором я оказался, было небольшим и имело низкий куполообразный свод. В центре потолка было отверстие размером с чайное блюдце, как я позже узнал, оно служило для вентиляции. Обстановка была спартанской: стол и два стула, вырубленные прямо в стене, лежанка с матрасом из грубой ткани и занавеска, закрывающая вход. Я решил не нарушать правила, установленные местными обитателями, и не стал проверять, есть ли стража за занавеской. Я терпеливо ждал продолжения.
Ожидание было недолгим. Занавесь колыхнулась, и в помещение вступил гуманоид, схожий с местными обитателями. Он не отреагировал на свет моего прожектора, направленный ему в лицо. В правой руке абориген держал посох, увенчанный кроной миниатюрного дерева, которое я успел заметить на вершине пирамиды. Его голова слегка покачивалась из стороны в сторону, и мне показалось, что он изучает меня. Однако, сколько я ни всматривался в его лицо, я не мог разглядеть даже намёка на глаза. Его покачивающаяся голова напомнила мне нечто. Я напряг память и вспомнил: дельфины, покачивая головой, ультразвуковым лучом обследуют пространство в поисках добычи.
Я осторожно, чтобы не напугать аборигена, активировал встроенное в мой скафандр оборудование для обнаружения ультразвука. В наушниках раздался частый писк. Меня облучал живой ультразвуковой сонар.
Абориген медленно поднял посох и так же медленно направил его в мою сторону. Я отпрянул. Гуманоид замер. Затем переложил посох в левую руку. Я невольно повернул голову влево.
Ответный бросок. Моя голова, словно локатор, повторила тот же манёвр.
Слышу шорох слева. Поворачиваюсь, и свет выхватывает ещё одну чёрную фигуру. Следить за двумя гуманоидами в разных концах комнаты с прожектором неудобно. Я выключаю его и переключаюсь на нашлемный светильник. Комната маленькая, и свет заливает её полностью, но гуманоиды никак на это не реагируют. Им свет не нужен. Они, как я догадался, продолжают эксперимент. Один стоит передо мной, покачивая посохом из стороны в сторону. А другой беззвучно направляется мне за спину.
Я тоже совершаю маневр. Отхожу в сторону, чтобы видеть обоих и прижимаюсь спиной к стене.
Оба аборигена озадачены. Они видят, мою реакцию, но не понимают, каким образом я ориентируюсь в полной темноте.
Я жду продолжения эксперимента, но гуманоид с посохом внезапно меняет тактику. Он указывает на скамью, расположенную у стены, явно выражая желание, чтобы я расположился на ней. Несколько озадаченный, я сажусь. Меня поражает логичность действий гуманоидов, и их достаточно выраженное разумное поведение.
Жрец, так я решил называть аборигена с посохом, как с символом власти, подошел ко мне и, открыв рот, издал серию свистящих щелчков.
Я поднялся и, похлопав себя по груди, провозгласил: «Я – человек! Пришёл оттуда!» – и для пущей убедительности указал рукой на потолок. Жрец тоже похлопал себя по груди и свистнул. Я быстро включил лингвиста, в электронную память которого была заложена программа к быстрому лингвистическому анализу, и взаимный процесс обучения начал набирать обороты. Я показывал рукой на окружающие предметы и называл их. Жрец в ответ щелкал и свистел или свистел и щелкал. Когда наглядные пособия кончились, помощник выбежал из комнаты и вернулся с мешком разнообразных предметов: копья, каменные ножи, деревянная лопата, посуда и т.д. Лингвист заглатывал уйму информации и на каждый предмет, повторно показываемый мне, отвечал свистом-щелчком, как заправский абориген, чем приводил гуманоидов в неописуемый восторг. Они притоптывали, приседали, разводя руки, и что-то восторженно свистели. Когда кончились и принесенные предметы, процесс обучения продолжился в тоннеле, по которому меня куда-то повели.
Сложную специфику речи гуманоидов, которая проявилась в построении фраз, словосочетаний, использовании специфических конструкций, лингвист преодолел быстро. Для лучшего восприятия устной речи он использовал короткие и несложные предложения, которые легче всего воспринимаются на слух. Через час обучения, я мог спокойно общаться через лингвиста с аборигенами.
Жрец подошел к выходу и, приподняв занавеску, сказал: «Тебя ждут».
Вслед за своим провожатым я вошел в зал и остановился в нерешительности, не зная, что делать дальше.
Вдоль стен небольшого зала расположились аборигены, и каждый из них, казалось, был поглощён происходящим. Одни стояли, тяжело опустив руки, другие присели на корточки, и все внимательно следили за каждым моим движением. Выше других, на особом месте, сидел, по-видимому, главный жрец племени или вождь. Минуту или больше мы изучали друг друга. Точнее сказать, они рассматривали меня как невиданного зверя.
Старец на мгновение умолк, приостановился и, приоткрыв дверь, изрёк: «Подышим свежим воздухом, а то здесь становится душно».
Я не стал прерывать его рассказ, но, похоже, дед позабыл о нём. Он задумчиво созерцал синие огоньки, мерцающие в печи, и, казалось, размышлял о чём-то своём.
– Налей-ка мне чаю, – вдруг попросил он, протягивая чашку, и добавил: – В горле пересохло.
Я поднялся и разлил по чашкам уже остывший чай. Одним глотком выпив холодный настой из смородиновых листьев, я прильнул к тёплой поверхности печи и впервые ощутил, насколько жарко в комнате.
Старец неторопливо допил чай маленькими глотками и произнёс: «А ведь там я не мог позволить себе даже глотка воды. Можно сказать, был на полном карантине».
Он немного помолчал, словно раздумывая, что сказать, и продолжил свои воспоминания.
– Айсы, так называли себя аборигены, были полновластными хозяевами этой ледяной планеты, которую я назвал – Снежная королева. Дословный перевод «Айс» с их языка – ледяные люди, или подледные люди.
– Но это невозможно! – воскликнул я. – Планета покрыта льдом!
Старик рассмеялся и сказал: «Для нас это, конечно, невероятное событие. Мы дети Солнца и не можем представить жизнь в других условиях. Но природа не рассуждает, хорошо это или плохо. Она бездумно перебирает варианты, отбрасывая ненужные».
– Но источник жизни – Солнце! – возразил я.
– А железобактерии? – парировал дед. – А множество других микроорганизмов, которые питаются минералами и другими химическими соединениями и не нуждаются в солнечном свете? Кроме того, есть другие источники энергии, которые природа может использовать в своих экспериментах.
– Какие?
А вот это и предстояло мне выяснить. – спокойно ответил дед и продолжил необычный рассказ.
Первым молчание нарушил Главный жрец: «Кто ты и откуда ты пришел к нам?»
– Я спустился к вам с высоты, – ответил я и для пущей убедительности указал рукой на свод пещеры.
Мой ответ видимо сильно озадачил слушателей. Несколько минут они сосредоточенно покачивали головами, а затем кто-то воскликнул: «Но там ничего нет! И ты …». Но его перебил властный голос Главного жреца: «Ты должен нам все рассказать!»
Я не стал углубляться в детали устройства мироздания и цели своего прибытия в их подземный мир. Я лишь изложил более или менее достоверную версию о своём долгом странствии среди звёзд и появлении в их мире через расщелину в толще льда.
На что Главный жрец многозначительно намекнул: «Полагаю, ты поведал не всё, что видел и знаешь, но и того, что ты рассказал, достаточно, чтобы внести смятение в нашу жизнь. Уведите его!»
После того как меня вновь водворили на прежнее место и поставили у входа вооружённую охрану из двух гуманоидов, я не стал предпринимать никаких противоправных действий, а предпочёл ожидать дальнейшего развития событий. Что могли сделать эти первобытные обитатели подледного мира со своими копьями с кремнёвыми наконечниками, если бы я попытался покинуть их владения?
Не знаю, что происходило на Совете, но, должно быть, я произвёл на них благоприятное впечатление, иначе они не согласились бы поведать мне историю происхождения своего мира. Примерно через восемь часов меня снова привели в зал заседания Совета, и Главный жрец обратился ко мне со следующими словами: «Мы выслушали тебя внимательно, но усомнились в твоём рассказе. На наш взгляд, мир устроен несколько иначе. Мы изложим свою точку зрения и приведём тебе доказательства нашей правоты. Ты сравнишь обе точки зрения и предложишь нам свои убедительные доказательства устройства мира. Согласен?»
– Смогу ли я убедить вас в своей правоте? – спросил я.
– Если ты прав, мы поможем тебе вернуться обратно, – ответили мне. – Если нет, ты останешься у нас навсегда.
Я согласился без раздумий. Удержать меня они вряд ли смогут. Уйти никогда не поздно, но узнать о происхождении необычной цивилизации было очень заманчиво. В знак согласия я кивнул головой.
– Мы представляем наш мир таким, – начал Главный жрец и махнул рукой, сидящему от него справа аборигену.
Тот поднялся и назвал своё имя: «Я – Хард, хранитель древних текстов».
– Наш мир невероятно стар, – продолжил он. – И подобен огромному диску, толщина которого поражает воображение. Этот диск покрыт горами и льдом и плавает в океане, который мы называем Мировым.
В ответ на это высказывание я едва не рассмеялся, вспомнив, как земляне в древности представляли свою планету: диск, плавающий в океане на спинах слонов, которые стояли на черепахе.
«Наш мир начал своё существование как крохотный зародыш в жидкой грязи на дне океана. Он рос и становился всё больше, пока не достиг огромных размеров. В его глубинах, подобно желтку в птичьем яйце, зародилась жизнь. Вода, окружавшая мир, затвердела, покрыв его скорлупой изо льда, чтобы защитить новорождённых существ от холода.
Первыми на диске появились Деревья Жизни. Они пили горячие соки из его недр и своим теплом растопили ледяную оболочку, создав подледные пещеры, в которых выросли разнообразные растения. Затем к жизни пробудились насекомые и животные: травоядные и хищные. Среди них были и наши предки – Айсы. Они не только освоили подледные пещеры, но и обустроили подземные пространства».
– Храм, в который ты видел, – прервал Харда, Главный жрец, – построен нашими предками несколько тысяч лет назад. Он вырублен из целой скалы и символизирует Дерево Жизни».
Я сразу же вспомнил поразившее меня строение в центре подземного зала: белоснежную величественную пирамиду со ступенями, уходящими ввысь, которые заканчивались стволом гигантского дерева, раскидистая крона которого служила сводом зала.
А Хард невозмутимо продолжал излагать свою теорию: «Диск, на котором мы живём, вращается вокруг своей оси, как волчок, которая одним концом упирается в дно мироздания, а другим в его купол».
«Однако это уже это интересная интерпретация о строении вселенной. Но как они определили, что их планета вращается?» – удивился я, и хотел было задать вопрос.
Верховный жрец внезапно поднялся и сказал: «Мне кажется, ты сомневаешься в том, что тебе было сказано. Пойдём со мной, и я покажу тебе доказательства наших слов».
После этого верховный жрец, опираясь на свой посох, медленно вышел из зала собраний. За ним последовали его приближённые, а я замыкал шествие. Мы прошли через подземный ход, и вышли на площадь, где возвышалась пирамида. По её ступеням мы поднялись внутрь.
В центре пирамиды находился круглый зал диаметром около десяти метров. В стенах по периметру были расположены входы в помещения, которые находились внутри пирамиды. Над моей головой простирался потолок, из центра которого свисал десятиметровый канат, на котором был закреплён массивный каменный шар с заострённым концом. Он медленно покачивался, и вскоре стало очевидно, что плоскость его колебаний поворачивается по часовой стрелке относительно пола. При каждом следующем колебании острый конец шара сместил песок в нескольких миллиметрах от предыдущего места.
В моей памяти начали всплывать воспоминания из курса лекций по физике, которые я посещал на астробиологическом факультете. Я вспомнил, что видел нечто подобное в Санкт-Петербургском планетарии. Это был маятник Фуко – впечатляющая демонстрация вращения Земли. Аборигены подтвердили свои высказывания о вращении их мира вокруг оси с помощью этого эксперимента.
Затем аборигены вывели меня наружу и стали подниматься по ступеням пирамиды вверх. Сооружение оказалось не просто высоким, а очень высоким – метров триста было до верхнего основания, из которого вырастал ствол Дерева Жизни. Однако аборигены с лёгкостью преодолели столь внушительную высоту, не выказывая ни малейших признаков утомления. Если бы не экзоскелет моего скафандра, я едва ли смог бы присоединиться к ним. Главный жрец, окружённый свитой, торжественно прошествовал к входу в ствол дерева, и младшие жрецы последовали за ним. Я, после некоторого колебания, ступил на первую ступень лестницы, которая вела вглубь пирамиды. Она извивалась, опускаясь вниз, обвивая колоссальное бочкообразное сооружение, которое спускалось с потолка пирамиды до первой площадки. Мне не объяснили, что это за устройство, и я терялся в догадках о его предназначении. Затем лестница уступами устремлялась вниз с площадки вдоль стены пирамиды. Я осторожно спускался вслед за жрецами, которые почти бегом преодолевали ступени, прижимаясь к стене, так как перил с правой стороны у лестницы не было, а ширина ступенек едва ли превышала двадцать сантиметров.
Когда спуск благополучно завершился, Главный жрец прервал молчание: «Но это ещё не всё. Скоро тебя приведут к одному из Деревьев Жизни, которые держат Крышу Мира, а потом мы тебе покажем работу этого устройства!»
В соответствии с его наставлениями, мы отправились в сопровождении одного из младших жрецов в комплекс рукотворных пещер и лабиринтов, расположенных в горе. Точность и тщательность, с которой были созданы эти помещения, вызывали у меня восхищение. Можно только предполагать, сколько времени и усилий потребовалось для их создания. Это был настоящий подземный город, который поразил меня своим совершенством. Мы шли по тоннелям-улицам, ширина которых позволяла пройти четырем людям, стоящим плечом к плечу. Вдоль стен в специальных нишах, засыпанных землёй, росли фруктовые деревья с экзотическими плодами. Стены тоннелей-улиц были украшены искусно вырезанными в камне фигурами разнообразных животных и птиц, которые располагались под сводами огромных деревьев.
Проходя по бесконечным галереям, я обратил внимание, что далеко не все они были прорублены айсами. Стены естественных тоннелей, как правило, были шероховатые и менее просторные, чем вырубленные в камне и сами тоннели были более извитые. Лабиринты имели причудливую и запутанную структуру: их ходы то расходились в разные стороны, то вновь сходились. Некоторые из них заканчивались тупиками, другие же выводили в просторные пещеры, образованные в результате работы подземных вод. Эти лабиринты были древними и, несомненно, имели природное происхождение, о чём свидетельствовали сталагмиты и сталактиты, возвышающиеся над полом и свисающие с потолка пещер, подобно гигантским белым колоннам из известняка. Но и эти пещеры айсы старательно приспособили для собственных нужд. В одних они развели настоящие подземные сады, в других держали в загонах домашних животных. Другие – с комфортом оборудовали под жилье. В стенах этих пещер были вырублены, будем так говорить, квартиры. В одну из них меня провели, чтобы продемонстрировать, как живут айсы. Я был не то, чтобы удивлен, я был сражен наповал увиденным. Жилье для каменного века было вполне комфортабельным: спальня для взрослых, аккуратная пещерка для детей, самое удивительное – кухня, туалет и ванная и с горячей и холодной водой! Хозяин дома с удовольствием продемонстрировал мне, как открывать и закрывать воду. Устройство было очень простое, как в самоваре. Из стены две деревянных трубочки и такой же деревянный кран. Повернул один – горячая вода, повернул другой – холодная. Вода стекает по желобу и исчезает в стене. Откуда поступает вода и куда уходит, я узнал несколько позже.
Мы провели несколько часов в этих лабиринтах, исследуя подземный город айсов. Это зрелище поразило меня. По моим подсчётам, в нём могло проживать до пяти тысяч взрослых и детей. Этот город был воплощением колоссального труда айсов, но я так и не смог понять, какими орудиями он был построен. Неужели кремнёвыми долотами? Однако на этот вопрос я так и не получил ответа.
Главный жрец, когда мы прощались, ответил на мой вопрос достаточно лаконично: «Мы и так открыли тебе достаточно наших тайн. Должна же быть хоть одна нераскрытая».
После осмотра города меня сопроводили в мою келью, где я мог отдохнуть. Однако на этот раз меня не охраняли. Я, конечно, не был утомлён прогулкой, но мне требовалось осмыслить полученную информацию в спокойной обстановке, и потому я не стал настаивать на продолжении познавательной экскурсии.
В комнате меня ожидал роскошный обед, состоявший из фруктов и вяленого мяса. Я поблагодарил хозяев за гостеприимство, но объяснил, что не могу принимать их пищу. Они с пониманием отнеслись к моему отказу и унесли тарелки. Это был ещё один аргумент в мою пользу, поскольку айсы всё ещё считали меня пришельцем из другого, малоизвестного им места подлёдного мира. Таким образом, мой отказ от их пищи подтверждал, что я действительно чужестранец.
В утренний час, по моим часам, меня разбудил айс, держа в руках посох. «Я – младший жрец Атрий. – представился он. – Сегодня я познакомлю тебя с нашими мастерскими».
Недолгий путь по лабиринту привёл нас в производственные цеха города. Ничего удивительного и познавательного я не увидел – обычные ремесленные мастерские. В одной пещере подростки под руководством старшего аборигена вытачивают прутики для стрел, в другой взрослые опытные мастера из обсидана и кремния изготавливают наконечники для стрел, копий и ножи. В других помещениях женщины заняты изготовлением циновок, сушкой и вялением фруктов. Мне также показали пещеры, используемые для выращивания светящихся зеленоватым светом грибов.
После краткого обхода мастерских меня снова привели к Главному жрецу, и он без всяких предисловий сказал: «Собирайся. Сейчас ты пойдёшь с нами к Дереву Жизни, которое держит Крышу Мира».
* * *
Подготовка к предстоящему путешествию не потребовала значительных усилий. Мне не было необходимости обременять себя лишними поклажами. Как говорится, я «подпоясался и пошёл».
Местные жители отнеслись к предстоящему походу со всей серьёзностью. Они, подобно альпинистам, приготовили всё необходимое снаряжение: длинные верёвки, крючья из твёрдых пород дерева, вооружились короткими копьями и кремнёвыми ножами. Мне выдали обувь, похожую на индийские мокасины, чтобы приглушить звук моих шагов. Также мне предложили крепкий кремнёвый нож. Я вежливо отказался, объяснив, что никогда не пользовался таким оружием и вряд ли смогу им воспользоваться.
В сопровождении вооружённого отряда из пяти воинов и младшего жреца мы отправился в поход. Мы пробирались запутанными тропами, известными только местным жителям, и наконец вышли из города-лабиринта к ледяной пещере, с которой началось моё злополучное знакомство с айсами. Мы шли, молча, стараясь не терять времени. Больше всего трудностей доставлял я, то и дело, спотыкаясь о камни и проваливаясь в ямы. Наш небольшой отряд бесшумно скользил по тропинке, которая вилась между ледяными сталактитами, мимо озёр чёрной воды и скальных валунов, разбросанных повсюду. Мрак вокруг был настолько плотным, что свет моей лампы едва рассеивал темноту. Я шёл словно в световом шаре, созданном моим фонарём. От яркого света по сторонам возникали пугающие тени, а едва рассеиваемая темнота искажала восприятие. Небольшие углубления в земле казались мне бездонными провалами, а валуны, исчезающие в темноте, неприступными скалами.
Айсы шли так уверенно, будто не замечали окружавшего нас мрака. В пути я ещё раз убедился в феноменальной зрительной памяти местных жителей, которая словно чувствительная плёнка мгновенно фиксирует всё, что попадает в поле зрения. Они шли по памяти, с выключенными сонарами, чтобы не привлекать хищников. И заранее предупреждали меня о препятствиях, которые ещё не возникали на моём пути, но уже ждали меня на каждом шагу. Я невольно испытывал чувство зависти, наблюдая за айсами. Они с лёгкостью перемещались среди каменных глыб и ям, наполненных водой, словно прогуливались по залитой солнцем улице. Этот подземный мир был полон для них света, красок, звуков и ароматов, в то время как я был в нём глух и слеп.
– Да, да, я не ошибся – сказал дед, заметив моё удивление. – Айсы действительно различают цвета. Конечно, невозможно сравнивать их цветоощущение с нашим. Но принцип цветовидения у них и у нас почти идентичен. Мы воспринимаем глазами свет отражённые электромагнитные волны от окружающих нас предметов. Айсы же видят ультразвуковые волны, испускаемые ими не с одной частотой, как, например, летучие мыши, а с множеством частот. То есть их сигнал, как и наш свет, представляет собой спектр различных волн. И в зависимости от того, как эти волны отражаются или поглощаются, в мозгу айсов формируется цветной образ окружающего мира. Естественно, наше восприятие цветов не совпадает. То, что я вижу красным, для них может быть жёлтым или зелёным, а то и голубым. Всё зависит от структуры, плотности, температуры и других свойств вещества.
– Их природный сонар, – продолжал он также неторопливым голосом, – намного совершеннее земных аналогов. С помощью своего сонара айсы воспринимают обратные акустические сигналы на значительном расстоянии и даже от небольших объектов. С их помощью, они не только определяют свое местоположения на местности. В мозгу айсов формируется трёхмерное изображение увиденных предметов пространстве. Фактически они видят мир так же, как и мы.
В ходе нашего общения с этими удивительными существами мне не раз приходилось убеждаться в их поразительной приспособленности к необычным условиям жизни. Когда наш отряд остановился на отдых у небольшого водоёма, я вновь столкнулся с проявлением своей ограниченности. В воде что-то мелькало, напоминая маленьких рыбок. Я опустился на колени и склонился над водоёмом, чтобы рассмотреть их, но тут же стремительно выпрямился, едва не ударившись лбом о дно. Абсолютная прозрачность воды ввела меня в заблуждение. Я намеревался лишь прикоснуться к поверхности водоёма, но вместо этого погрузился в воду до самого дна. Оптический обман сыграл со мной очередную злую шутку.
После недолгого отдыха мы продолжили путь. Вскоре я потерял счёт времени и расстоянию. Пещера оказалась больше, чем я думал, и по своему рельефу напоминала горную местность. Внезапно отряд остановился. Я по инерции врезался в спину стоящего передо мной гуманоида. Все без промедления упали на землю и спрятались за камнями. Я же бестолково метался, не зная, что делать. Кто-то схватил меня за ногу, и я присел, не понимая, что происходит. Лежащий рядом абориген, молча, указал мне направление. Я приподнялся и увидел то, что сначала принял за валуны, оказалось живым существом. Груда округлых камней зашевелилась, и её очертания начали медленно меняться. Это было похоже на то, как будто невидимый игрок накачивает футбольные мячи. Слева от кучи камней из темноты появилась странная фигура – вытянутое тело, похожее на червя, с множеством маленьких суставчатых ног. На тонкой шее была голова акулы с частоколом зубов, направленных внутрь. Голова была увенчана перепончатыми ушами. Вместо передних конечностей были клешни, как у краба, а вместо хвоста – серповидный крюк, как у скорпиона. Воинственно подняв клешни, существо бросилось на добычу. Я был уверен, что оно нападёт. Но я ошибся. Над вздыбленными каменными глыбами взметнулся хобот, подобный хоботу слона. Существо, отдалённо напоминающее скорпиона, не успело преодолеть и пяти метров, как бездыханное рухнуло на землю. Шары опали, словно проколотые, и из груды камней к упавшему скорпиону метнулась…обыкновенная, на первый взгляд, змея, похожая на анаконду, только гораздо крупнее. Она широко раскрыла пасть, медленно проглотила скорпиона и, вернувшись в своё убежище, свернулась в клубок.
Я был ошеломлён тем, что увидел, и не мог осознать произошедшее. Каким образом змея смогла убить или обездвижить своего противника?
Айсы тихо поднялись и быстро отошли от места битвы. Отойдя на приличное расстояние, старший по отряду сказал мне: «Это опасный хищник – Могучий Крик. Он кричит так громко, что животные и другие хищники падают замертво. Мы стараемся не встречаться с ним».
После их слов, я догадался, что змея, или Могучий Крик, как его называют айсы, глушил добычу и защищался от врагов ультразвуковой пушкой. Обнаружив движущийся объект, змея наполняет свои воздушные мешки, а затем с силой выдыхает воздух через гортань-свисток. Выдыхаемый воздух вырывается наружу с такой силой, что возникает свист запредельной частоты, который даже айсы не могут услышать. Направленный рупором воронкой, он ослепляет и оглушает противника или добычу. Я бы не хотел испытать на себе его акустический удар без скафандра.
После короткой паузы мы продолжили путь и подошли к бурному ручью, который с шумом возникал во мраке и так же бесследно исчезал в нём. Я мог видеть лишь часть мутной струи и слышать её грозный шум, а айсы видели то, что скрывала тьма. Они подвели меня к мосту, при виде которого у меня похолодело в животе. Через бурный поток перекинулся ствол дерева средней толщины, один конец которого лежал у моих ног, а другой поглощал мрак. Айс ведущий отряд мелькнул передо мной в круге света и исчез в темноте. Я сделал шаг на бревно, но тут же отступил назад. В этот момент я позабыл о том, что мой скафандр оснащён автономным управлением и без труда преодолел бы это препятствие.
– Никакая сила не заставит меня ступить на эту соломинку! – решил я.
Ведущий появился из тьмы и спокойно остановился на середине импровизированного моста, жестом приглашая меня.
– Не могу! – едва произнёс я.
Айсы чутко уловили моё состояние, и прежде, чем я успел осознать происходящее, оказался над их головами. В следующее мгновение я уже стоял на другом берегу ручья. Мы находились на узкой полоске земли, зажатой между скалой и потоком воды. Над нами возвышалась непреодолимая стена, а позади нас грохотал неумолимый поток. Слева скала обрывалась прямо в реку, а справа тянулась узкая тропинка, шириной в полметра, которая вилась вдоль ручья и исчезала за нагромождением скальных выступов. Мы свернули, затем ещё раз свернули и, наконец, обогнули последний выступ скалы. И тут моему взору предстала долина, покрытая ковром из фиолетовых зарослей. Из этих зарослей, словно белые свечи, поднимались пятнадцатиметровые стволы, глубоко расщеплённые и напоминающие вертикально сложенные доски, расходящиеся веером от общего центра. На них не было ни одной ветки, ни одного листочка. Я с интересом рассматривал эти необычные деревья, которые ничем не походили на земные. Некоторые из них достигали тридцати метров в высоту.
– Это и есть Столбы Мира? – спросил я у жреца.
Он засмеялся и подошёл к одному дереву. От удара каменного топора от ствола откололась длинная доска.
– Разве такие хрупкие деревья могут удержать Крышу Мира? – спросил он с сарказмом и показал рукой на ледяной купол над нами.
Он махнул рукой, и отряд тронулся в путь.
Зрелище, представшее моему взору, могло бы поразить любого. Путь, по которому мы следовали, преградило массивное дерево, рухнувшее, подобно баобабу. Очевидно, оно находилось здесь уже довольно давно. Фиолетовые лианы обвивали его со всех сторон, жадно приникая к его бокам своими широкими листьями, похожими на зонты. Мы приблизились, и то, что я поначалу принял за упавший ствол, оказалось гигантским корнем. Айсы с проворством, достойным обезьян, вскарабкались на него и помогли мне взобраться на его вершину.
С высоты я увидел множество таких же корней, которые подобно змеям переплетались на сотни метров вокруг. Они круто поднимались вверх, сливаясь с гигантским стволом, который я поначалу принял за крутой склон горы. Но и он оказался лишь одним из множества толстых стволов, произрастающих из одного корня. Тёмная кора на них местами потрескалась и свисала клочьями. Мощные сучья разветвлялись над нашими головами и выходили из одного ствола, переплетаясь с другим, образуя ажурный узорчатый каркас. Ещё выше, куда едва достигал свет моего светильника, ветви непроглядной кровлей смыкались над нашими головами. Сотни лиан, прочных и упругих, как стальные тросы, свисали из-под кроны, оплетая гигантские стволы. Я стоял на корне величественного древа, по сравнению с которым наши земные исполины показались бы саженцами-подростками.
Айсы расположились в углублениях на коре корня, чтобы отдохнуть. Я решил, что на время отдыха можно выключить свет, но, как оказалось, это было ошибкой. Внезапно что-то упало на меня сверху, и острые когти впились в мою грудь. Зубы хищника скрежетали по поверхности моего скафандра. От неожиданности я громко закричал. Один из охотников, сопровождавших меня, нанёс быстрый удар копьём по хищнику, и тот с визгом взмыл в воздух и исчез в темноте. Когти и зубы нападавшего не причинили мне вреда. Прокусить или порвать мою защиту невозможно, но я не смог совладать с собой от неожиданного нападения и теперь стыдился своей минутной слабости.
После короткого отдыха три айса и я начали восхождение на Крышу Мира. Остальные остались ждать нас внизу. Восхождение было поистине захватывающим. Аборигены с поразительной ловкостью и грацией, не прилагая видимых усилий, карабкались вверх по многочисленным сучьям и веткам, словно по пожарной лестнице. Вскоре они скрылись в густой листве. Порой я слышал, как ломались ветки, и мелкие кусочки коры и листья падали мне на шлем. Я старался не потерять из виду дорогу и не заблудиться среди этих ветвей и листьев. Мы взбирались по ветвям, которые были похожи на тонкие, изящные трубы, подобные трубам для горячей воды. От массивных стволов исходил ощутимый жар. Мой термометр показывал температуру выше пятидесяти градусов. Вероятно, вокруг была атмосфера, как в бане, но я, защищённый скафандром, не испытывал никакого дискомфорта. Тела айсов блестели то ли от пота, то ли от повышенной влажности, но они упорно продолжали подниматься вверх.
Несколько часов мы карабкались к ледяному небосводу по лианам и ветвям, которые были толщиной с могучий дуб, и конца пути не было видно. На ветвях вокруг меня покачивались какие-то тёмные комочки. Я начал внимательно их рассматривать. Но как только я сделал неосторожное движение, чтобы прикоснуться к ним, вокруг меня зашелестели крылья, и послышались предостерегающие крики их хозяев. Я также интуитивно ощущал присутствие и нелетающих обитателей этого огромного дерева. Они едва заметными и неуловимыми тенями с мягким шорохом скользили рядом со мной. Я не испытывал особого беспокойства, полагаясь на надёжность своей защиты и своих помощников, которые хорошо знали нравы лесных жителей. Поднимаясь по одной из ветвей, я ухватился за свисающую лиану, чтобы использовать её как опору. Лиана дрогнула, изогнулась перед моим лицом, словно вопросительный знак, и оскалила пасть, усеянную тонкими и длинными зубами. Я молниеносно отбросил её, и она полетела вниз. Но не успела она покинуть освещённое пространство, как чёрная стрела вылетела из темноты и снова скрылась во мраке, унося добычу.
Я был уже на пределе своих сил, когда наконец увидел над головой огромный фиолетовый шатёр, сплетённый из листьев исполинских деревьев. Добраться до него было невозможно: вверх уходили многочисленные гладкие стволы, которые заканчивались кроной Дерева Мира, раскинувшейся так широко, что даже луч моего прожектора не достигал её краёв. Я мог разглядеть лишь туман, клубящийся под ней, и мелкий дождь, сыпавший сверху.
В этот момент мне показалось, что я уже где-то это видел. Внезапно моё сознание прояснилось, и я отчётливо представил себе Тянь-Шанскую подледную теплицу! В юности я побывал в горах Тянь-Шаня, где увидел на заснеженном плато высоко в горах ледяную линзу, а под ней – цветущие высокогорные цветы. Это была миниатюрная природная теплица. Однако это сооружение превзошло все ожидания: его создали гигантские деревья, в чьих стволах циркулировал сок, нагретый неведомой силой.
Спуск оказался гораздо более трудным, чем подъём. Мы спускались по ветвям, словно по воздушным тропам, всё ниже и ниже. Айсы шли, словно опытные скалолазы. Я шёл за ними, не отрывая взгляда от их мелькающих силуэтов, и всем телом ощущал жуткую пустоту справа и слева. Внезапно я услышал тихий скрип позади себя и обернулся. Сердце моё учащённо забилось. Из зарослей стволов, ловко перепрыгивая с ветки на ветку, к нам приближался один из тех монстров, которых я видел у основания пирамиды. Он был не очень большим, но гораздо плотнее и шире меня, с бугристой кожей. Монстр раскачался на ветке и спрыгнул рядом со мной, широко расставив две мощные когтистые лапы. Его оскал сверкал, не предвещая ничего хорошего. Не успел я и глазом моргнуть, как из-за моей спины возник айс, протягивая свёрток чудовищу. Монстр мгновенно схватил его зубами и одним мощным прыжком исчез из виду так же быстро, как и появился.
– Не бойся! Это страж Дерева, – пояснил мне айс. – Он пришёл за подарком. Мы всегда, когда приходим сюда на охоту, приносим ему сладкие орехи дерева Уи, и он не мешает нам охотиться.
Когда мои ботинки с глухим стуком ударились о древесину корня, от которого мы начали своё головокружительное восхождение, я испытал невероятное облегчение, близкое к блаженству. Обратный путь наш пролегал по разноцветному лугу, и, если бы не его сине-фиолетовые и бурые оттенки, его можно было бы принять за земные луга. Трава мягко скрипела под ногами, и стаи насекомых взлетали с неё, вспыхивая фейерверком на свету и тут же исчезая в темноте. Скрип, стрекот и писк сопровождали нас до самой дороги. У скал живность исчезла, и мы вышли на дорогу, ведущую домой. Обратный путь прошёл без происшествий.
Дома, уже засыпая, я подумал: «Откуда деревья жизни берут энергию для своего роста?» Я ещё не догадывался, что стою на пороге великого открытия.
В мире вечной тьмы не было ни утра, ни вечера, но айсы жили по своему внутреннему ритму. Они вставали в одно и то же время, начинали «рабочий день», строго по расписанию обедали, ужинали и ложились спать.
Я просыпался медленно, сквозь бредовые кошмары. Перед глазами, как на экране, проплывали туманные образы и картины. Казалось, я смотрю на мир через матовое стекло. Я напрягал зрение и видел бескрайнее ледяное море, сквозь поверхность которого просвечивали ярко-красные бесформенные пятна. Присмотревшись к ним, я ахнул: «Цветы!» Я наклонился ближе к прозрачной крыше уникальной природной оранжереи, чтобы рассмотреть это необычное явление, и отпрянул от неожиданности. Из-подо льда на меня надвигалось совершенно круглое лицо с выпуклым лбом, без глаз, отливающее металлом. Я взмахнул руками, пытаясь отогнать от себя это ужасное видение, и открыл глаза. Надо мной нависло знакомое лицо, словно продолжение кошмара.
* * *
Жрец, как и всегда, с неизменным посохом, дождался, пока я поднимусь, и произнёс: «Сегодня ты отправишься к истокам Деревьев мира, и там ты узришь источник жизни».
Я последовал за ним к пирамиде, где меня уже ожидала группа младших служителей культа, состоящая из десяти человек. За спинами у них были рюкзаки, на поясах – острые каменные ножи, в правых руках – копья, а в левых – деревянные лопаты.
«Прямо как команда кладоискателей, – промелькнула мысль, но вслух я ничего не сказал. Меня заинтриговало это снаряжение.
«Что же они собираются откапывать? Что это за источник?»
Вновь мне пришлось пройти через подземную пещеру, полную опасностей: ямы и камни поджидали меня на каждом шагу. Затем был страшный мост через ручей, и вот мы уже в лесу. Но на этот раз наш небольшой отряд свернул вправо от Дерева Мира и пошёл вдоль бушующего ручья. Идти по берегу было намного легче: ровная песчаная полоса тянулась вдоль фиолетовых зарослей с одной стороны, а с другой – неслись мутные воды. Иногда дорогу преграждала ледяная глыба, которую приходилось долго обходить. И снова лес, и очередное Дерево Мира возвышалось над ним.
«Сколько же их здесь?» – промелькнула мысль. Но задать вопрос я не успел. Словно прочитав мои мысли, старший жрец отряда произнёс: «На нашей территории произрастают шесть таких деревьев. Там, – он махнул рукой, – за лесом есть ещё. Но добраться до них можно только через ледяное ущелье. Мы же идём туда, где дерево только начало расти».
Пробираясь сквозь заросли кустарника, я заметил, что айсы, шедшие впереди меня, обходили какое-то препятствие. Я подошёл ближе. Тропа как тропа – ничего особенного. Я уже был готов сделать шаг, как вдруг кто-то схватил меня за руку: «Осторожно! Здесь ядовитый восьминог! Не попади в его сеть!»
Я присмотрелся и увидел, что впереди меня сверкают едва заметные искорки. Приглядевшись, я разглядел, что они образуют в воздухе круги. Память услужливо подсказала: «Паучьи сети!» Я оторвал ветку и слегка коснулся сверкающего круга. Молниеносно из темноты кустов в центр ловчей сети выскочило чудовище, размером с хорошую собаку. Восемь лап судорожно перебирали нити паутины, громадные жвалы грозно скрежетали. Меня не удивили размеры паука. Больше всего меня поразила чувствительность сонаров айсов, что даже тонкая сеть паука, растянутая в воздухе, не осталась незамеченной. Я не стал проявлять жестокость к охотнику, ведь даже айсы обошли его стороной, не мешая ему охотиться.
Мы продолжали идти по лесу, пока не наткнулись на ледяную стену. Перед нами было ледяное ущелье. Похоже, что огромный ледник просел под собственным весом и треснул. В результате образовалась большая трещина, через которую можно пройти или проехать на любом виде транспорта. Справа от нас вдоль ледяной стены по ущелью струится мутный поток, частично скрытый ледяной коркой. Вероятно, именно ледник и является источником воды. Под ногами хрустит ледяное крошево, ноги скользят по льду. Мы идём, рискуя упасть в поток, и чтобы не упасть, используем верёвку, которой обвязались все члены группы.
К моему удивлению, ущелье оказалось не таким уж и длинным. Оно внезапно закончилось, и над нами открылся свод ледяной пещеры. Чем дальше мы шли, тем шире становились стены пещеры и выше свод. Я поднял голову и был поражён: в двадцати метрах над моей головой нависали огромные ледяные сталактиты. Это было зрелище не для слабонервных лиц. Если такая сосулька упадёт, мало не покажется. Но не это зрелище испугало айсов. Они внезапно, словно по команде, повернулись к зарослям впереди нас и выставили перед собой копья.
– Что случилось? – воскликнул я.
– Это Невидимка! Он затаился в зарослях. Он нередко нападает и на охотников. Мы чувствуем его запах и слышим его движение, но мы не видим его. – сказал старший жрец.
Я пристально вгляделся в заросли. На таком расстоянии свет едва касался края кустарника, и разглядеть того, кто прятался в кустах, было невозможно. Я уже собирался включить прожектор, когда из кустов с кошачьей грацией выскочил зверь, размером с собаку, похожий на варана. У него была длинная морда, растопыренные лапы и хвост, как у ящерицы. Его тело покрывала густая шерсть. Она была чёрной, длинной и переливалась волнами на свету при каждом движении зверя. Он быстро преодолел расстояние до нас и приготовился к прыжку. Я мгновенно выхватил копьё у ближайшего охотника и с силой метнул его навстречу летящему зверю. Копьё попало в шею, и удар был настолько мощным, что кремневый наконечник раздробил шейные позвонки. Я подошёл к поверженному зверю и внимательно осмотрел его. Мощные лапы с серповидными когтями всё ещё дрожали. Я дёрнул за копьё, и пасть клацнула, как капкан. Всё было кончено.
Айсы столпились вокруг поверженного врага и в недоумении ощупывали его густую шерсть. Даже прикасаясь к нему, они не могли его увидеть.
Я быстро снял с него шкуру, вывернул её наизнанку и разложил на земле в форме зверя. Восклицание изумления и страха потрясло своды пещеры. Я положил шкуру мехом вверх. Айсы с удивлением смотрели на то место, где только что лежал хищник. Он снова стал невидим для них.
– Всё дело в мехе зверя, – пояснил я айсам. – Он не отражает ваши сигналы, а поглощает их. Вот смотрите!
Я поднял шкуру и накрыл своего соседа. Айсы засвистели от восторга, когда их друг исчез из поля зрения. Началась игра. Айсы по очереди укрывались мехом и, бегая по берегу, появлялись в разных местах, к великой радости друзей.
Пока айсы веселились, я ещё раз внимательно изучил останки убитого животного. Он оказался самкой, причём явно кормящей щенков. У меня внезапно возникла идея, но я решил не торопиться с её реализацией. Останки животного я столкнул в поток. Чёрная блестящая торпеда стремительно вынырнула из воды и тут же исчезла с добычей. Я мгновенно вспомнил бревно, по которому мы преодолевали мутный стремительный поток, и по моей спине пробежал холодок.
По завершении отдыха и развлечений мы продолжили своё путешествие. Температура воздуха постепенно понижалась, и уже ощущалось дыхание вечного холода. Лес сменился низкорослыми растениями, похожими на северные лишайники. То и дело на нашем пути возникали ледяные столбы, подпирающие ледяной свод над нашими головами. Вскоре они полностью заменили растительность, образовав лес из ледяных колонн. Даже ручей затерялся среди них, и лишь его гул ещё долго доносился до моего слуха. Незаметно сталактиты слились в стены, и мы шли почти друг за другом. Проход сужался всё больше и больше, и вскоре я уже касался локтями обеих стен. По мере того, как коридор сужался, свод нависал над нами всё ниже и ниже. Яркий свет от лампы, отражённый ледяными стенами, не столько освещал дорогу, сколько ослеплял меня.
Внезапно пространство вокруг меня преобразилось: потолок будто приподнялся, а стены раздвинулись. Я распрямил затекшую спину и замер от изумления. Передо мной колыхалась белая мерцающая пелена. Я сделал шаг назад, но айсы, не обращая на меня внимания, спокойно проходили мимо и исчезали за белой завесой.
– Да это же туман, – сообразил я.
Действительно, как я мог так оплошать? Из глубины подледной галереи дул холодный ветер. Соприкасаясь у входа с тёплым воздухом, он и образовывал лёгкую завесу тумана.
Подледный зал, в котором мы оказались, был небольшим, а свод его был на уровне пяти метров. Кристально прозрачные, словно отполированные стены создавали совершенно фантастическую картину из-за многократного отражения света. Аборигены устроились посреди маленького зала, расчистив себе место от мелких обломков, и сели обедать. Я стоял в сторонке и прислушивался к многочисленным шумам и скрипам, долетавшим из многочисленных проходов, которые открывались в виде трещин в толще льда. Наконец, не выдержав, я спросил: «Не собьёмся ли мы с пути в этом лабиринте?»
– Нет. – последовал ответ. – Здесь только один проход, а остальные – просто расщелины.
По-прошествии нескольких минут наш небольшой отряд отправился в путь. Несмотря на близость ледяных стен, и потолка, температура в пещере значительно превышала температуру в ущелье. Под ногами хлюпала сырая почва. Вскоре мы оказались в новой подледной пещере, которая по своим размерам значительно превосходила предыдущую полость. Между ледяными столбами раскинулись густые заросли. Жрец повел отряд по тропинке, которая петляла между деревьями, и вывел нас на поляну, окружённую кустами. Её диаметр составлял около десяти метров, и она была покрыта невысокой травой, из которой, словно перья лука, торчали чёрные стебли толщиной с руку. Они едва достигали моих коленей.
Айсы выбрали место, где было суше, сложили вещи в кучу, взяли деревянные лопаты и начали работать. Они быстро очистили поверхность вокруг чёрных побегов и начали углубляться. Рыхлая и влажная земля легко поддавалась. Они осторожно, как археологи, сняли слой земли толщиной два метра на большой площади, и я увидел – сеть мощных белых корней, которые уходили вглубь и были покрыты крупными клубнями. Из центра корневой системы вверх устремились сочные толстые стебли, переплетённые и соединённые между собой, как кровеносные сосуды в организме человека. Я дотронулся до стебля и почувствовал сильные толчки.
– Это ствол будущего Дерева Жизни, – пояснил мне жрец. – А толчки – его пульс.
Я совершил прыжок в вырытую яму, и в этот момент дозиметр начал издавать свойственный ему сигнал. Я протянул руку к белым клубням, и этот сигнал стал подобен печальному звону. Это стало для меня очевидным знаком – радиация. Какая удивительная сила – жизнь! – размышлял я, глядя на это чудо природы. – Кто бы мог подумать, что растения способны использовать радиоактивные элементы, вместо солнечного света. Вот и разгадка тайны подледной теплицы Снежной королевы – биологический атомный реактор!
Айсы, не теряя времени, ножами срезали с десяток клубней и уложили их в специально приготовленные мешки, а яму засыпали землёй.
– А для чего вам эти клубни? – спросил я жреца.
– Всему своё время. Дома узнаешь.
На пути обратно, когда мы приблизились к месту, где на нас напал зверь-невидимка, я остановился и обратился к жрецу с вопросом:
– У вас есть домашние животные, которые дают молоко?
– Да, – ответил удивлённый жрец, – а для чего тебе молоко?
– Убитый зверь был кормящей самкой, – продолжил я, не давая жрецу опомниться. – и, если мы не найдём и не заберём её детёнышей, они погибнут.
– Но они же опасные для нас хищники!
– Я понимаю, – прервал я его. – это опасный для вас зверь. Но вряд ли вы – его основная пища. Скорее всего, он нападал на вас, когда вы нарушали границы его территории или когда рядом были его детёныши.
–А зачем они нам нужны? – спросил жрец.
– Для будущего, – спокойно ответил я и направился в заросли в поисках щенков.
Как я и предполагал, логово с детёнышами находилось примерно в двадцати метрах от нашего лагеря, под сводом из сталактитов, которые образовали в кустах небольшую пещеру. В логове было пятеро щенков. Они ещё не успели проголодаться и мирно спали, посапывая. Я быстро собрал их в заранее подготовленный мешок и вернулся обратно.
Обратный путь всегда короче.
Как обычно, меня поднял с постели один из молодых жрецов и повёл к храму-пирамиде, выбрав новый маршрут. Очевидно, айсы не были уверены в моей лояльности и старались предотвратить возможность моего самостоятельного выхода из их подземного города.
В пирамиде меня встретил только один главный жрец. Он жестом руки отпустил моего сопровождающего и указал на бочку, которая свисала с потолка пирамиды. Я подошёл ближе и увидел, что бочку обвивала узкая винтовая лестница, ведущая наверх. Когда мы поднялись по ней на небольшую площадку, жрец указал мне на каменный блок на странном сооружении.
– Смотри! – сказал он и вытащил каменную пробку.
Счётчик Гейгера затрещал, как стая кузнечиков. Я невольно отпрянул, на мгновение, забыв, что нахожусь под защитой скафандра. Жрец невозмутимо показал мне мешок, в котором мы принесли клубни, и высыпал их на пол. Кремневым ножом он разрезал каждый клубень на четыре части, смешал их с песком в деревянном ящике и высыпал в бочку, после чего вставил пробку на место.
– Раз в год мы добавляем сюда определённое количество таких клубней. Они вместе сильно разогреваются, и горячий воздух по трубам поднимается к вершине дерева на пирамиде. Крона дерева – это дно резервуара, в котором тает лёд, и вода по стволу стекает прямо на клубни, остужая их. А горячая вода подаётся в город.
– А как вы регулируете процесс?
– А ты разве не слышишь, как поют эти клубни? – в свою очередь удивился Главный жрец. – Когда их пение переходит в крик, мы прибавляем поток воды и охлаждаем их. Если их пение стихает, мы добавляем ещё клубни. Всё очень просто.
– Да, очень просто и доходчиво, – подумал я, представив, как наши инженеры регулируют атомные реакторы, и чуть не засмеялся, хотя мне было не до смеха.
Только представь себе: первобытные люди держат в руках ядерный реактор!
Впрочем, если обратиться к истории происхождения человека, то природный реактор, расположенный на побережье юго-восточной Африки, как мне кажется, и стал тем самым ускорителем, который способствовал эволюции человеческого рода. И он был создан самой природой в результате стечения обстоятельств. Просто в подходящем месте скопился уран, и началась цепная ядерная реакция. Периодические подъёмы уровня воды в океане, заливавшей побережье Африки, где случайно возник ядерный реактор, замедляли его работу на несколько миллионов лет. Когда же вода возвращалась в свои первоначальные границы, реактор снова начинал работать.
– А сколько клубней в этой бочке? Не опасно ли, когда их будет много?
– Их здесь столько, сколько содержится в корнях Дерева Жизни, – с важным видом ответил жрец. – Я надеюсь, ты понял, что наша пирамида и есть Дерево Жизни. Она символизирует почву, в которой разрастаются корни с клубнями Дерева Жизни. По его стволу бегут горячие соки, которые мы используем в своих целях.
Когда я слушал рассказ жреца, я невольно задумался о том, что звезда, вокруг которой вращается Снежная королева, не отличается высокой температурой. Поэтому поверхность планеты покрыта льдом. Вероятно, она сформировалась не менее трёх миллиардов лет назад, и в её коре содержится большое количество урановой руды и других радиоактивных элементов, которые и использовали растения. В борьбе с холодом деревья не только сами выжили, но и создали условия для жизни других обитателей планеты. Всё благодаря своим уникальным свойствам – способности усваивать и использовать радиоактивные элементы – они смогли адаптироваться к суровым условиям и стать настоящими победителями в этой борьбе.
Экспресс-анализ клубней на корнях Дерева Жизни показал, что они были заполнены слизистой массой с высоким содержанием урана. Замедлителем ядерной реакции служили длинные нити полисахаридов, в состав которых входили атомы бериллия. Деревья использовали энергию своего биологического атомного реактора для проведения биохимических реакций.
Так за миллионы лет установилось равновесие между некогда грозными соперниками – льдами и необычными растениями. И от них зависит вся жизнь подо льдом вместе с гуманоидами. Отсюда и возникновение религиозного культа – поклонения Дереву Жизни. Благодаря сочетанию таких способностей, как ультразвуковое видение и феноменальная память, айсы стали разумными.
Погружённый в свои мысли, я не слышал, о чём ещё говорил жрец.
Меня вывел из задумчивости толчок в плечо и голос: «Ты что, уснул?»
– Нет, просто задумался, – ответил я.
– Хорошо, – продолжил жрец, – я хочу, чтобы ты рассказал мне всё ещё раз, но уже без свидетелей и подробнее.
– Не понял? – удивился я неожиданному повороту разговора.
– Не притворяйся, – с иронией произнёс жрец. – Я не настолько глуп и невежествен, как ты думаешь. Мне довелось прожить долгую жизнь, и я знаю, что происходит в высших сферах. Ранее уже предпринимались попытки проникнуть туда и исследовать их, но по каким-то причинам наши предки предпочли оставить эту затею. Эта мысль пришла нам в голову, когда мы, будучи ещё юными, странствовали по горам и пещерам, и уже тогда мы пытались отыскать путь наверх. Никто не смог переубедить нас в нашей безумной идее. Несмотря на несогласие Совета жрецов, мы, несколько молодых и горячих учеников, отправились покорять неприступную поверхность. Но по приказу Главного жреца нас выследили и вернули с полпути, а мой друг успел скрыться в зарослях горного кустарника и ушёл туда один. С тех пор прошло много времени, и в памяти наших жителей стёрлись воспоминания о нём. Нас не подвергли наказанию за проявленную инициативу. Верховный жрец ограничился тем, что побеседовал со мной наедине, подобно тому, как мы с тобой общаемся сейчас. Судя по его голосу, он был чем-то обеспокоен.
Во время нашей краткой беседы у меня возникло ощущение, что он ожидает от меня чего-то или, возможно, хочет что-то сказать, но не может решиться. Однако он всё же взял себя в руки и поведал мне историю своего народа, который прошёл долгий путь от первобытного состояния до наших дней. Он рассказал мне о том, как айсы научились тспользовать огнь и в борьбе за выживание так покорили природу, чуть не погубив всё живое. Они обогревали свои жилища, используя древесину, безжалостно вырубая леса вокруг Деревьев Жизни. Деревья Жизни начали медленно расти и увядать, а оставшиеся не успевали согревать воздух, и равнины окутал туман. Климат стал резко меняться: с гор поползли ледники, с вершины мира стремительно спускались гигантские сосульки. Многие Деревья Жизни погибли от истощения, и льды заполнили некогда цветущие пещеры. Жизненное пространство постепенно сокращалось, и начались войны за охотничьи территории. В те далёкие времена и возник культ Дерева Жизни, и была построена эта пирамида. Жрецы взяли власть в свои руки, прекратили войны, объединили оставшиеся племена айсов и ушли в подземные пещеры, чтобы не вмешиваться в естественные процессы природы. Использование открытого огня было запрещено на долгие века. Под руководством клана жрецов, благодаря усердному труду айсов, были восстановлены первозданные леса и выращены новые деревья мира. С тех пор все научные исследования доступны только жрецам и проводятся только тогда, когда есть полная уверенность, что они не причинят вреда живущим.
Я, как главный хранитель научных тайн, хочу знать, что происходит на Крыше мира и не представляет ли её открытие опасности для нас!?
Мне пришлось подробно рассказать о своём прибытии на их планету, особенно о том, как устроена поверхность планеты, которую они называют Крышей мира. После долгих и детальных расспросов он наконец-то согласился с моими доводами. Он задумался на несколько мгновений, а затем решительно спросил: «Ты хочешь вернуться?» И сам же ответил: «Знаю! Хочешь! Мы отпускаем тебя, но ты поведёшь с собой айсов и покажешь им место, где ты спустился к нам. Думаю, время пришло. Айсы должны подняться на Крышу мира».
* * *
После обстоятельной беседы с главным жрецом, я приступил к подготовке к экспедиции на Крышу мира. Но прежде всего, я объяснил айсам, как использовать пойманных щенков в будущем. Я объяснил им, что из этих хищников получатся превосходные ездовые животные для передвижения по заснеженным полям на Крыше мира. Я не стал обучать их дрессировке этих животных, поскольку айсы с давних времён умели одомашнивать дикую живность, а лишь помог им изготовить сбрую для будущих ездовых, чтобы они могли различать «невидимок», как они называли своих питомцев и объяснил им как использовать их в будущих поездках по снежной поверхности.
Подготовка к экспедиции заняла ещё несколько дней. Я научил аборигенов изготавливать самые простые лыжи и сани. Айсы заготовили для себя достаточно продуктов: вяленое мясо, сыр, сушёные ягоды, деревянные фляги с мёдом и многое другое. Всё это они компактно уложили в кожаные мешки, превратив их в подобие рюкзаков. Но возникла проблема с тёплой одеждой. Зверей с густым мехом не было, как и птиц, чтобы нащипать пух. Птицы, конечно, существовали подледном мире, они больше походили на летучих мышей, и в основном, были яйцекладущими. Но решение нашлось. Айсы сшили комбинезоны из двух слоёв кожи и наполнили их пухом цветущего растения, которое росло в изобилии на каменных россыпях. Не забыли и об оружии: копьях из прочной древесины и ножах, сделанных из костей.
В последнюю ночь в мире подо льдом я провёл в тяжёлых и беспокойных размышлениях. Было ясно одно: я стал участником сомнительного предприятия. Какова будет судьба тех, кто отправится со мной в экспедицию? Смогут ли они выдержать морозы? Смогут ли ориентироваться в бескрайних просторах? А утро я принял окончательное решение: пусть они станут первооткрывателями новых земель, подобно Колумбу! Мы отправимся к моему кораблю и, если моя затея удастся, они смогут чему-то научиться за время пути.
Перед отправлением в поход, нам подошли младшие жрецы и вручили каждому участнику экспедиции по глиняному горшочку с печатью. На мой вопрос о том, что находится в горшочках, один из айсов ответил: «Это клубни Дерева жизни. Они будут согревать нас». И он привязал горшочек к своему поясу к своему животу.
Когда я сообщил, что мы готовы к путешествию, все гуманоиды пришли в движение. У них было приподнятое настроение, ведь для жителей подземного мира наступал решающий момент – начало путешествия на Терра инкогнито.
Прощание было скромным и лишённым излишней торжественности. Главный жрец лично проверил снаряжение участников экспедиции и передал свиток младшему жрецу, который возглавил экспедицию. Позже я узнал, что это была карта подземных путей, по которым нам предстояло пройти много километров, прежде чем мы достигнем поверхности планеты. Нас провели по улицам подземного города и завели в пещеру. Колона айсов с набитыми заплечными мешками начала свой путь по извилистому ходу в неизвестность. Я шёл в центре группы. Подземный коридор, по которому мы шли, когда-то был промыт подземной рекой. Её воды прокладывали себе путь среди скальных пород, размывая мягкую породу. Русло бывшей реки было полно поворотов и спусков, и, в конце концов, мы вышли ледяной купол. Здесь мы сделали первый привал. Аборигены немного поели из своих запасов, отдохнули, и отряд продолжил путь. Устье бывшей реки плавно спускалось от подножия горы и впереди уходило вниз небольшой лощиной, покрытой зарослями кустарников. По склонам лощины начинался лес. В лесу было шумно: птицы громко щебетали, свистели и издавали другие звуки, насекомые жужжали, невидимые земноводные издавали безумное кваканье. Иногда за стволами деревьев мелькали небольшие животные, которых я не успевал разглядеть.
Мы вступили на тропу, которая вела по краю леса, извиваясь в вечной темноте под широкими кронами деревьев. Лощина плавно перешла в равнину с редкими отлогими холмами. Около одного из холмов, окружённого зарослями кустарников, мы остановились. Ледяной свод нависал над нами, создавая неприятное ощущение, так как со дна свода свисали молочно-белые сосульки. Проводники посовещались и, выбрав новое направление, повели нас дальше. Идти было легко. Под ногами была неровная поверхность, похожая на песок, но состоящая из чего-то другого. Казалось, что мы идём по дну высохшего моря. Как снег под ногами, хрустел песок. Вскоре мы снова вошли в лес. Он становился всё гуще и выше. Между деревьями сновали мелкие животные, не обращая на нас внимания. Иногда в свете мелькали насекомые, похожие на зажигательные пули из автомата. По бокам от нас возвышались небольшие ледяные сталагмиты, покрытые высокой травой и украшенные белыми соцветиями. Постепенно подъём сменился ровной поверхностью, покрытой небольшими камнями, а затем начался спуск. Лес стал реже, и перед нами открылась долина, упирающаяся в покрытый льдом горный массив. На другой стороне было озеро с заросшими кустарником берегами. На его тёмной глади плавали птицы. Я не успел их рассмотреть, как сверху из темноты на них бросилось что-то косматое: с кожистыми крыльями, хвостом ящерицы, плоской зубастой мордой и множеством паучьих лап с острыми когтями. Но птицы не испугались, а взмыли вверх, подняв брызги, и превратились в длинные щупальца. В одно мгновение охотник стал добычей.
– Это многорукий. – спокойно прокомментировал ситуацию проводник и указал рукой в сторону горы. – Нам туда.
Мы обогнули озеро, и равнина закончилась, тропа начала петлять по склону горы. Идти стало труднее из-за обилия камней. Я напрягал уставшие глаза, но в темноте, кроме редких деревьев и освещённого прожектором участка тропы, ничего не было видно. Вскоре тропа исчезла под ногами, превратившись в каменистую осыпь. Проводник уверенно шёл вперёд, ориентируясь на едва различимый шум ручья. Он шумел где-то совсем рядом. Проводник свернул к густым зарослям. Мы последовали за ним. Расщелина была такой узкой, что её трудно было заметить с первого взгляда. Она выглядела как обычная трещина в скале, из которой вытекал ручей шириной около полуметра. С одной стороны ручей примыкал к скале, с другой – к пологому каменистому берегу, всего несколько десятков сантиметров в ширину. Никогда бы не подумал, что это начало новой тропы.
После двух часов бесцельных, как мне казалось, блужданий по этим труднопроходимым зарослям, мы вновь оказались на каменистой тропе. Она снова начала подниматься вверх, и мы с трудом карабкались в темноту. Спустя несколько часов мы упёрлись в препятствие. Я поднял голову: надо мной возвышалась неровная, почти отвесная стена красноватого зернистого камня с белыми прожилками. Я не очень разбираюсь в минералогии, но, скорее всего, это был мрамор. Местами бесплодный камень был покрыт сине-бурым лишайником, а в некоторых расщелинах торчали сухие ветви кустарника. Я не мог представить, насколько высока гора, поскольку освещения не хватало большое расстояние
Здесь мы сделали очередной привал перед трудным подъёмом. Отвесные стены не внушали оптимизма: на них не было и следа тропы. Но пятеро альпинистов, немного отдохнув, начали штурмовать неприступную, на мой взгляд, стену. Они вбивали деревянные клинья в едва заметные трещины, строя что-то вроде лестницы, и, обвязавшись верёвками, ловко карабкались по отвесной стене. Через минуту они исчезли на границе света и темноты. Через несколько минут сверху упала связка верёвок. Мы быстро закрепили на концах верёвок всё наше снаряжение, и оно тоже исчезло в темноте. Нам, оставшимся внизу, сбросили верёвочную лестницу. Я с усилием дёрнул её, чтобы проверить прочность, и осторожно начал подниматься по ней.
Когда я достиг вершины, то огляделся вокруг. Под ногами была небольшая площадка, от которой вниз уходила узкая тропинка, извивающаяся серпантином. С одной стороны она прижималась к скале, вершина которой была скрыта под ледяным навесом, а с другой – обрывалась вниз. Первая пятёрка айсов начала спускаться по тропинке, держась вплотную к скале. Ширина карниза не превышала сорока сантиметров. Я не стал полагаться на свои силы и включил автопилот. Теперь я был лишь пассажиром в скафандре, управляемом компьютером. Он спокойно шёл, используя экзоскелет, и не было риска оступиться. Хотя опасности для меня не было, после первых шагов я покрылся холодным потом.
Дело в том, что когда идёшь сам, то не чувствуешь, как раскачивается тело при ходьбе. Но когда я был в скафандре, который шёл сам по себе, я почувствовал лёгкую качку, как при езде в машине. И это происходило на краю обрыва. Трудности возникали на поворотах, которых было предостаточно на нашем пути. В такие моменты я невольно смотрел вниз, на пропасть под ногами, и мечтал поскорее оказаться наверху. Конечно, такое путешествие не доставляло мне удовольствия.
– Смотри, чужеземец – сказал абориген и указал рукой.
Я посмотрел в ту сторону и вздохнул с облегчением. На противоположной скале, на уровне нашей тропы, темнело широкое отверстие, перед которым была широкая площадка. Однако мост из двух тонких брёвен, который разделял нашу группу и площадку, несколько уменьшил мою радость. Преодолев его, не теряя времени, мы направились к тёмному проходу и вошли в каменный коридор, который резко свернул влево и начал подниматься вверх. Нам пришлось долго идти по нему. Он изгибался то вправо, то влево, то шёл прямо, но мы всё же медленно поднимались в гору. Похоже, этим тоннелем почти не пользовались. Его пол был засыпан обломками камней, а стены не были отполированы, как в жилых тоннелях айсов. Продвижение было крайне затруднительным, ноги постоянно подкашивались, а плечи задевали выступающие части стен. Я надеялся, что мои спутники, айсы, знают, куда идти. Я выключил фонарь. Спустя несколько минут мои глаза привыкли к темноте, и я заметил впереди слабое свечение. По одному мы протиснулись в узкий проход. Сверху, слева и справа нас окружала монолитная масса. Продвигаться вперёд можно было только на четвереньках. Каменный пол был покрыт мелкими осколками льда и камнями. Они не доставляли мне неудобств, так как я был защищён скафандром. Но, вероятно, они причиняли боль локтям и коленям моим спутникам. Я слышал приглушённые стоны и ругательства позади себя, но продолжал двигаться вперёд, надеясь, что путь не будет заблокирован обвалом или не будет запечатан сползшим со скал льдом.
Айсы уже совсем обессилели. Но какая-то сила поднимала их и снова гнала вперёд, как ночных мотыльков на свет свечи. Наконец, узкий и низкий коридор расширился настолько, что я смог выпрямиться во весь рост. Перед нами предстала величественная пещера. Я выключил фонарь, увидел вдалеке смутное светлое пятно и ускорил шаг. Слабое свечение становилось всё более отчётливым по мере моего приближения к нему. Последние метры я буквально пролетел по узкому проходу к выходу из пещеры, зажмурился и резко наклонил голову, потому что нестерпимо яркие лучи солнца пробивались к глазам даже сквозь плотно закрытые веки. Я подождал, пока зрение придёт в норму, и только потом огляделся по сторонам. Свет! Снег! Простор! От вида бескрайнего пространства у меня закружилась голова, и, чтобы не упасть, я присел прямо на снег. Морозный воздух, проникая через фильтр скафандра, обжигал лицо. Я оглянулся. Испуганные айсы медлили выходить, не уверенные в новом мире, который ждал их снаружи. Я терпеливо ждал. Наконец из скальной щели осторожно выползали мои спутники, вскакивали на ноги и ошеломлённо крутили головами. Для них это было, конечно, странное ощущение – оказаться в окружении пустоты. Вся их жизнь проходила в узких коридорах подземелья, и вдруг они оказались во власти необъятного простора. Многие люди испытывают клаустрофобию в замкнутых помещениях, а айсы явно ощутили страх перед открытым пространством.
За нашими спинами возвышался величественный утёс, достигающий головокружительной высоты. Скалы, сложенные из крупнозернистых вулканических пород с мощными прожилками пегматита, отражали солнечные лучи, создавая величественное зрелище. Между скалами протекал ледник, который, соединяясь с другими ледниковыми потоками из многочисленных долин, образовывал ледяную равнину. Именно по этой равнине нам предстояло пройти к месту моей посадки.
Я огляделся. Справа от нас сверкала гладкая поверхность льда. Слева виднелись ледяные торосы, которые отсвечивали жутким зелёным светом. Позади нас возвышались скальные отроги. А прямо перед нами, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя снежная равнина, которая лежала между ледяными торосами и скалами.
Охваченные предвкушением чудес и фантастических событий, айсы вертелись, осматривая всё вокруг. Я дал им время освоиться, оглядеться и отдохнуть. Трудный подъём изрядно их утомил, а нам предстоял долгий путь по неизведанным просторам застывшей планеты к месту моей посадки.
После короткого отдыха мы вытащили снаряжение из расщелины с помощью верёвок. Айсы встали на лыжи. Мешки с продуктами и другим снаряжением мы положили на санки. Я возглавил колонну, и мы отправились в путь. Я решил вести отряд вдоль торосов, используя их как укрытие от возможного ветра. В дальнейшем они также будут служить ориентирами для айсов.
В первое время я шёл неспешно, чтобы дать аборигенам возможность привыкнуть к новому способу передвижения. Однако, к моему удивлению, айсы быстро освоились на лыжах и не отставали от меня. Я даже обрадовался: «Через день-два мы будем на месте!»
Старик усмехнулся: «Но я не учёл мнение Снежной королевы».
Спустя три километра пути я осознал, что при сохранении текущего темпа первый привал мы устроим ближе к вечеру. Однако мои спутники внезапно сбились с ритма и остановились, испуганно оглядываясь и явно прислушиваясь к чему-то. Вокруг царила ледяная тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Ни птиц, ни зверей, ни насекомых, способных нарушить абсолютное безмолвие при столь низкой температуре, не было. Даже ветра не чувствовалось. Я замер и прислушался, и тут же услышал совсем рядом долгий, протяжный вой, словно возникший из ниоткуда. Я завертел головой, пытаясь определить источник странного звука. Вокруг было только ледяное поле и снежная полоса вдоль ледяной стены. Я взглянул на небо, словно надеясь увидеть птиц, и тяжело вздохнул. Только что светило солнце, а теперь лёгкие перистые облака затянули небо. Снежная Королева явно приготовила для нас сюрприз. И я понял какой. Среди моих спутников началась паника.
– Освободитесь от мешков и возьмите лопаты! – скомандовал я, не давая айсам опомниться, и распределил между ними обязанности. Мой уверенный тон подействовал на них успокаивающе. Через минуту работа закипела. Половина бригады острыми деревянными лопатами вырезала из плотного снега огромные бруски, а другая – выкладывала из них стены будущего домика. В воздухе уже закружились первые снежинки. По ледяному полю заструилась позёмка. С вершин ледяных торосов обрушился ветер. Он рвал плащи айсов и заходился диким тоскливым воем. Я никого не подгонял. Айсы сосредоточенно и молча, боролись за жизнь.
Едва они успели положить последний снежный кирпич в крышу дома, как всё окуталось белой непроглядной мглой. Началась буря – близард – характерная для земного заполярья, во время которой тонны снежной мёрзлой пыли несутся почти горизонтально. Сухая летящая снежная пыль издавала тихий зловещий шелест, который перешёл в ровный унылый гул. В белом, бешено несущемся потоке снега ничего нельзя было рассмотреть даже на расстоянии метра. Один за другим мы заскочили под укрытие толстых стен.
