Журнал «Парус» №85, 2020 г.
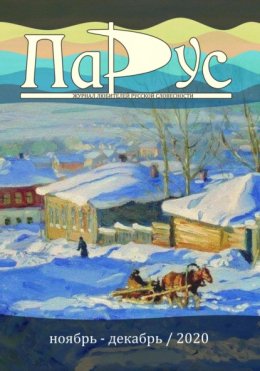
Цитата
Борис ШЕРГИН
«Жить с природою – телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идёт, ветер ли, непогодушка – ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-те об этом празднуют».
Дневники. 1939
Поздравления к 10-летию журнала «Парус»
Ирина КАЛУС. Слово главного редактора.
Дорогие друзья!
Дорогие помощники, редакторы, веб-редакторы, авторы, ведущие смежных проектов и, конечно, читатели журнала «Парус»!
От всей души и с огромной радостью поздравляю вас с 10-летием нашего любимого литературного корабля!
Благодаря вашим колоссальным усилиям, вашей поддержке, интересу и вдохновению мы входим в следующее десятилетие.
И мне хочется пожелать вам таких же огромных успехов, открытий, признания, исполненных духом подвигов в прекрасной, похожей на морскую, стихии литературы.
Спасибо, что вы рядом, на нашей палубе единомышленников, спасибо, что остаётесь самоотверженными хранителями Слова!
Хочется продолжать радовать вас и радоваться вместе с вами!
Ирина КАЛУС,
гл. ред. журнала «Парус»
Лента поздравлений к 10-летию журнала «Парус»
Вацлав Михальский, прозаик.
«Парус» определяет себя как журнал литературный. И чтобы поздравить его с 10-летием существования (что по нашим временам солидный возраст), позвольте мне еще раз изложить свое «стариковское» понимание литературы. Подчеркну при этом, что сам я хотя и опубликовал немало книг, к классическому понятию литературы отношения не имею, и поэтому мои суждения – это взгляд «критика» субъективного, глядящего как бы со стороны, но, надеюсь, и он кому-то может быть полезен.
Литературу понимают в первую очередь как художественное творчество. Эталонный образец ее – наши прозаики XIX века. Однако они писали не только художественные произведения, но и религиозные размышления (Гоголь, Достоевский), обсуждали в письмах духовные вопросы, касавшиеся литературы. Это указывает нам на то, что литература, являясь важной сферой (или уровнем) человеческой культуры, – в то же время представляет собой только часть в духовной иерархии ценностей человеческого бытия. Выше художественной литературы – уровень религиозного осмысления мира и цели нашей жизни в нем, а потому и осмысления самого явления литературы. И только тот писатель, который верно ощущает этот высший мир, способен верно (без горделивого самовозвеличивания, еретических соблазнов или оккультизма) выражать тайны мироздания с противостоянием в нем добра и зла литературно-художественными средствами. (Еще в большей мере это можно сказать о поэзии, которая говорит символами со сгущенным в них духовным смыслом – при его отсутствии это уже не поэзия, а игра в рифмы.)
В то же время художественные средства отличаются от религиозных некоторым «импрессионизмом» (если взять сравнение из живописи), то есть своей намеренной размытостью, прикровенностью, порою увлекательной загадочностью, когда вместо четких формулировок «что такое хорошо и что такое плохо» и почему это так, используются косвенные, загадочные, интуитивно-чувственные штрихи и пятна, при этом удаленному от «полотна» на некоторое расстояние читателю-зрителю предлагается соучаствовать в понимании прикровенного смысла и делать самостоятельный вывод. Хотя обычно этот вывод у самого писателя имеется, даже если он его не вполне осознает, а тоже лишь интуитивно.
Вот почему талантливую художественную литературу я называю «прикосновением к тайне бытия». (Этим выражением я, пытаясь в 1980-е годы писать рецензии на «перестроечные» литературные события, как-то еще в Германии охарактеризовал прозу Битова, – и оно ему понравилось; прочтя мою рецензию в «Гранях», он сказал при мне своей переводчице: «вот он правильно меня чувствует». Но, вероятно, он и сам, ощущая тайну, не стремился ее постичь полнее, ему нравилось именно собственное художественное прикосновение к ней.)
Настоящему критику для оценки художественной литературы необходимо подниматься из нее в область философии и религии. Иначе получаются просто ремесленные пересказы с раздачей пинков и пряников, или с включением критика в авторскую психологическую игру интеллектуальных ассоциаций (как в моем случае с Битовым). Хотя и человеческое религиозное мировоззрение – это тоже всего лишь «прикосновение к тайне» бытия, но всё-таки уже на уровне данного нам Откровения свыше. И за такое дополнение художественная литература должна быть талантливым критикам благодарна, они придают ей завершение в виде «духовной надстройки».
Именно в четком взгляде сверху я вижу большую заслугу «высокой» литературно-критической публицистики русской эмиграции – в работах знаменитых философов и церковных авторов, которые более проницательно осмыслили русскую классику XIX века (чего не могло быть в советском литературоведении)… Становится очевидно, что даже эта классика – это не «наше всё», а только часть его, «прикосновение к тайне», не во всем верное, но существующее в неразрывной связи с разгадкой тайны (иначе бы и прикасаться было не к чему).
Мне запомнились слова архимандрита Константина (Зайцева) о Пушкине, отметившего: «при всей гениальной его проницательности и чуткости некая укороченность перспективы: мистическая природа явлений, раскрывающаяся только на далеких горизонтах, от него сокрыта». С другой стороны, быть может, прозрение поэтом религиозной перспективы, если бы он перестал видеть вершину бытия в своей «наркотической» поэзии («я памятник воздвиг себе нерукотворный») и увидел бы ее исток в высших сферах, от которых он получил свой дар медиума, – это могло бы если не убить, то обеднить волнующую художественную гениальность Александра Сергеевича. Возможно, именно так Гоголю в конце жизни открылся взгляд «сверху» на его «Мертвые души» и на всё предыдущее его творчество, которое он бескомпромиссно взвесил и нашел «легким» в сравнении с жизненным Божиим заданием себе.
Как уже говорил в «Парусе» раньше, я веду к тому, что не могу воспринимать увлекательный мир литературного творчества как самодостаточный, – хотя именно так большинство его насельников понимают свое участие в т.н. «литературном процессе». (В 1990-е годы у меня была еще и возможность общения с такой профессиональной писательской средой; вероятно, отсюда частично происходит и мой «литературный» скепсис.)
Как можно видеть, к счастью, оба эти уровня литературы и критики представлены в «Парусе», заявленная цель которого: «поиск и поддержка новых талантливых прозаиков и поэтов, критиков и литературоведов, историков и философов». Так что желаю его команде и далее собирать в паруса своей бригантины ветры талантливой художественной интуиции молодых (и не молодых) прозаиков и поэтов, сохраняя в то же время должный духовный ориентир пути в нашем мире, который всё больше превращается в предсказанную «антиутопию» Апокалипсиса. Укрыться от него в художественной литературе как «искусстве для искусства» (на что надеются некоторые другие литературные издания) – заманчиво, но вряд ли возможно. Однако талантливая литература может служить нашему духовному совершенствованию и спасительному прозрению. Буду рад таким Вашим открытиям.
Михаил Назаров, публицист, главный редактор сайта «Русская идея».
Каждый номер «Паруса» – как глоток свежего воздуха в затхлой атмосфере «современной» реальности, особенно в искусственно созданной «карантином» изоляции! С благодарностью вспоминаю годы, когда имел силы и возможность публиковаться в любимом журнале. Желаю редакции дальнейших успехов на тяжком пути просвещения обделенного развращенными политиками народа.
Проф. Валерий Сузи (Вантаа, Финляндия).
Сердечно поздравляю сотрудников, авторов и всех читателей всероссийского электронного журнала «Парус» с юбилеем журнала – десятилетием с начала издания! Первый юбилей – время не столько подводить творческие итоги, сколько намечать творческие планы. Тем не менее про итоги забывать никогда не надо, тем более когда есть чем гордиться. Вадь в творческом активе «Паруса» множество замечательных открытий – идей, авторов, текстов. На непростых, а порою и прямо противоположных ветрах современного литературного процесса сплочённая команда «Паруса» под руководством своего капитана Ирины Калус всегда следовала курсом верности классическим и народным традициям отечественной словесности. И при этом всегда был открытым свежим ветрам современности. Для читателей журнал стал ориентиром в море разливанном современного литпроцесса; ориентируясь на «Парус», читатель глубже понимал непростую, противоречивую современность. Желаю журналу и в дальнейшем активно прирастать талантливыми авторами и воспитывать талантливых читателей, способных по достоинству ценить сладкий вкус родимой русской речи, завещанной нам классиками и развиваемой современниками. С юбилеем! И многая лета!
Диана Кан, поэт.
«Парусу» 10 лет! Фету уже 200! Достоевскому – вот-вот тоже стукнет 200! Как хороша пора юбилеев, не знающих смерти и тления – пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Да будет! И не один – и в жизни поэтов, прозаиков, критиков, в их поэтическом бытии в сердцах соотечественников «Парусу» принадлежит немалая заслуга – сколько имен, сколько рифмованных и нерифмованных речей о земле и о небе, сколько живой любви к земле и к небу наполняет движение «Паруса» по бурному океану современной словесности – да будет же светел и радостен этот путь! С днем рождения!
Юлия Сытина, литературовед, критик, автор журнала «Парус».
Поздравляю журнал любителей русской словесности «Парус» с десятилетием! А также главного редактора журнала Ирину Владимировну Калус с ее днём рождения 21 декабря! И с интересным участием в телепередаче Игоря Волгина о поэме «Двенадцать» Блока. И всех членов редколлегии, редсовета, авторов и читателей журнала с датой! Пусть журнальное будущее будет светлым, добрым, интересным и долгим-долгим!
Леонид Советников, поэт.
10 лет для журнала – весомый творческий период, когда можно подводить какие-либо итоги. В наше время издавать толстые литературные журналы на бумаге довольно сложно, однако найти в интернет-пространстве достойные издания и интересные литературные произведения, с высокой художественной ценностью текста, ещё сложнее. «Парус» – это журнал, где внимательно относятся не только к авторам, но и к тому, что они пишут. Возможность публиковаться в «Парусе» даёт мне стимул к дальнейшему творчеству. Желаю редакции журнала плодотворной работы на долгие-долгие годы, новых авторов и качественных произведений. С наступающим Новым годом!
Андрей Шендаков, член Союза писателей России, г. Орёл.
С радостью сердечной поздравляю редколлегию и авторов журнала «Парус» с 10-летним юбилеем! Благодарю за удовольствие, получаемое от чтения высокохудожественных произведений современных авторов. Желаю и в дальнейшем удерживать высокую планку в направлении традиций классической русской литературы. Больше талантливых авторов и благодарных читателей.
На 10-летие «Паруса»
Поздравляю «Парус» с днём рожденья!
Всем «на палубе» желаю я
Творческих удач и вдохновенья;
Множится пусть авторов семья.
По волнам поэзии и прозы
Плыть вам не один десяток лет!
Пусть вас не страшат шторма и грозы
И ведёт звезды высокий свет.
И пусть ветер, парус надувая,
К берегам прекрасным нас несёт.
Чтобы люди, ваш журнал читая,
Знали: мир прекрасен!.. жизнь идёт!..
Ольга Колова, член СП России.
Электронному журналу «Парус» исполняется десять лет. Много это или мало? Судя по тому, что происходило в нашей стране в течение десяти лет, я бы сказала, что это десятилетие – прекрасная и очень знаменательная юбилейная дата, с которой хочется от души поздравить редколлегию журнала и всех его авторов. Среди авторов такие замечательные имена, что можно смело говорить: «Парус» – по-настоящему интересный и умный журнал.
Пожалуйста, живите ещё много-много лет на радость всему читающему народу! С праздником!
Елена Балашова, г. Чухлома Костромской области.
Поздравляю «Парус» с его 10-летним юбилеем! От всей души желаю журналу еще много-много лет радовать читателей разнообразными интересными публикациями, осуществляемыми, благодаря бескорыстной деятельности его талантливого руководства и работников, вопреки всем трудностям и невзгодам современного литературного бытия.
Крепкого всем здоровья, счастья и творческих успехов!
Александр Савельев, г. Москва, автор журнала «Парус».
Уважаемая редакция «Паруса»! В жестоком море переменчивого времени вы не только корабль под парусом, но одновременно и маяк, безошибочный указатель дороги к тихой гавани, готовый вести через все подводные и надводные препоны. Это вы делаете с тонким вкусом при выборе авторов и материалов, а также высокой взыскательностью, причем прежде всего к себе и своим коллегам. Этим и завоевывается признание и авторитет, что прирастает в течение всех десяти лет.
С искренним почтением, Адам Гутов, автор журнала «Парус».
Команду журнала «Парус» поздравляю с юбилейным номером. «Ловите ветер всеми парусами»!
Иван Марковский, г. Новосибирск, автор журнала «Парус».
Всем на борту восхитительного юбиляра, а также непосредственно «Парусу»:
Идти не уставая,
Курса не меняя,
«Парусовым» стилем —
Семь футов под килем!
Татьяна Ливанова, Ярославская область, специалист по коневодству, журналист, писатель, постоянный автор и член редколлегии журнала «Парус».
Если бы я захотела представить суждению публики какое-нибудь свое произведение, я выбрала бы для этого только «Парус» – по двум причинам. Первая – сюда не могут попасть произведения случайные, пустые. Вторая – его миссия и направление кажутся мне чрезвычайно близкими по настроению, по ожиданиям, по духу. С днем рождения, «Парус», Корабль наших надежд!
Наталья Серикова, автор «Паруса», МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Уважаемая редколлегия журнала «Парус»! Десять лет – это целая эпоха. За это время в истории мирового и отечественного литературоведения произошло множество открытий и переосмыслений. Ориентироваться в информационных потоках, но при этом сохранять основу нашей богатейшей русской словесности – ваша отличительная черта. Желаю продолжать деятельность в том же духе, открывать новые горизонты в сфере культуры и искусства, куда, конечно же, входит и литература!
Андрей Титов, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность, ведущий странички Instagram проекта «Сотворение легенды» в журнале «Парус».
Я живу в городе Рыбинске, он находится в Ярославской области. Я была приятно удивлена и обрадована, когда обнаружила, что среди авторов журнала «Парус» есть мой земляк – Леонид Николаевич Советников. Он достаточно известен в моем городе в определенных кругах. То же самое я могу сказать и о самом журнале «Парус». Мне в какой-то степени близка идея этого электронного издания, она кажется мне верной. В основе подхода редакции «Паруса» к художественным произведениям заложена ориентация на классический образец, это радует меня, так как некоторые современные издания совершенно не вызывают во мне доверия.
Электронному журналу «Парус» исполняется 10 лет! Я поздравляю редакцию журнала с этой важной датой. Спасибо вам за сохранение традиций великой русской литературы.
Ольга Горошникова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Дорогая редакция! Я еще только начала знакомиться со страницами «Паруса». Но мне уже полюбились ваши публикации: эссе, рассказы, а особенно – стихи. Поздравляю журнал с юбилеем! Желаю вам больше новых авторских имен, творческих находок и дерзновенных начинаний.
Тамара Вениаминовна Сутягина (71 год), Тюменская область, г. Тобольск, поселок Сумкино.
Десять лет прошло. Пусть года идут и дальше. «Парус» – это хорошее дело. Поздравляю, желаю успехов, самое главное – читателей.
Б. Борисов
«Парусу» исполняется 10 лет! Поздравляю коллектив журнала и всех его читателей с такой вроде бы небольшой, но значимой вехой! Спасибо, что ваши серьёзные, глубокие публикации находят благодарный отклик в наших сердцах! Спасибо вам за новые имена, идеи, размышления! Живи и успешно твори, «Парус», много лет!
Мельникова И. И., читатель журнала, Республика Марий Эл.
Поздравляю русский литературный журнал «Парус» с десятилетием! Желаю, чтобы благодаря Вашему изданию авторы всегда имели возможность быть услышанными и понятыми, а связь и диалог с читателями никогда не терялись! Пусть Ваше важное дело развивается и процветает!
Юлия Пантелеева, выпускница МГИК, ведущая странички Instagram проекта «На волне интереса: Вопрос писателю» в журнале «Парус».
Поздравляю журнал «Парус» с юбилеем! Желаю процветания, новых авторов и, конечно же, попутного ветра!
Александра Кузнецова, МГИК, 5 курс, направление «Литературное творчество».
Хотелось бы поздравить литературный журнал «Парус» с 10-летием, пожелать неисчерпаемого творческого вдохновения всему коллективу!
Надеюсь, вы как можно дольше будете радовать читателей интереснейшей информацией! И ваш «Парус» всегда останется на плаву!
Наталья Копылова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Журналу «Парус» в этом году исполняется уже 10 лет; изучая его историю, я хочу отметить, что за это время было сделано многое. Очень радует, что в наше время есть издание, наполняющее душу и ум читателя прекрасным. Остается пожелать «Парусу» дальнейшего развития, а также больше новых читателей, проникающихся литературой и атмосферой журнала.
Милана Лазарева, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Желаю вам бесконечного творческого пути, пусть муза вдохновения всегда будет с вами!
Мария Марамыгина, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Журнал «Парус» выходит уже на протяжении 10 лет! За это долгое время он прошел невероятный путь, сотрудничал со многими интересными творческими людьми, обрел постоянных читателей и не переставал совершенствоваться.
Хочу пожелать успехов и процветания в будущем, больше новых, интересных и талантливых авторов и, конечно же, вдохновения!
Евгения Севастьянова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
В этом году журналу «Парус» исполняется 10 лет. Я благодарна за то, что мне удалось познакомиться с этим великолепным журналом. Меня восхищает, что журнал «Парус» пробуждает в душе невероятные чувства, наполняет прекрасным. Прежде всего хочется пожелать «Парусу» процветания, новых читателей, которые по достоинству оценят творчество и работу трудящихся над журналом людей, а также широкую известность среди творческих личностей, ценящих литературу.
Софья Семёнова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Журнал собирает под своей обложкой известных авторов и может похвастаться эксклюзивными материалами. «Парус» – это издание с ярко выраженной патриотической направленностью, с академической базой и оригинальным рубрикатором. В современном журнальном процессе не существует аналогичных вопросников, которые бы позволяли авторам рассказывать о себе, выражать отношение к литературе и к слову.
Десять лет – небольшой юбилей,
Но зато сколько верных друзей
На страницах твоих побывало.
Пусть ветер несет по волнам,
И шторм не встает на пути.
Радуй нас и вечно живи!
Варвара Титкова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Хочу выразить благодарность создателям журнала «Парус» за столь интересное и познавательное творение в литературном и творческом мире! От всей души желаю вам удачи и счастья! Путь на благородном, но очень сложном пути служения людям вам сопутствует успех. Будьте всегда верны принципам: солидарность, единство и справедливость! С юбилеем!
Виктория Токарева, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Литературный журнал «Парус» предоставляет возможность прикоснуться к прекрасному. Хочется поздравить всю замечательную команду с 10-летием и пожелать увеличения читательской аудитории, новых знакомств с талантливыми авторами и «жара» в статьях.
Анна Аксёнова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Уважаемые составители, редакторы, издатели и авторы журнала «Парус», хочу от всей души поздравить вас с десятилетием журнала! Журнал «Парус» радует своих читателей увлекательными статьями и даёт возможность прикоснуться к Русской литературе.
Желаю редколлегии журнала новых оригинальных публикаций, творческого и издательского долголетия!
Алевтина Грабова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
«Парус» – это прекрасная возможность для современных писателей не забывать о том, что они творцы. Я от всей души желаю дальнейшего успешного развития этому замечательному журналу, который хранит на своих страницах огромное количество прекрасных мыслей и слов.
Ксения Драгошанская, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Поразительно, что в наше время есть такие потрясающие журналы с такими замечательными авторами. Темы, раскрывающиеся в статьях журнала «Парус», бесконечно интересны, актуальны и оригинальны. Желаю всей прекрасной команде новых читателей, творческих успехов и, главное – продолжайте делать то, что делаете! Это чудесно!
Варвара Зайцева, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
«Парус» – славянофильский патриотический журнал, чьё призвание сохранить живые традиции русской поэзии и прозы. Со всем академизмом и беспристрастностью. В условиях бурь нового времени.
Скажем так, «Парус» этот – от ковчега. А в ковчеге – русская словесность.
Журналу «Парус» – десять лет!
От всей души поздравляю редакцию и читателей журнала. Желаю творческих успехов и скорейшей реализации новых задумок.
Журнал с названием «Парус» ни за что не будет стоять на месте!
Григорий Иванина, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Хочу поздравить ваш журнал с десятилетием! Пожелать дальнейшего и всемирного процветания, больше талантливых авторов в ряды вашего ещё молодого коллектива. А для достижения таких целей у вас есть огромный потенциал и отличные редакторы. Пусть у вас будет как можно больше читателей.
Ольга Клочкова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Поздравляю весь состав редакции и читателей журнала «Парус» с юбилеем. Журнал «Парус» – это результат огромной десятилетней работы, нацеленной на сохранение традиций русской литературы, но и в то же время с использованием современных методик подачи материала. Поэтому от всей души хочу пожелать журналу дальнейшего успешного развития в этом направлении и творческих успехов всему коллективу редакции.
Марианна Титова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Поздравляю редакцию и авторов литературного журнала «Парус» с юбилеем! В грядущем новом десятилетии желаю успехов вашему проекту, благополучия как творческого, так и материального, интересных открытий и новых дарований, роста читательской аудитории. С юбилеем!
Диана Атай, МГИК, 5 курс, направление «Литературное творчество».
Журналу «Парус» хотелось бы пожелать процветания и долгих-долгих лет существования. Пусть он собирает вокруг себя единомышленников – редакторов, авторов и читателей, стойко держится во всепоглощающем тумане рыночной культуры и верно хранит уже оберегаемые им традиции отечественной литературы!
Ольга Давыдова, МГИК, 5 курс, направление «Литературное творчество».
«Парус» вернул мне веру в российскую прозу и поэзию. Всего за десятилетие журнал собрал под своим крылом столько талантливых и многообещающих авторов, познакомил читателя с сотнями произведений. Пусть и дальше «Парус» открывает дорогу новым русским классикам, сохраняет и развивает отечественную литературу!
Екатерина Соколова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
От всей души поздравляю редакцию журнала «Парус» c 10-летним юбилеем! Желаю вашей творческой команде реализации намеченных планов, вдохновения, процветания, новых идей и светлого будущего! Удачного плавания и попутного ветра!
Анна Судакова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Журналу «Парус» в этом году исполняется 10 лет. Поздравляю читателей журнала и редакцию с этим событием. Рассматривая и изучая историю журнала, я хочу сказать, что за эти 10 лет было сделано много нового и интересного. Я хочу пожелать журналу «Парус» дальнейшего развития и творческих успехов, а также побольше новых посетителей, которые с удовольствием и большим интересом будут читать этот прекрасный журнал.
Полина Язовцева, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Искренне хочу поздравить литературный журнал «Парус» с его 10-летием. Хотелось бы поблагодарить редакцию журнала, а также каждого автора за ваш неоценимый вклад в развитие литературного искусства. Пусть нелегкий труд среди гор листов и множества электронных файлов приносит вам достойный доход и невероятное наслаждение.
Варвара Биличенко, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Пусть ветер для журнала «Парус» всегда будет попутным! Желаю вам творческих взлётов без падений и хорошей читательской аудитории. Пусть все ваши планы осуществляться!
Юлия Веденеева, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Уважаемые создатели и читатели журнала «Парус»!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
Журналу «Парус» исполнилось 10 лет. Сегодня, учитывая все общественные «шторма и бури», это – большая дата. Желаю изданию и его коллективу и дальше так же успешно продолжать своё большое плавание по бурным волнам моря литературы.
Анастасия Клименко, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
От всей души поздравляю коллектив литературного журнала «Парус» с 10-летним юбилеем! Желаю авторами продолжать воплощать на страничках журнала свои творческие замыслы, журналу – успехов и процветания, ну и, конечно же, побольше нас – читателей!
Ирина Летуновская, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Сердечно поздравляю редакцию журнала «Парус» с 10-летием творческой деятельности! Желаю коллективу вашего издания огромных творческих успехов, профессиональных побед, дальнейшего стабильного роста и процветания!
Екатерина Новикова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Знакомство с журналом «Парус» и его главным редактором Ириной Владимировной Калус не даёт мне возможности сомневаться в потенциале данной литературной площадки. Но за всем стоят люди, так что хочу пожелать всем причастным к проекту здоровья, гармонии с собой и неугасаемого огня души, который когда-то сподвиг вас на невероятно духовное и благородное занятие!
Ангелина Русаненко, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационное дело.
Ровно 10 лет назад появился журнал «Парус»! Поздравляю всех, кто причастен к этому событию, и желаю творческих идей и стремительного развития!
Варвара Сорокина, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочу поздравить с юбилеем литературный журнал «Парус», который существует и радует нас уже 10 лет! Желаю преданных читателей, творческих проектов и ту аудиторию, которая ценит литературу! С днём рождения, «Парус»!
Юлия Моксина, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Литературному журналу «Парус», объединяющему любителей словесности и так тепло встречающему своих читателей на страницах сайта, исполняется 10 лет. 10 лет – это круглая дата, означающая, что журнал ведет свою деятельность не зря, раз читатели с ним уже столько времени. Само название «Парус» будто изображает журнал легким, парящим, идущим по ветру вперед (в ногу со временем). Хочется пожелать этому журналу оставаться таким же интересным, увлекательным и нужным для читателей, плыть вперед по волнам литературы, не встречая на своем пути никаких препятствий, и развиваться только в лучшую сторону.
Татьяна Матола, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Поздравляю редакцию с десятилетием «Паруса». Мои пожелания вам – это дальнейший рост журнала, увеличение числа читателей и увеличение числа талантов, которых вы публикуете. Надеюсь, ваша безвозмездная работа над журналом будет приносить много удовольствия и удовлетворения, это самое главное.
Елизавета Купчик, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Поздравляю этот замечательный журнал с юбилеем! Хочу пожелать сотрудникам «Паруса» процветания, успехов в творчестве и много преданных читателей.
Татьяна Кувакина, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочу искренне поздравить журнал «Парус» с его первым круглым юбилеем. Да, дата не такая большая, но это только первый рубеж, который журнал прошёл на своем пути.
Очень ценен тот вклад, который журнал вносит в развитие литературного творчества. Всегда приятно наблюдать за становлением и ростом таких инициатив.
Очень хочется поблагодарить «Парус» за такую тщательную выборку произведений, за плодотворную работу, конструктивную критику и интересный подход к развитию всей литературной сферы.
Арина Копылова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
С журналом «Парус» я начала свое знакомство будучи студенткой 1 курса теории литературы. Сейчас учусь на 2 курсе, но «Парус» не покидает меня и сопровождает не протяжении всей моей учебной и творческой жизни. Хочется выразить огромную благодарность тем, кто активно работает над журналом и помогает нам, читателям, прикоснуться к прекрасному миру литературы. Я хочу поздравить журнал с десятилетием и пожелать успехов, процветания, творческого вдохновения! Спасибо за то, что вы есть!
Татьяна Киселёва, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Пожелать хотелось бы нахождения еще большего количества творческих «алмазов» литературы, дальнейшего развития и выхода за новые горизонты!
Екатерина Иванова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочу поздравить журнал «Парус» с его десятилетием! Журнал «Парус» заслуживает определенного внимания, ведь он просвещает в литературном направлении, а также вдохновляет делать важные шаги в литературном процессе. Журнал на своем примере показывает, что нельзя стоять на месте, не надо бояться, надо развиваться! «Парус» это место, где собраны не только произведения известных авторов, здесь читатели могут познакомиться с новыми, молодыми прозаиками и поэтами, критиками и литературоведами, историками и философами. А это, по моему мнению, очень важно для развития нашей культуры. Желаю журналу «Парус» не останавливаться на достигнутом, не переставая совершенствоваться, ставить новые цели и достигать их.
Ольга Дудорова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Я очень рада, что смогла познакомиться ближе с журналом «Парус», так как считаю его более литературным, чем множество других журналов в России. Я хочу пожелать всем редакторам и авторам вдохновения, целеустремленности, терпения и успехов на вашем этом нелегком, но таком прекрасном и интересном творческом пути. Чтобы вам встречались трудности, ведь без них не будет закалки и твердого духа, но чтобы вы могли их преодолеть и потом вспоминали с улыбкой. Помните, то, что вы делаете – действительно нужно. Слушайте свое сердце и душу, идите за мечтой и, главное – верьте в себя, в свои силы и творенья. Тысячу раз «спасибо», тысячу раз «успехов»!
Екатерина Гелетко, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочется поздравить литературный журнал «Парус» с десятилетием, наполненным океаном творческой деятельности. Пожелать развития литературной «мультивселенной», новых талантливых авторов и потока вдохновения для этого издания, который никогда бы не заканчивался.
Кристина Берницына, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Литература – как ароматическая материя: рано или поздно заполняет собой всё пространство. Одно из подтверждений этому – журнал «Парус». Этот отечественный проект переживает круглую дату. Всё это время журнал ведёт тысячи людей в литературное путешествие. И каждый раз берёт в свои объятия ещё несколько неокрепших умов. Среди них были и мы – студенты МГИК. Журнал познакомил нас с интересным литературным миром, рассказал о теории простым языком. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что будешь и дальше!
Кирилл Желанный, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Дорогой «Парус», спешу поздравить тебя с юбилеем. 10 лет – это невероятно во всех смыслах. И в этот замечательный день хочу пожелать творческому коллективу редакции вдохновения, оптимизма и новых вершин! Помните, трудности даются для того, чтобы их преодолевать и идти дальше с высоко поднятой головой! С днём рождения, «Парус»!
Анастасия Цыбакова, МГИК, 2 курс, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочу поздравить отечественный журнал «Парус» с юбилеем! 10 лет это немалый срок, хочется пожелать журналу еще как минимум столько же лет плавания. Пусть «Парус» всегда следует своему ориентиру и никакие злые ветра не смогут его изменить!
Надежда Юдина, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Дорогой «Парус» и его уважаемые и невероятно талантливые редакторы! Я хочу поздравить вас с юбилеем журнала! День рождения – это прекрасный и очень важный праздник.
Страницы «Паруса» всегда наполнены чудесными стихами отечественных поэтов, пронизаны особенным теплом и душевностью, из-за которых хочется прочитывать и рассматривать их снова и снова. Как только я узнала о его существовании, я сразу решила зайти на сайт и не пожалела: меня встретила особенная атмосфера, наполненная русской душой, красивым слогом и прекрасными произведениями живописи. И я возвращаюсь туда вновь и вновь, каждый раз узнавая для себя что-то новое. Спасибо большое его создателям и редакции, я хочу пожелать вам процветания, развития, успехов. Пусть к следующему году количество ваших читателей увеличится, а поток новых идей никогда не иссякнет. Редакторам же – здоровья, творческих успехов и счастья! С днём рождения, «Парус»! Вперёд к новым горизонтам!
Алёна Артамкина, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
От всей души поздравляю сотрудников и читателей журнала «Парус» с замечательным праздником-юбилеем! Желаю всем редакторам творческих успехов, интереснейших проектов, вдохновения и, конечно, здоровья! Пусть журнал и дальше радует своих преданных читателей!
Алина Викторова, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
«Парус» поздравляю с десятилетием! Желаю долгой и интересной жизни в мире журналов. Сил и вдохновения редакторам!
Александра Волоцкова, участник проекта «София культуры» в журнале «Парус», 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Хотелось бы пожелать журналу «Парус» оставаться путеводной звездой в мире литературы.
Светлана Гуляева, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Я хочу поздравить всех, кто принимал участие в создании журнала, и выразить благодарность за ваш труд. Желаю находить новые таланты и познавать красоту этого мира через литературу. Пусть «Парус» всегда плывет в счастливую сторону света!
Дарья Дрёмова, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Уже десять лет в «Парусе» публикуются прекрасные проникновенные произведения! Поздравляю с этой круглой датой, желаю дальнейшего развития и успеха!
Данила Дроздов, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Я поздравляю «Парус» с его десятилетием! За время своего «плавания» журнал преодолел множество «штормов» и «штилей» и сейчас заслуженно может называться одним из главных оплотов сохранения русского литературного искусства.
Алиса Истратова, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Журнал «Парус» необычен по своей сути. Во-первых, тем, что здесь представлены настоящие стихотворения в духе прошлых столетий, которые показывают, что не перевелись еще на Руси поэты, открывающие своим творчеством глубину духовного мира. Во-вторых, тем, с какой образностью авторы журнала подходят к написанию своих произведений.
К сожалению, в настоящее время редко встречаются истинные творцы, гораздо чаще мы видим дешёвые копии.
Пусть «Парус» плывет по чистым лазурным волнам только вперед, а ветер всегда будет попутным!
Лидия Карнуп, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
От всей души поздравляю вас с юбилеем! 10 лет – немалый срок. Надеюсь, что ваш журнал ещё долго будет радовать нас прекрасными произведениями!
Кристина Кулакова, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Я очень рада, что могу поздравить такой замечательный журнал с десятилетием. Пусть этот юбилей даст вам дальнейшего вдохновения для новых выпусков журнала, а будущим авторам – творческих успехов в работе над новыми произведениями!
Алина Малькович, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Поздравляю с 10-летием замечательный литературный журнал, открывший для меня дверь в мир современного русского литературного творчества! В честь такого события не могу не пожелать самому журналу дальнейшего процветания, а авторам – вдохновения и плодотворной работы.
Евгения Мальцева, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Рада возможности поздравить авторов, редакцию и, конечно же, читателей с десятилетием журнала «Парус». Первые десять лет! Сколько же трудов вложено в данное поэтическое детище. Желаю процветания и успеха в дальнейшем литературном развитии!
Яна Мурадян, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
От всей души поздравляю журнал «Парус» с его десятилетием! Вот уже несколько лет я открываю для себя все новые имена в российской словесности, за что хочу сказать огромное спасибо всей великолепной команде этого прекрасного журнала. Желаю вам развиваться в том же духе и продолжать радовать читателей новыми выпусками!
Роман Новиков, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Уважаемая редакция журнала «Парус»! От всей души хочу поздравить ваш потрясающий проект с юбилеем. Преодолев тернистый путь длиной в десять лет, вы внесли значимый вклад в развитие и сохранение традиций русской литературы, заложенных столетия назад. Уверен, эти усилия не пропадут даром. Искренне желаю каждому члену вашей сплоченной команды успехов в любых творческих начинаниях!
Данила Попов, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Поздравляю журнал «Парус» с десятилетием! Желаю творческих удач и интересных тем, а также знакомств с новыми авторами.
Полина Шамаева, 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
Хочу поздравить журнал «Парус» с юбилеем! Пусть вдохновение всегда будет с вами, а удача всегда улыбается. Желаю успехов и новых побед.
Екатерина Шувалова, участник проекта «София культуры» в журнале «Парус», 1 курс, МГИК, Библиотечно-информационная деятельность.
«Парус» стал новой страницей в моей жизни как автора. Возможность рассказать миру свою историю… Такого раньше не было. Поздравляю «Парус» с 10-летием! Процветания!
Юлия Кравченко, МГИК, 4 курс, Кинодраматургия, автор «Паруса».
Художественное слово: поэзия
Константин СМОРОДИН. Мир не кончается за последней дверью
***
Рука скользит по краешку стола.
Зачем? Невольно расправляя скатерть,
которая когда-то здесь была…
в которой «смысл сокрыт» – так подсказала память.
А дальше вспомнится, наверное, увы,
та женщина, которая сидела
напротив.
Тень деревьев.
Блеск травы.
И озеро, которое глядело
глазами полными небесной синевы…
Лишь стол стоит.
Такие, брат, дела.
Рука скользит по краешку стола.
И время движется.
И женщина другая
готовит скатерть новую на стол,
её глаза испуганно моргают,
когда сквозь шорох долетает стон.
Стол дремлет, сам себя оберегая.
Он видит сны.
Он помнит крепкий ствол
сосны…
И скатерть
облаком плывёт над ним льняная…
***
Мне кажется, что бабочки не умирают,
они летают между разными мирами,
и если кто-то хочет весточку послать оттуда,
то прилетает это маленькое чудо,
ведь не случайно над могилами родных
витают бабочки как весточки от них.
Да и цветы, что так свежи и ярки,
миров незримых зримые подарки…
ДЕРЕВЕНСКИЕ СТИХИ
Деревня тем и хороша,
что мир живой с тобою рядом, —
и окрыляется душа
в саду, насыщенная садом.
Вы заходите к нам, ежи,
и кошки, тоже забегайте,
мы рады всем вам от души,
нисколечко не сомневайтесь.
Деревья, обращаюсь к вам,
пожалуйста, не засыхайте,
а разрастайтесь тут и там,
мы рады вам, вы так и знайте.
И ласточки, и воробьи,
малиновки, другие птицы,
к нам прилетайте, как свои,
во двор, простой воды напиться.
Вам хлеба вдоволь накрошу
и семечек не пожалею,
вы прилетайте к нам, прошу,
из чащ лесных ли, из полей ли.
Лишь только птица запоёт —
невольно сердце отзовётся.
Мир городской скорее мёртв,
в бетонных утонув колодцах.
***
То было золото, а это – серебро,
то было молодо, свежо, упруго, ярко,
а это – хрупко, ненадежно, как стекло,
которое вонзается в ребро,
когда с обочины слетает иномарка
и кувыркается, и катится в кювет.
То было – золото, а это – нет?
А может, это – платина?
Ты посмотри внимательно.
Подходит докторша в серебряном халатике,
и синяя табличка слева на груди.
– Не уходи!..
Стеклянный звон растаял вдалеке.
И новая пометка в дневнике:
«Сначала – золото,
потом (возможно) – платина.
За всё заплачено.
За всё – заплачено».
И новая пометка в дневнике:
«Как хорошо, что есть, Кто заплатил
своею Кровью
за ветерок, бегущий по вершинам
деревьев золотых…»
***
Мир не кончается за последней дверью,
а выходит наружу,
и поэтому – веришь или не веришь —
а ответ обнаружишь.
Всё равно любовь проникает
и туда, где царит отчаянье.
Спрашивает раскаявшийся Каин:
– Авеля не встречали?..
А потом, очнувшись или забывшись,
всё твердит неведомо кому:
– Отпусти, мы всё ещё мальчишки…
Я не сторож брату своему!..
А любовь?
На муке и крови,
сможет ли она и там, за гробом,
одолеть, вобрать, преобразить
злобы тёмную утробу?
И Иуда каялся, однако
удавился…
За какой чертой
вечность вырывается из мрака
на кресте распятой высотой?
***
о. Венедикту
Всё куда-то ушло незаметно.
Затерялось. Запутало след.
Лес да снег. Да синица на ветке.
Да сквозь тучу свинцовую – свет.
Да ещё разве самая малость:
снегоход проторил колею,
и она, словно близкая старость,
направляет дорогу мою.
***
Какая хорошая пауза —
с чашкой чая в кресле.
Зимний свет падает
через кисейные занавески
и ровно распределяется
по замеревшей комнате.
– Здравствуйте, ваше сиятельство!
Вы меня помните?
***
Спасибо, Господи, за всё:
за этой ночи дно,
за это утро,
за этот свет,
спасительно и мудро
струящийся в моё окно.
***
1
Сердце моё бьётся: тук-тук!
А я ему отвечаю: – Так-так!
Если прежде я кутил на 100 штук,
то теперь не надо этого и за так.
Сердце моё опять: так-так!
А я ему в ответ: – Привет!
Раньше думал: жизнь – пустяк;
а теперь думаю: пожалуй – нет!..
2
Может быть, в чём-то кривлю душой?
Раньше жизнь воспринимал иначе, —
она казалась бесконечно большой,
а теперь рубеж впереди маячит.
И поэтому сердце —
то тук,
то так,
и ты для него —
то друг,
то враг,
и если ты с ним идёшь не в такт,
оно в ответ – замедляет шаг.
***
Если б я правильно принял горе —
не шел бы дальше, а плыл по морю,
открывая для себя новые страны,
а не считая на ступнях ссадины и раны.
Если б я правильно принял горе —
парил бы, наверное, с ветром споря,
и смотрел сверху вниз на поля и крыши,
а не следил с земли за теми, кто выше.
Если б я правильно принял Бога —
не судил бы, наверное, других строго,
дорожил бы, наверное, честью и Отчиной,
да и жизнь бы писал почерком поразборчивей.
***
Стучит, стучит капель —
стучится в дверь весна.
Идёт войной апрель
и марту не до сна.
Потешная война?
Иль встанет снег стеной?
Лесная сторона
в кольчуге ледяной.
Лежит меч-кладенец
застывшею рекой.
И тает леденец
у солнца под рукой.
***
Т.
У неё оттаяли глаза,
а вернее, – сердце ледяное
растопила горькая слеза —
и оно забилось предо мною.
Я не знал, что делать и как быть,
как принять его побережней, и даже —
как его горячим сохранить, —
а затем признаться Богу в краже…
***
Мне бы спуститься с неба
и побродить по стране,
эти её просторы
телу в пору вполне.
Я бы полюбовался
розовою росой,
пройдясь по лесной поляне
утром босой.
Я бы в час солнцепёка
холодное пил молоко
возле родного дома
где-нибудь далеко.
Я бы ночным настоем
с радостью подышал, —
звёздная росная россыпь
бархатно хороша.
Вот они, грани мира,
основы основ,
жаль, что спускаюсь редко
с призрачных облаков.
Сыплются эсэмэски,
светится интернет, —
что там, за поворотом? —
в общем, и дела нет.
МУРАНСКИЙ НАПЕВ
Я в Мурани,
я в Мурани,
словно лодка в океане,
где берёзовая роща
плещет тихими волнами,
пробираясь-растекаясь
меж холмами и долами,
ой-да, встречаясь-раставаясь
с дубравами да борами.
Ой-да, малый океан,
мой зелёный лес,
на твоих волнах взлетаю
в синеву небес.
Ой-да, зелёный лес,
нескончаемый,
ой-да, на твоих волнах
лодочкой качаюсь я.
Ой-да, не вини меня,
что мороз да зной,
ой-да, не пои меня
зеленой виной.
Ой-да, малый океан
нашей дивной стороны
озарился светом звёзд
да сиянием луны.
Ой-да, мой зелёный лес
укачал меня.
Я во сне иль наяву
в тишине ночной
лодочкой плыву?..
Ой-да…
Николай РОДИОНОВ. Над тихой водой
ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ
Лютовала жара, и тут – на тебе – холод.
Ветер с юга прохладу принёс
В темноту, что накрыла наш северный город,
Скрылся даже комар-кровосос.
Был бы рад, если б был потеплее одетым.
Впрочем – рад, впрочем, холод – по мне.
Ну а всё же… – вчера было знойное лето,
Нынче – осень. Приемлю вполне.
Обняла и прижалась. И холодно стало
Мне в объятии смелом её:
Ночь представилась тёмною гранью кристалла,
Отразившей моё бытиё.
Как же так, неужели такой чернотою,
Возбуждающей в теле озноб,
Жизнь полна, так бездарно прожитая мною
В райском мареве наших трущоб?
Огради меня, Боже, от прежних пристрастий
И от памяти прежней о них.
Впрочем, поздно молиться у Цербера в пасти,
На клыках трепыхаясь стальных.
А зима впереди, сны тяжёлые – тоже.
Всё исполнится. Всё – как всегда.
Как бы ни был сегодня мой голос тревожен —
Неизбежно вторжение льда.
КРЕСТ НЕСУ
Для кого безмерное пространство,
Для чего отдельные миры?
Почему мне этот мир достался,
Если он со мной непримирим?
Что бы я ни делал, всё в разладе
С миром зла, коварства, суеты.
Для чего, чьего прощенья ради
Крест несу? И все несут кресты…
Все несут – и бедный и богатый,
Все несут – и умный и дурак.
Ждут и опасаются расплаты,
Если что-то сделают не так.
Лучший выход – ничего не делать,
В пустыни конца мучений ждать,
Бога славить, истязая тело,
Чтоб в грехах не вызрела нужда?
Но не грех ли мрачное унынье
И отказ от жизни? Тяжкий грех.
Пусть же радость в души ваши хлынет!
Хватит светлой радости на всех.
И она, безмерная, поможет
Крест земной, нелёгкий донести.
Как бы ни был в жизни осторожен,
Гвоздь в твоей окажется горсти.
Потому как всякому распятье
Свыше предначертано уже.
Так зачем же нам, с какой бы стати
Боль дарить заранее душе?
РАННИЕ ВСПОЛОХИ
Утро. В тёплую тёмную комнату
И в привычную, ох, тесноту
Свет проник, заблистал на расколотом
Чувстве жизни, препятствуя сну.
Задышало окно стылой свежестью.
Плечи пряча под снег простыни,
На часы взгляд бросаю рассерженно,
Будто холод впустили они.
Не впервой эти ранние всполохи
Возникают в строптивой душе.
Вряд ли ближе к полудню я вспомню их
Резкий блеск, что померкнет уже.
Будет день столь же сумрачно-тягостным,
Как вчера, как неделю назад.
Или, может быть, новые радости
Мне потоки прохлады сулят?
Оживу, молодецки приветствуя
Новый день, новый солнечный свет.
Жизнь сама, красотою известная,
Мне напомнит, что я не аскет.
ОТВЕЧУ
Как интересно, как же важно —
Что ждёт меня во мгле веков!
Быть может, жил уже однажды,
И дело это увлекло.
И я вернулся, вновь вернулся
На ту же землю. Иль не ту?
Но – чувствую, что жизни русло
Меня уносит в пустоту.
Меня поглотит бесконечность,
Умчит к далёким берегам,
Где снова я за всё отвечу,
Что совершил и здесь, и там.
ВНОВЬ ГОРЬКИЙ ЧАС
Опять проснулся в том же мире,
И за окном всё тот же вид.
А то, что люди подменили,
Маскироваться норовит.
Другие перемены вижу
В прозрачном воздухе с утра:
Зарозовели непрестижно
Деревья, цвет зари украв.
И как-то сразу постарели,
Поблёкли, погрустнели вдруг,
И не слышны в них птичьи трели,
Но – запах прели, боль разлук.
Не видеть бы, не предаваться
Тяжёлым мыслям в ранний час
Еще – ну скажем так – лет двадцать!
Уж слишком горек час и част.
БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОИСКИ
Бесконечные поиски точных ответов
На простые вопросы вселенских задач,
Даже если решать их со скоростью света,
Вынуждают желать новой смене удач.
Поколений немало сменило друг друга,
Много разных открытий таится в веках,
А загадок всё больше, и нашим потугам
Разгадать их мешают наш опыт и страх.
Не напрасно мы опытов наших боимся,
Безоглядность вполне может нас погубить.
И приходится нам прибегать к компромиссам
И выхватывать крохи из вечных глубин.
Никогда не достичь нам границ мирозданья,
Никогда не понять смысл того, что в нём есть.
Божий дар, или всё же Его наказанье
Это всё, или так – всякой всячины смесь?
Всякой всячины мы нахлебались с избытком,
Ею плотно набив, под завязку мозги.
Ну и что? сколько было открыто, забыто? —
Даже в прошлое смотришь – не видно ни зги.
Что нас в будущем ждёт, догадаться несложно.
Мы, скорее всего, уничтожим себя,
Потому как грехам предаёмся безбожно,
Ни на что не надеясь, ни о чём не скорбя.
ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
И вот они – прекрасные мгновенья:
И ветер свеж, и дышится легко.
Ускорились в природе омовенья —
И не взлетают пыль и прах веков.
Препятствий нет – и крылья расправляет
Минувшим утомленная душа.
Сентябрь напоминает мне о мае,
Иной прелестно прелестью дыша.
Возобновленье чувств меня возносит
К безоблачным вершинам бытия.
Одно мешает: этот високосный
Людей – как злаки косит со жнивья.
И всё же – пусть не ярко, ненадолго —
Воспламеняет чувства новый день,
Не ставший ни открытьем, ни итогом
Моих земных, не всем заметных дел.
И этот час – простой, благословенный —
Ничем особым не блистает, но
Мне дорог он, размеренный, осенний,
Из павших листьев стелющий рядно.
КРЫЛЬЯ
И пространство, и время, в которых я жил и живу,
Мне даны, мне отпущены, я полагаю, недаром.
Я люблю этот мир, зелень трав и небес синеву
И завидую чуточку только Дедалу с Икаром.
Много раз я летал, отрываясь от грешной земли,
И полёты во сне ощущал как реальное чудо,
И, проснувшись, жалел, что бескрыл и желанья свои
Так и буду насильно гасить по утрам, так и буду.
Буду свой тяжелеющий прах по дорогам носить,
По зелёной траве, в синеву непокорную глядя.
Скоро мне и на это не хватит, я чувствую, сил.
Знать бы, сколько отпущено книжкам моим и тетрадям.
Всё изменится в мире, сотрёт он и эти следы,
И начнётся красивая новая жизнь, и, быть может,
Среди многих счастливцев очнусь здесь и я молодым,
На Икара, а может, и на серафимов похожим.
Впрочем, крылья такие с рождения людям даны
И сегодня – летай, если чувствуешь мощные крылья.
Но когда и душа, и вседневные мысли темны,
То и нечего ждать, что взлетишь, и страдать от бессилья.
Пусть пока лишь во сне да в своих бесприютных стихах
Я, бескрылый, возвысившись, всё же порою летаю
И надеюсь, что каждый во сне мной проверенный взмах
Мне поможет догнать вот таких же юродивых стаю.
Я летаю – пространство и время мои навсегда.
Я доволен судьбой, вы простите меня за печали,
За угрюмый мой вид. Понял я, что я – тот же Дедал
И что крылья – душа, а не то, что торчит за плечами.
ИГРА
Теряясь в мураве, течёт ручей,
Извилистый, как жизнь моя земная.
Да, я пишу стихи, а вот зачем
И для кого? – и сам того не знаю.
Не может никого увлечь игра
И светлых чувств моих, и скорбных мыслей,
Призвать к любви: пора, мол, друг, пора
Над бренною стезёй себя возвысить.
А надо ли кого-то призывать
В надежде на возвышенное слово,
Когда и в нём – лишь пепел, лишь зола
Скрывает холод сердца ледяного?
Наверное, пора унять соблазн
Начало положить иной вселенной —
Без алчности, убийств и прочих язв,
Но чтоб роднила дружба всех со всеми.
В начале было слово. Так давно,
Что и при всём желанье невозможно
Узнать, понять, когда, зачем оно
Здесь прозвучало так неосторожно.
Игра ли чья-то виновата в том,
Что мир наполнен страхом и печалью.
То слово прозвучало, словно гром,
Грозя всему, что будет, изначально.
ЕЩЁ ВОЗМОЖНО
Себя считаю полноценным: ещё на месте голова,
Ещё и руки-ноги целы, чего желаю я и вам,
Друзья мои, и в наши годы возможно интересно жить,
Пока и видим мы, и ходим, и в состоянии дружить.
И то ценить, что мы имеем, что любим и в душе храним.
Усталость есть, и, тем не менее, творим, наш дух неукротим.
Еще восторгами наполнен и ёмкий, и упругий стих,
Ещё не завершился полдень, и не померк, и не затих.
ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО
Предельно ясно: день настал.
Светло, пустынно.
Жизнь – будто с чистого листа.
За всё простила.
Не знаю, помнит или нет
Мои проступки.
Но – дарит радостный рассвет,
Бесшумный, чуткий.
Хотел ли, нет ли, но иду
Ему навстречу.
Любовью преданной и дню,
Бог даст, отвечу.
Пишу, но вспыхнет вновь заря
Огнём прощальным,
А в нём и лист, и боль сгорят,
Оставив шрамы.
И клич победный пустоты
Во тьме затихнет.
Что ж, осень, кружатся листы
В сентябрьском вихре.
Горят, ликуют, будто бал
Устроен кем-то.
Но мы-то знаем, час настал
Прощаться с летом.
И что такое – день один,
И боль, и счастье!
Погаснут листья, схлынет дым,
Снега примчатся.
НАД ТИХОЙ ВОДОЙ
Как приятно над тихой, прозрачной озёрной водой
Постоять поутру под лучами туманного солнца.
Ну конечно же, ею, живой, безусловно, святой
Моё сердце питалось всю жизнь и поэтому бьётся.
Так же тихо, спокойно, у всех, кто вокруг, на виду,
Ничего не тая, не скрывая – открыто и просто
Бьётся сердце моё – только к кромке воды подойду,
И оно тишины и лучей золотистых напьётся.
Возвышается небо над озером и надо мной,
Укрывая его и меня от тревог и напастей.
Мне в такие минуты безрадостной жизни земной
И не кажется даже – душа переполнена счастьем.
Екатерина БАЙДИНА. Только вот душа всегда в тревоге
***
И суета сует, и не остановиться.
И вот покой приемный и больница.
Сначала спится, а потом не спится.
Слезами дождь за окнами струится…
И встать боишься – скрипнет половица.
Есть время всех простить
и с чем-то распроститься.
***
Не спится, не спится… И мне представляется,
Как плоскодонка на волнах качается.
Я снова на вёслах, движенья заучены —
И тихо скрипят в лодке обе уключины.
Вода всех оттенков зелёного цвета,
И мне восемнадцать, и солнце, и лето.
А здесь вот тарнава – не стоит купаться.
Пожалуй, до острова лучше добраться.
На город мне с озера не насмотреться,
И радостно бьётся весёлое сердце.
Так мне не заснуть, надо что-то представить
Такое, чтоб сердцебиенье убавить.
***
Белоствольные наши красавицы
И без зелени хороши.
Вы верхушками неба касаетесь,
Достаёте до самой души.
Небо синее, тонкие веточки —
Вот таким было мамино платье.
Это словно от мамочки весточки
И родные её объятья.
ПОХОД ЗА КЛЮКВОЙ
В окне электрички осины сырые,
С друзьями за клюквой я еду впервые.
Болото себе представляю как символ
Рутины иль просто трясиной.
Внезапно за лесом открылось болото,
Там яркого мягкого мха позолота
Струилась у ног, а подросточки-ели,
На этот ковер забежав, поредели.
По бархату кочек рубины, рубины,
А мы собираем рубины в корзины.
И пусть нелегко по болоту движенье,
И пусть велико там земли притяженье.
Не в небо глядишь, а под ноги, на кочку.
Но как только выйдешь на твердую почву
И ношу долой – начинает казаться,
Что можешь взлететь, стоит лишь разбежаться.
ПРО СЛОНА
По улице слоник шагает спокойный,
Он вовсе не слушает лай непристойный.
Слон детям покажет и хобот, и уши,
Какой он большой и какой он послушный.
Дивятся детишки, зевают зеваки,
Рычат недовольные чем-то собаки,
А злоба всё льется на ноте высокой,
От зависти глупая Моська жестока.
Не в джунглях родимых, а между домами
Шел слоник и думал о маме, о маме…
***
Апостол Андрей! Апостол Андрей!
Ты первым был призван к сторонке своей.
Да только вот брата Господь отличал.
Господь отличал, ну а ты не серчал.
Нет зависти, ревности в сердце твоем.
За то тебя славим и песню поем.
***
Тихий вечер, мягкая прохлада,
Милый взору розовый закат.
Что тебе ещё, старушка, надо?
– Чтобы был в душе покой и лад.
Только вот душа всегда в тревоге,
Даже если вроде всё путём.
Как сынок? Ведь он сейчас в дороге.
Как там внучек в городе своем?
Только лишь молитва утешает
И надежду снова подает,
Мир в душе усталой воскрешая,
В Божий храм зовёт, зовёт, зовёт…
Валерий МАЗМАНЯН. Давай на грусть наложим вето
***
Весна – воркует голубь сизый,
дожди у окон отплясали,
синицы надевают ризы,
поют погожим дням осанну.
И клён – разбуженный грачами —
с ручьём разучивает гаммы,
где старый ворон изучает
листвы подмоченный пергамент.
Белея долговязым телом,
берёза в луже моет косы…
И не грусти, что, между делом,
к тебе крадётся жизни осень.
***
О судьбе разговоры уже не влекут —
вспоминается чья-то вина,
зацепился за веточку неба лоскут
и трепещет в проёме окна.
Не озлобились, живы, не стали грубей,
не горюй, а уныние – грех,
белизною пометил виски, голубей
и берёзы растаявший снег.
Не вздыхай, нам апрельские ночи вернут
всех ушедших в красивые сны…
На берёзовой веточке неба лоскут,
улыбнись – это вымпел весны.
***
Давай на грусть наложим вето,
когда не спится до рассвета,
когда ты в зеркало не глядя,
седые вспоминаешь пряди.
Молчание плетёт интригу,
не делай вид – читаешь книгу,
печаль плетёт у сердца кокон —
постой со мной у синих окон.
На город лёг туман акаций,
душа зовёт в нём потеряться,
а ветер вишню в белой шали,
слегка касаясь, утешает.
Поплачься, если станет легче,
а майский дождь у окон шепчет,
что за весной не осень – лето…
Давай на грусть наложим вето.
***
Попрятались серые тени
в туманы цветущей сирени,
и кланялись, кланялись ветки
безродному пришлому ветру.
Боялись во мраке остаться,
срывались цветочки акаций,
летели большим белым роем,
надеясь, что окна откроем.
Сначала стук тихий и робкий,
потом – барабанные дроби,
печалились мокрые ивы —
опять бесконечные ливни.
А ты на окне запотевшем
уже написала поспешно —
под строчки стекло не линуя —
ну вот, и дождались июня.
***
Ветла грустила о былом,
дремала тёмная вода,
метнулась чайка и крылом
разбила зеркало пруда.
Затеял рой стрекоз игру,
и ласточка грозу звала,
и ты шептала – не к добру,
к печали бьются зеркала.
И свет дневной во мгле пропал,
и росчерк птичьего крыла…
Петляя, нас с тобой тропа
по судьбам разным развела.
Мы друг от друга далеки…
А там, где встретили весну,
сидят на зорьке рыбаки
и ловят звёзды на блесну.
***
С начала июня – неделя,
тюльпаны уже отцвели,
о вечности лета гудели
траве золотые шмели.
А пышную зелень квартала
губили не тучи, а зной,
смотрел, как сирень отцветала,
со мной одуванчик седой.
Я знал, что меня ты любила
и что не сойтись берегам,
цветущая ветка рябины
досталась февральским снегам.
Когда нас былое отпустит,
и память, и годы решат…
Мы кто? – только коконы грусти,
а бабочкой станет душа.
***
Прошёлся дождик и прохлада
прочь прогнала остатки сна,
а из листвы совиным взглядом
на нас уставилась луна.
Туман у изгороди виснет
большим жасминовым кустом,
ночное время – время истин,
и время – строить на пустом.
Наш шёпот слушает лужайка,
мы рядом, а две тени – врозь,
тебе, что не вернётся, жалко,
а мне – всё то, что не сбылось.
Вздохну – менять нам что-то поздно,
смеёшься – рано в старички…
А из травы далёким звёздам
шлют позывные светлячки.
***
Не грусти, не вздыхай, что скитальцы —
сновидения, память, душа,
и в туманы цветущих акаций
беззаботная юность ушла.
Не жалей, что уже невозможно
к облакам – через поле – босой,
где шмеля угостит подорожник
из зелёной ладошки росой.
И о том, как любила ревниво,
не стыдясь своих слёз, говори,
искупавшись, накинула ива
розоватый платочек зари.
Одуванчик наденет корону…
А сегодня под песню ручья
для тебя худощавые клёны
принесли синеву на плечах.
***
Для ветра это просто шалость:
бросает медный лист – лови,
вот только осень зря вмешалась
в мою историю любви.
У всех дождей своя натура,
но с ними нас роднит слеза,
обрежешь фразу взглядом хмурым,
и я не знаю, что сказать.
Вздохнёшь, со лба откинешь пряди,
смолчу, что ложь порой свята,
а ты взмахнёшь, уже не глядя,
крылом раскрытого зонта.
Скажу рябине в платье алом
ненужные тебе слова…
А под лоскутным одеялом
уснула палая листва.
***
В сквер забежит неприкаянный ветер,
тени прогонит, исчезнет в дали…
Падают с неба на землю соцветья —
яблони в райских садах отцвели.
Сонные клёны немного пугая,
голуби стаей срываются с крыш,
я изменился, ты стала другая —
знаю, об этом сегодня молчишь.
В сумраке искрой исчезла синица,
окна завесила белая мгла…
Ночью весеннее небо приснится,
вспомнишь – летать ты когда-то могла.
***
Стоим с тобой на перепутье,
а осень в рубище берёз
сшивает серых туч лоскутья
стежками веток вкривь и вкось.
Вчерашний снег – полоской белой,
на ивах мокрое рваньё,
тревожат дремлющее небо
и голуби, и вороньё.
Немного у судьбы просили,
а жизнь, гадай, как повернёт,
и бьётся сердцем лист осины,
вмерзая в первый тонкий лёд.
И где ему тепло и место,
живое чувствует нутром…
Зима вся в белом, как невеста,
не помнит осень в золотом.
***
Впали в кому до февраля
клёны, ивы и тополя,
ясень выгнул спину дугой,
липа медной звенит серьгой.
Все сугробы упали ниц —
две луны на груди синиц,
тень сирени сошла с ума —
стала белым пленом зима.
К свету окон – роем метель,
я к тебе мотыльком летел…
Знает ночь – наших снов ловец:
время – стук двух родных сердец.
Владимир КОЛАБУХИН. Незабываемое
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Ну, вот и схлынули морозы,
Снегов слетело одеяло,
И закудрявились берёзы,
И на душе отрадней стало.
Но почему ты с грустным взглядом?
Куда спешила на рассвете?
Какой грозой запахло рядом,
Что ты прошла, мне не ответив?
МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Майский день тих и ясен на диво
И цветочным дыханьем богат.
Но жемчужными слёзками ива
Грозовой предвещает закат.
Что ж, пусть ливень прольёт с гулом-гудом,
Пусть прохладен он будет и спор,
Лишь опять засияли бы утром
Синь небес и цветковый узор.
В СОРОК ПЕРВОМ
То было время грозовое:
Земля и небо – всё в огне.
И город наш, что под Москвою,
Был с фронтовыми наравне.
Без роздыха рвались снаряды,
Дома валились и сады.
Не то что хлебу – были рады
Мы горьким щам из лебеды.
Но что они для карапузов,
Те щи пустые – лишь вода.
И, подтянув к груди рейтузы,
Мы к свалке двинулись тогда.
Был слух такой – туда порою
Из кухонь всех госпиталей
С картофельною шелухою
Бросали клубни погнилей.
Лишь жёлтый гипс да бинт кровавый
На свалке мы с дружком нашли.
И хуже не было отравы
Для впечатлительной души.
Домой летели – как поближе,
Зажав сырой ладонью рот…
Мне о войне не надо книжек —
Забыть ли сорок первый год?!
В СТАРИННОМ ГОРОДКЕ
Ветер в берега волною хлюпал.
С косогора древнего окрест
Смотрят в дали церкви синий купол
И трёхпалый золочёный крест.
Солнце в Волгу опускает вожжи —
Утомилось за день на ходу.
Женщины, как встарь, бельё полощут
На морёном, крохотном плоту.
Тишина… И вдруг – не сон мне снится! —
На спокойный, на речной простор
Вылетает сказочною птицей
Ярко-белый, быстрый «Метеор».
***
Ах, как ветер бедовый ласкает
Твои лёгкие, светлые волосы!
Ах, как нежно опять обнимают
И целуют тебя гладиолусы!
Полон город беспечными птицами,
Что поют и к плечам твоим рвутся…
Отчего же никак не решиться мне
К гордой стати твоей прикоснуться?
Прочь сомнения, страхи и грёзы!
Позабуду я робость былую,
Принесу тебе свежие розы
И в кольце крепких рук зацелую.
ИЮНЬ
Июнь… Июнь…
Пух тополиный
Завис бессильно над землёй,
Сомлевший в горечи полынной
В невиданный доселе зной!
Вдали —
Ни облачка, ни грома…
И полыхает горизонт
Закатным пламенем багровым,
Рождающим
Вечерний звон.
***
Опять хлеба заколосились,
И голубеет в поле лён,
Стрижи над Волгой в небе синем,
И воздух мёдом напоён.
Мой милый край, краса земная,
Лесов прохлада в летний зной!..
Земля – такая мне родная…
Здесь всё и навсегда со мной:
И бирюзовый отблеск Волги,
И копны, вставшие рядком,
И жаворонка голос звонкий,
И танец пчёлки над цветком…
***
До чего всё сложно в мире этом…
Вот опять мне вспомнилось былое —
Так тебе шло платье голубое,
И глаза сияли тёплым светом!
Но однажды ты пришла в печали,
Лёгких рук не вскинула на плечи,
И погасли в океане млечном
Свечи звёзд, счастливые вначале.
А потом, прощаясь на вокзале,
Мне платком махнула ты и скрылась…
Стынут звёзды. Где ты? Как случилось,
Что они судьбой нас не связали?
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Прилетел он к нам, скорый на встречу,
Тучей белых назойливых мух,
Появился внезапно, под вечер,
Закружился, как тополя пух.
У берёзонек выбелил кудри,
Пышным кружевом лёг на траве.
И, багрянец кленовый припудрив,
Весь растаял, лишь выплыл рассвет.
Елена ЗАСЛАВСКАЯ. Заметки на полях войны
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ВОЙНЫ
Связка писем другу для поднятия боевого духа
На свете счастья нет, но есть покой и воля…
А. С. Пушкин
1
Заметки на полях войны.
Окопная строка, в которую вписали
Солдат, как буквы. Ты
Один из них.
И мой эпистолярий
Прочтёшь едва ли.
Может быть,
Потом.
Вернись живым.
И мы друг друга снова прочитаем
И перечтём.
Пусть память сохранит,
Как, вырываясь из глубин гортани,
Как поцелуй, как лёгкое дыханье,
Живое слово нас соединит.
2
Заметки на полях войны.
Ты полон злой решимости, отваги,
Ты пишешь их, а я пишу стихи
Тебе, традиционно на бумаге,
И письма, не е-mail, а от руки,
Забытое искусство древних магий
Творить из рифм и ритмов
Новый мир.
Ты воссоздашь его из словосочетаний,
Из почерка, как кружевной узор,
La lettre ouvre le secret du coeur.
3
Заметки на полях войны.
Что написать тебе, наследник Титуреля?
Ты думаешь, приходит наше время
Осуществить увиденные сны,
Но будем до конца честны,
Все то, о чём нам ангелы напели,
Как гули, в изголовье колыбели,
Лишь гул, который мы
Разбить пытаемся на ямбы и хореи,
А разбиваем лбы.
Здесь Монсальват – громада террикона.
А чаша – это банка самогона.
4
Заметки на полях войны.
Жизнь, сделав поворот, меняет вектор,
Ты был филологом, поэтом,
А стал солдатом. Боевик
И террорист, как пишут СМИ,
Им в тон гудит Ахметка,
И мне на ум одна приходит мысль,
Что если ты стреляешь так же метко,
Как пишешь – будет в этом смысл.
Умолкла муза. Снова перестрелка.
И я пишу тебе: «Держись.
Post scriptum. Обнимаю крепко».
5
Заметки на полях войны.
Во имя новорожденных республик.
Заметки на полях весны
И революции, объединившей наши судьбы.
Здесь ломоть развалившейся страны,
Который Родиной зовём и я и ты,
Как хлеба шмат, в зубах голодной хунты,
Но рифма просится, прости,
Что не сдержалась: х… им.
6
Заметки на полях войны.
Жизнь набело. Её не перепишешь.
Людская кровь не сок пунцовых вишен
И не чернила. Некого винить
Кроме себя. Храни тебя Всевышний.
Мечтаю я: мы сядем визави
И скажешь ты: «О нас напишут книжки.
И фильмы снимут тоже, может быть,
О том, как познают мальчишки
Кровавый жаркий вкус борьбы,
А девочки уже не понаслышке,
А наяву боль узнают любви».
7
Заметки на полях войны.
Ты говоришь мне, что у вас спокойно,
И выстрелы пока что не слышны,
И умирать, наверное, не больно,
Ты говоришь, у вас там соловьи
И степь ковыльная колышется, как море,
А я читаю хроники в сети:
Тот ранен, тот убит, тот похоронен.
И счастье, не успевшее войти
В мой дом, готово обернуться горем.
И я твержу любимые стихи:
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
2014
ПОСЛЕДНЯЯ ОБОЙМА
И воистину светло и свято
Дело величавое войны…
Николай Гумилев
1
Последняя обойма разрывных…
И умирать, наверное, не больно,
Но выстрелы пока что не слышны
И степь ковыльная колышется, как море…
Пишу заметки на полях войны,
Обрывки дневников и хроник.
Здесь у обрыва обнажились корни, —
Вот так и мы
Цепляемся за пядь родной земли,
В которой нас однажды похоронят.
Пока мы живы. Молоды. Пьяны.
Надеемся и держим оборону.
2
Последняя обойма разрывных…
А как без них родится новый топос,
Когда мечта в проекции на плоскость
Не знает политических границ.
Мы повзрослели в 90-х,
Мы постарели в нулевых,
Но новый русский станет новоросским,
Чтобы остаться у контрольной высоты,
И звёздную отряхивая пыль
С солдатских берцев и «берёзки»,
Шагнуть в бессмертие, где русские берёзы,
Как сёстры, не наплачутся над ним.
3
Последняя обойма разрывных…
Сержант не знает то, что он покойник.
Ещё он жив. Смеётся. Занял стольник
До выходных.
Несказанная речь стекает глоткой.
И ненависть течёт по веткам жил.
И корка серого над горькой стопкой:
Не дожил.
А из спины, куда вошёл осколок,
Вдруг – пара крыл.
4
Последняя обойма разрывных…
Прошу тебя, пиши мне, если сможешь,
Знай, для меня нет ничего дороже
Связавшей нас мечты,
И русской неожиданной весны.
Здесь, на войне, я ощущаю кожей
И смерть, и жизнь!
Здесь каждое мгновение – возможность,
И говоря «быть может»,
Мы понимаем: может и не быть.
5
Последняя обойма разрывных…
Последний для себя, коль карта бита.
Наш старый мир исчез, как Атлантида —
Чёрт с ним.
Сомкнутся волны трав. Утихнут битвы.
Останутся лишь песни и молитвы,
И в них
Упоминания имён и позывных,
И наша память, как кариатида —
Опора человеческого вида,
Их сохранит.
6
Последняя обойма разрывных…
Кто выживет, тем долго будет снится
Война, однополчане-пацаны,
И скифских баб обветренные лица.
Со школьной нам известная скамьи
Строка сегодня, как БЛОКбастер, повторится:
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…
А может, евразийцы.
Для вас, Европы сытой холуи,
Зажглись артиллерийские зарницы!
7
Последняя обойма разрывных…
Гремят артиллерийские дуэли,
И нас, отпетых, уж давно отпели
Степные суховеи. Как шмели,
Жужжат шрапнели.
И шмели
Плюют огнём. Нет ни земли,
Ни неба.
И древнее «иду на вы»
Из тьмы столетий
Достаю нам на потребу.....
Вершится дело величавое войны!
Вершится треба!
2017
NEMO
Поэма
1
Седой рапсод,
Бродяга-инфлюэнсер,
Я расскажу тебе историю свою,
Я на ухо беззвучно напою
Песнь песен,
А ты потом пропой её другим,
В пылу пирушки,
И в пылу войнушки
Рождённую, вмещённую в стихи
Стихию,
Будоражащую душу,
Про затонувший город, город Лу,
Луганстеров и чёрных флибустьеров,
Про идолов, хранящих Дикий Луг,
Ещё жрецов грядущей новой эры,
Про то, как смерть поймала на блесну
Меня, русалку из затерянного града,
Как жизнь нас тянет медленно ко дну,
Туда, где морок, тишина, прохлада…
Ещё про свет родных зеленых глаз,
В них утонуть нисколечко не страшно.
И каждый раз – всегда последний раз,
А остальное всё не важно.
Пропой, рапсод, истории мои!
Кто посмеётся, может, кто заплачет.
Жизнь ничего не значит без любви.
Да и с любовью ничего не значит.
2
– Не пиши стихов.
А пишешь – не публикуй.
А публикуешь – не посвящай.
Пообещай!
– Какое дело тебе до моих поэм?
Ты будешь не узнан,
Не назван.
Мистер Никто. No name.
Никто не узнает, где мы
Пересеклись с тобой.
Пусть начнется поэма,
Таинственный мой герой.
3
Раньше наш город звался Луганжелесом,
Прежде чем затонул.
Почитайте Хроники Марсия
Про войну.
Раньше был Марсий луганстером,
А теперь рапсод.
– Марсий! Есть ли жизнь после Апокалипсиса?
– Как кому повезёт.
4
Я вглядываюсь в линию горизонта.
Рядом со мною жрец, позывной – Скиф.
Наш город давно под водою.
Город-легенда, миф.
Кто же его придумал?
Жив он или погиб?
Скиф говорит, что пули
Похожи на стайку рыб.
Нет, говорит, нам покоя,
Исчезнем мы без следа
В пучине дикого моря,
Которое было всегда.
И тянется до горизонта,
Плодит кочевые сны.
И ходят ковыльные волны
Под ветром степным.
5
– Ты знаешь, куда она смотрит
Своими слепыми глазами?
Вдаль? За линию горизонта?
– Нет. Она наблюдает за нами!
Посмотри ей в лицо.
Знай, безмолвие только приманка.
Посмотри ей в лицо.
В нём ни жалости нет, ни обмана.
Посмотри ей в лицо.
Спит подводная лодка кургана —
Субмарина полная мертвецов.
И увидишь,
Как скифская баба,
Поля Дикого, Моря Великого
Богородица камнеликая
Выбирает себе жрецов.
6
…Здесь, на плоскости маргиналий,
Мы так долго друг другу с тобой не писали.
Там, где адрес – давно обозначен прочерк.
Там, где имя… оно проступает на сердце лишь ночью
Безнадежной тоской, несказанным предательским зовом.
«Я приду за тобой даже в чёртов затерянный город.
И в тюрьму, и в дурдом, и в забытый людьми лепрозорий.
Знаешь, боль проступает на теле узором.
И любовь проступает на теле узором.
Лихорадкой, румянцем, блистательным взором.
Пусть же очи твои мне сияют, как два маяка среди ночи.
В многолюдном движении и в тишине одиночеств.
Я направлю к тебе свой корабль блуждающий, пьяный, разбитый,
Спотыкаясь о рифы, о рифмы, о ритмы
И по звёздам сверяя свой курс в океане событий»…
7
Над головой,
Будто чёрные вороны,
Чёрные дроны летают,
Чёртовы роботы,
Новые вестники,
Горя валькирии!
Что вы несёте нам
На электронном носителе?
– Разве не видите?
Образы гибели!
8
Из рога единорога
Хорошая выйдет пушка.
Ею можно на мушку
Любого
Киборга или Дрона.
А ещё лучше —
Дракона
Стального.
Ну же!
Сразим летящую падлу!
Падает.
Прямо над нами.
Звездопадом.
9
Зов Моря. Гул. Протяжный зуммер,
Когда ракушку телефона
Прикладываешь к уху,
Ждёшь, что я откликнусь, вынырну
Из мутного потока,
На выученный нумер отзовусь,
Приду на голос твой,
Раба сердечной спайки.
Тверди мой позывной,
Лови свою русалку!
В сетях мобильных невелик улов.
И в море русских слов —
Вот звука пузырёк,
А вот песчинка знака.
Я как жемчужину храню под языком
Родное имя – тайну.
10
Имя всегда означает путь.
Имя всегда означает суть.
Как только по имени позовут —
Из ниоткуда вызовут, призовут.
Потому я дам тебе позывной,
Чтоб имя не ведал – ни свой,
Ни чужой,
Чтобы был он тебе как броня
Среди Поля Дикого,
Среди Моря Великого
И огня.
11
Чёрное золото.
Прямо из жил земли.
Шахты ныне затоплены.
Шныряют пиратские корабли.
Чёрное золото
Прямо из самых недр,
Скиф протирает оптику,
Весь как натянутый нерв.
А я… я слагаю песни,
Заслушаешься, и вот
Тонкое лезвие поэзии
По сердцу полоснёт.
– Скиф, отпусти на поверхность
Окликнуть свою любовь!
– Плыви, но не пой свои песни,
Пусть узнает тебя без слов!
12
Дикое Поле. Великое Море.
Здесь всё затопили воды народного гнева.
И пьяные флибустьеры гоняют на чёрных фрегатах,
Оставленных или отжатых,
Freedom forever!
– Скажи его имя, русалка!
Скажи его имя!
Немо!
Да я бы тебя позвала —
Сквозь пространство и время —
Пронзительным воплем
Из самого сердца,
Но алая пена
Выходит из горла —
Моя немота,
Моё горькое рыбье наследство.
На палубе голой распластана,
Жабры трепещут.
Крючком рыболовным поддета —
На радость пиратам.
Штиль полный. И волны не плещут.
Безмолвствует небо.
Но если захочешь найти,
То иди по кровавому следу!
13
Когда же, Немо,
Ты придёшь на берег?
Что вынесет к твоим ногам прибой?
Жемчужину?
Ракушку-телефон?
Или мою поэму?
А может,
Ты моё имя, лёгкое как пена,
Услышишь в шуме волн…
…Елена…
2019
Художественное слово: проза
Георгий КУЛИШКИН. Сыновья
Рассказ
Федор Петрович, отец Сашки Кутепова, чувствуя себя конвоируемым, был сопровожден одним из дежурных по проходной в большое серое здание жилого корпуса, где сразу же за вестибюлем, чуть поверни в широкий, задуманный как место для построений коридор, располагалась дверь кабинета заместителя начальника по учебно-воспитательной части. С почтительной вежливостью дежурный, седеющий сержант, тюкнул костяшкою пальца в шляпку мебельного гвоздя на пухлой обивке, приоткрыв, робко осведомился – «Разрешите?», а получив позволение, доложил как о грандиозном свершении:
– Доставлен!
Кабинет, куда Федор Петрович, волнуясь, слыша, как намокают ладони, ступил из коридора, озадачил обилием стульев, выстроенных вдоль всех четырех стен и занимающих рядами две трети внушительного, как просторный школьный класс, помещения. Стол хозяина располагался в дальнем углу под тремя торжественными, словно из картинной галереи, портретами. Центральное полотно, добротно выписанное маслом, изображало Ленина, правее висел сработанный с ничуть не меньшим тщанием портрет Макаренко, а слева – Горького.
Вошедший не знал, что стулья собирают сюда ради проведения совета командиров, который в прошедшую пятницу принимал в числе прочих новичков и его сына. Не знал, что человек, в форме майора сидящий за столом, вертит всей жизнью колонии, как Балда вертел веревкой, когда морщил чертям море. Что этот человек ведет советы, на которых с пацанами-командирами обсуждается всё прошедшее и планы на будущее. И держит в тонусе соревнование между отрядами и отделениями, где учитывается и работа на производстве, и учеба в школе, и чистота, и дисциплина, и спорт, и ходьба строем, и орание девиза, и стенгазета и – всё, всё, всё. Вплоть до того, насколько лихо бригада рявкает «Спа-си-бо!» в ответ на командирское «Приятного аппетита!» Вошедший не знал и того, что это соревнование бригад ни в малейшей степени не есть валяние дурака, потому что пацанов из передовых отделений первыми освобождают на трети срока. И дороже приза, чем тот, что получают колонисты, соперничая здесь, в Куряже, не было и никогда не будет на свете. Призом является свобода, к которой хозяин кабинета неустанно зовет мальчишек, манит и щедро и честно награждает ею.
Майор поднялся из-за стола, чтобы поприветствовать посетителя. На фронте осколок отсек ему часть челюсти и угол рта; забываясь, он не чувствует слюну раненой стороной и может, как маленький, выдуть пузырек. Потянувшись через стол, хозяин кабинета подал для пожатия заостренную ранением руку, на которой не было мизинца и половины безымянного пальца, что дало повод одному острослову на его выкрик: «Я тебе пять суток дам!» сказать: «Там только три с половиной!»
– Аркадий Яковлевич, – представился майор и жестом пригласил садиться.
Сев, пришедший опустил лицо, а когда после долгой паузы поднял глаза, в них бродила такая растерянность, что майор, ласкательно прозываемый здесь Аркашей, сочувственно напряг брови и подался вперед, как это само собою выходило у него в ответ на искренность, возникающую иной раз у воспитанников.
– Можно с вами как фронтовик с фронтовиком? – решился, наконец, Федор Петрович.
То, в чем его внезапно потянуло открыться, ни в коем случае нельзя было открывать никому, и уж подавно – должностному в колонии лицу. И не за этим отец Сашки сюда явился. Но что-то вдруг уверило, что без правды, стоящей за всем, что он хочет просить, просьбу его нечем оправдать. Без полной правды просьба не просто нелепа – она глупа и нахальна.
– Понимаете… Сашка не стрелял. Это я выстрелил.
Аркаша пустил пузырек и потянул в себя воздух, прибирая слюну.
– Я по-домашнему прививаю деревья, вывожу сорта. Увлечение такое. И повадились районные недоросли обносить урожай. И пусть бы воровали, бог с ними – нет, трясут, обламывают. Я годами прививаю – им минута сломать. Когда отравили вторую собаку, я приготовил патроны с солью. И возьми и стрельни на звук. Кто же знал, что там самый из них младший окажется и что ему – под основание черепа. Умер мальчонка на месте…
Майор, как делал это, принимая новичков, чуть отвернул лицо, искоса заглядывая в глаза, которые то возникали, то скрывались, потупляясь долу.
– И тут люди надоумили, что если Сашка возьмет на себя, дадут ему как малолетнему не больше десяти. И я, если буду дома, смогу помогать, а без меня у них и у самих всё кувырком покатится.
Федор Петрович умолчал, что замысел этот возник у следователя, которому посулили благодарность и который поначалу лишь развел руками – уж очень шумно разворачивалось дело: популярная в городе «Вечерка» изложила произошедшее в том смысле, что, мол, куркули за несколько яблок и абрикосов… зверски… ребенка…
Ушедший в своё время с головою в педагогическую кутерьму, Аркадий Яковлевич не мог не воспитать в себе тончайший слух на правду. А несколько трагедий, которые он числил на своей совести, внушили непререкаемое: признания, сделанные ему, подобно тайне исповеди, разглашению не подлежат.
Он не ответил. С возникшей некоторой отстраненностью на лице, он словно бы продолжал еще возиться с анализом пробы, взятой им из глаз собеседника. А тот, открыв душу, почувствовал невероятное облегчение и заговорил горячо, стараясь убедить и начиная верить, что убедить сможет.
– Он хороший мальчишка, вы увидите, какой хороший! Он всё умеет, все работы! И знаете, растения его любят! На грядках, с которыми он… это надо видеть, чудеса да и только! Скажите, у вас тут есть теплица?
Майор не вдруг понял, о чем его спросили:
– Н-нет.
– А давайте я вам построю! Материалы в таком хозяйстве, как здесь… Сделаем из того, что под рукой, но по последнему слову. Дайте только мне его в помощники, а потом оставьте его аграрничать. Чем угодно могу присягнуть: не пожалеете! И убережем – понимаете? – убережем хорошее в парне, который ни в чем не виноват. Сможет заняться тем, что знает, что по душе…
Аркадий Яковлевич, – наверное потому, что имел дело с подростками, – как-то не соотносил степень чьей-то провинности с необходимостью и мерой наказания, а лишь видел юных сограждан, которых ДА, следовало изолировать, и с острым чувством сожаления отмечал тех, которых НЕТ, не следовало. Без какого бы то ни было воздействия системы Макаренко этих, последних, удержали бы в рамках человеческого их добрые гены. Вместе с тем и совершенно справедливо он полагал, что их, всё-таки посаженных, система и он позволяют не загубить сроком.
– Поверьте, – сказал Аркадий Яковлевич, немного шамкая надорванным ртом, – Саша ничуть у нас не изменится в худшую сторону. Могу это обещать.
– А мне – мне как жить, если не поддержу, хоть как-то не разделю с ним? Ведь помнить неотступно, что он вместо меня… Слов не существует – сказать, какая это мука! И был бы хлопцам приварок с грядки. Или цветы.
Для овощей, которых хватало бы всей колонии, – успел подумать Аркадий Яковлевич, – пришлось бы поднимать нечто сравнимое со средней руки совхозом. Выращивать же для избранных – благодарим покорно! Плутовство среди причастных к пищеблоку он выжигает каленым железом, и создавать по собственному почину лишний соблазн… А вот цветы… Женщинам на восьмое, ветеранам в феврале и к девятому. Гостям. Тем же писателям, что были вчера. И мамам в родительский день – по цветочку, выращенному руками их детей! «Хотите, ребята, что-то подарить – дарите сделанное своими руками!» – не этому ли учил Антон Семенович?
Кутепов выхлопотал на работе отпуск без содержания; Аркадий Яковлевич поручил никогда не унывающему балагуру, мастеру токарной ученички присмотреть совместно с Федором Петровичем материалы бывшего употребления из накопившихся в производственной зоне и на хозяйственном дворе зоны жилой. Нашлись несметные залежи огнеупорного кирпича, оставшегося от разобранной при капитальном ремонте вагранки. Он весь был целый, кирпичик к кирпичику, и очищенный от глины, державшей кладку, считай – как новый. На хоздворе под навесом обнаружились чугунные радиаторы отопления, которые снимали в жилом корпусе, сетуя, что эти как бы не надежнее доставленных новых. И сложенные там же добротные куски прежних труб.
Бывшего употребления оконные рамы, стоймя притиснутые дружка к дружке, от дождя и снега были по-хозяйски укрыты толем. Почти во всех фрамугах целыми оставались стекла.
Новый тес, без которого не обойтись, выписали со склада при цехе по изготовлению деревянной упаковки к тяжелым центробежным насосам – основной продукции, выпускаемой колонией.
Держа в уме размеры стекол и рам, длину брусьев и все прочие исходные данные, Федор Петрович и Сашка, похожий на отца и формою головы, и мясистостью носа, и округлостью упитанной фигуры с покатыми и сильными медвежьими плечами и коротковатыми, кривыми от колен, устойчивыми ногами с одинаково, что у отца, что у сына, косо поставленной вовнутрь правой ступнёй, – Федор Петрович и Сашка прорисовали детальный план будущей теплицы и принялись за дело.
Аркадий Яковлевич, имеющий под рукой подробные доклады мастера из токарки, наметил для себя проверочным моментом, запросят ли отец с сыном подсобную рабочую силу, в особенности для рытья котлована, который предстояло вырыть глубже, чем на метр. Но те и не подумали звать подмогу. Беззаботный весельчак Савка, любовно прозванный так пацанами, доводил до сведения, что те, семь раз отмерив, обозначили контуры котлована колышками и, дабы не мешать один другому, принялись за рытье с разных сторон. Копали без рывков, без спешки, без накатывающих волнами усилий, а тихо, внешне будто бы даже уныло, но без перекуров и с явною, сделавшейся заметной едва ли не с первых подсечек дерна основательностью, то есть загодя представляя себе, откуда начнут, куда станут отбрасывать изымаемый грунт и как следует равнять и отесывать грани возникающего углубления.
В два дня молчаливой, неспешной и обстоятельной работы возник котлован, налюбовавшись четкими, как по шнурку, очертаниями которого Савка с окончательной убежденностью доложил Аркадию Яковлевичу, что за судьбу будущей теплицы можно не волноваться.
Кладку они повели, поворачивая к лицевой стороне наиболее сохранившиеся боковинки и торчики кирпичей, рачительно соскребывая потеки раствора и протирая возникающий пристенок тряпицей. Так из чернового огнеупора возникал лицевой керамический уступ.
При печи, в зев которой упрятывался элемент нагрева, сваренный из толстостенных труб, и над которой высился расширительный бак, возводилась комнатенка, Сашкино будущее жилье, а из нее – ход в примыкающий погребок, место хранения срезаемых к дате цветов, а также Сашкиных припасов продовольствия. Трубы отопления развели, – с тщательным промером углов падения циркулирующей самотеком воды и соответствующим размещением радиаторов, – еще до того, как начали ладить прозрачные стены и кровлю.
Не прошло и трех недель, как теплица с полами из цементной стяжки и поднятыми на стойки дощатыми коробами для грунта была готова. Внешний ее облик немного подгаживали старые фрамуги, вмонтированные ради проветривания, но и они не могли нарушить общего впечатления, утверждающего, что построенное и ладно скроено, и крепко сшито.
Поскольку в холодное время года нужно было топить, поддерживая тепло, а в жаркое следить за влажностью, Сашка, как и задумывалось отцом, поселился в теплице. В первой половине дня он ходил с отделением, к которому был приписан, на завтрак и в школу, а потом, пообедав с отделением, отправлялся «к себе». Приученный дома вставать с солнышком, он пробуждался с теми же благотворно заполняющими сознание мыслями, с которыми и засыпал. Он строил планы работ, в которых назревала необходимость, и испытывал безотчетное удовольствие, исполняя намеченное и думая о том, чем займется завтра. Занятость рук и мыслей погружала в забытье, столь же целительное в его положении, как и сон. И только вечерами, повозившись и устав, он садился с баяном на свой топчан с тюфяком и заводил что-нибудь пронзительное – такое, как полонез Огинского или «Русский вальс» Шостаковича. Ему было горько и хорошо. И неудержимо текли слезы.
Когда о баяне прознало руководство, Сашку стали привлекать к разучиванию песен, которые намечалось хватить к случаю всей колонией или отдельным отрядом. С огромным голосистым баяном на груди он становился посреди каре на плацу, принявшем весь коллектив, и, притопывая косолапой ступней, затягивал:
Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
Песню разучивали к приезду в колонию автора – Шведова, но рвалась она из мальчишеских гортаней на разрыв души, и так же пел и сам Сашка, счастливый в эти минуты, безупречно берущий ноты на кнопках и выдающий безбожную фальшь голосом.
Песни, подбираемые Аркашей, все как одна так же пронизывали пацана насквозь, как и музыка, которую он играл себе одному.
Люди мира, на минуту встаньте,
Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон!
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон!
Это горланил, не жалея сердец и глядя на Сашку, терзающего баян, четвертый отряд.
А с первым отрядом пелось:
Была бы наша Родина богатой и счастливою,
А выше счастья Родины нет в мире ничего!
В отместку за умиление, возникающее под хоровой ор на лице исполнителя, а также за его работу, которую вся без исключения пацанва считала почему-то откровенным валянием дурака, Сашку прозвали Придурком.
Шло время, он окончил десятый класс, получил аттестат и совсем потерял связь с отделением, в котором числился, потому как без школы и кормиться стал отдельно. И вот уже многие из попавших в колонию позже него толком не могли сказать, кто он – такой же воспитанник, как и они, или кто-то из персонала.
Отец не пропускал дни разрешенных свиданий и общие, на праздники, родительские дни. Но он, отец, скрывая, тяготился этими встречами, в упор кричавшими о его вине, отчего и Сашка испытывал во время свиданий с Федором Петровичем нечто угнетающее. Зато, узнавая о новинках, таких как, к примеру, придуманный в Израиле капельный полив, или лампы, дающие свет, сходный по свойствам с солнечным, отец с позволения Аркаши заявлялся внедрять новшество, и тогда в слаженной совместной работе проступало, делалось ощутимым родство отца с сыном, и они оба упивались этими днями, ни слова не говоря о том, что чувствуют один к другому, да в общем-то и не думая об этом.
Так минуло три года – одна треть назначенного Сашке срока. Аркадий Яковлевич лично в развернутом, подробно аргументированном рапорте в адрес выездного суда поддержал условно-досрочное Сашкино освобождение и, будучи почти уверенным, что Сашку отпустят, прислал для обучения и последующего приема тепличного хозяйства другого мальчишку, судьба которого, как и судьба Сашки, отличалась от столь зачастую сходных судеб других ребят.
Женька Чепенко, или Чапа, был худ худобою неугомонного бесенка, всё подмечающего колючим взглядом и всегда готового к каверзе, которая тем милее его нутру, чем язвительнее с ее помощью можно уесть ближнего. В колонию он угодил в четырнадцать с небольшим, в пятнадцать был отпущен по одной третьей, а в шестнадцать возвращен обратно, получив всё по тому же изначальному его делу в связи с открывшимися вновь обстоятельствами предельное для несовершеннолетнего наказание – десять лет.
Вершиной жизненных достижений его отца была карьера боксера – такого же «мухача», как и Жека. А самым первым навыком, который отец хотел передать Чапе, – его коронный левый по печени.
Мать Чапы всегда, сколько сын помнил ее, хворала. И бесконечно выговаривала Женьке и отцу за то, что не так ответили, не так посмотрели, сделали не то. Женька огрызался, но, пусть и нехотя, прислушивался к ее словам. Отец же молча отталкивал ее, проходя мимо, и, чтобы не слышать, хлопал за собой дверью. Мог сбежать на кухню, когда она, преследуя, донимала его и в комнате. Но вот однажды двинул слева прицельно туда, где у нее болело, – в правую сторону живота. Мать мешковато осела, потеряв сознание, и образовалась тишина, без которой жизнь в доме сделалась для отца невыносимой.
С того раза он стал пользоваться этим как найденным, наконец, способом водворять спокойствие. Женька бросался помогать маме или сразу на отца, выкрикивая:
– А если тебя так?! – и сам получал натренированным кулаком под ребра.
Со временем он уже знал с точностью до секунды, когда это случится, и вскакивал, становясь между отцом и матерью. Это выручало – до поры, когда отец приноровился отшвыривать его, чтобы без помех одним отработанным движением утвердить тишину.
Исступленно мечтая о возмездии, Чапа фантазировал об оружии – о ноже. И нож не замедлил оказаться в его левой руке. Мама, у которой от удара всё всколыхнулось внутри, произвела рвотный вскрик и, сложившись пополам, упала набок, а Женька заученной отцовской коронкой саданул родителя в печень.
Как значилось в медицинском заключении, при своевременно оказанной помощи у отца сохранялись шансы остаться в живых. Но Женька забился на свой диван и зажимал уши, чтобы не слышать его криков. А больше вызвать «скорую» было некому.
На первом следствии и суде свидетелем выступала мама, и Жеке с учетом всех обстоятельств дали три года. Через год, когда в его отсутствие маму похоронили, он вернулся под присмотр бабушки, матери отца.
И вот бабушка, сухонькая, как мумия, настырная, с колючими, в их породу, глазами, с возмущением стала писать во все инстанции, что ее внук, покусившийся на своего отца и убивший ее единородного сына, остался практически безнаказанным. С фанатичным упорством она строчила послания и обивала пороги до тех пор, пока дело не возобновили. Единственный свидетель, мама, лежала в могиле, а бабушка непритворно плакала, говоря о внуке как о последнем родимом для нее существе, но и требовала справедливого воздаяния. По ее словам, на прошлом разбирательстве невестка, как поступила бы и всякая другая мать, выгораживала сына, придумав, что ее, умирающую, избивали. На самом же деле отец был убит собственным ребенком только за свою настойчивость в воспитании подростка, который, ввиду болезни матери, непозволительно отбился от рук. Бабушка говорила о том, во что искренне верила, и на этот раз суд отмерил Женьке по полной.
– Козырная хата! – заметил Чапа, очутившись в Сашкином обиталище. На термометры, развешенные в разных концах теплицы, на риску, по которой уровнем испарины, оседавшей на стеклах, определялась предельная влажность, Женька взглядывал с ленцою и вскользь. О том, с какими интервалами и сколько подкладывать в печь, слушал вполуха. Тетрадку, где округлым и старательным Сашкиным почерком были описаны для преемника рецепты грунта и режимы полива, и вовсе не удостоил вниманием. Зато с оживленной любознательностью сунулся в погребок и, цапнув с полки трехлитровую банку, в которой жареные ломтики мяса были залиты смальцем, переместил ее, разглядывая, поближе к свету.
– Хочешь? – предложил Сашка.
– А корянка?
– Хлеба нету. На ужине будем – прихватим.
– На ужине! – фыркнул Чапа. – Я до ужина слюнями захлебнусь, облизываясь на такой подогревчик! Жди! – бросил он – В хлеборезку слетаю!
Вернулся с краюхой темного обеденного хлеба, прицеливаясь, чтобы вышло поровну, разломил ее, подал половину Сашке.
– Не, – отказался тот. – Кушай!
– Кушай! – с издевочкой передразнил Чапа, глянув на своего наставника, Придурка, как на придурка.
Верхний смалец со вскрывшимися в нем шкварками, обещающими своим видом похрустывать на зубах, он полной ложкой отправил в рот. Вторую ложку, с куском мяса и горкой смальца, сопроводил энергично откушенным хлебом. Жевал, пристанывая от того, как вкусно, и с остреньким счастьем в глазах измеряюще поглядывал на банку.
– Слышь! – бросил он, болезненно отрыгнув из-за того, что в спешке накинулся на еду. – Без курева втыкаю! А у тебя, конечно, нет…
– Нет. Не курю.
– Вижу, – признал Чапа с сожалением. – По хате и видно и слышно. А что бы тебе стоило дербануть из этой банки чуток? А я бы махнул на сигареты…
– Курить – нарушение режима, сигареты выменивать – второе. А нам с тобой досрочно освобождаться, полный срок – как половина жизни.
– Жаба задавила – так и скажи!
– Сразу – жаба! – стушевался Сашка. Но попробовал устоять на своем:
– Ну, возьмешь у меня. А завтра я уйду – где будешь брать?
– Другой придурок найдется!
– Да? Ну, дербань, – перенимая у собеседника, отозвался Сашка чужим для себя словом. – Только, чур, пока я здесь, в теплице не смолить!
– Заметано! – возликовал Чапа, снимая с полки чистую банку в половину литра. – А что это у тебя – сахар?! – округлил он глаза.
– Ну, сахар. И чай. Чаевничать будем, а чифирить – перебьешься!
– Чифирить, чифирить! Из сахара бражку – вот это лафа!
– Без меня. Пока я тут – никаких бражек! И дрожжи – откуда?
– Виноград вон дикий по стенам – видал, сколько? Грязным его, немытым натолочь, набултыхать водички и – сахарку. Две-три недельки в теплом – винишко. А перегнать – печка у нас круглые сутки – чача!
– Грамотный! А вонь?
– Да что мы – не отбрешемся? Скажем… вон луковицы тюльпанов закисли!
– Шустряк-самоучка! Без меня. На суд хочу так, чтобы ни пятнышка на мне.
Когда вечером Сашка взял на колени баян и повел мелодию, грустью разоряющую душу, Чапа взмолился:
– Не нуди! Без тебя выть хочется! Сбацай веселенькое!
Сашка задумался, перебирая в памяти мелодии, которые любил, и открыл для себя, что ничего веселого не знает.
– А хочешь – тебя научим? – предложил он с таким настроем, будто это могло как-то компенсировать однобокость его репертуара.
– Меня? А нафига мне?
– Так обо всем можно сказать – нафига…
– Да? Ну, давай, – без энтузиазма согласился Чапа, поднимаясь с лежанки.
Однако, согласно свойствам его натуры, всё, что не получалось сходу, тут же переставало Чапе нравиться. Минут десять подержав тяжелый баян и потыкав в кнопки неумелыми пальцами, он скривил недовольную рожицу и отстранился от инструмента.
Ни в чем не сошлись они с первого дня, однако с первого же дня Сашку повлекло к Чапе. Была ли это необъяснимая симпатия или всего лишь потребность в дружбе, так долго прозябавшая в нем без дела, но Сашка будто ожил, будто стряхнул с себя сонливость, под действием которой находился целых три года.
Всегда имея возможность при желании подремать среди дня, они подолгу разговаривали ночью. Говорил по преимуществу Чапа, умевший из всякой чепухи скроить некое подобие рассказа. А Сашке истории давались туго. Он и свою поведал несколькими натянутыми фразами.
– Не боишься, – поймал его на слове Чапа, – что я кнокну куда следует? Вот смеху было бы: и ты отсидел, и папаню спрячут!
С обычной своей обстоятельностью Сашка задумался над услышанным, потом спросил:
– А ты был там?
– Где?
– Когда стреляли.
– Ну, не был, и что?
– Быть не был, а откуда же знаешь?
– Ты сказал.
– А, я!.. Тогда считай, что я пошутил.
В начале дня прибежал гонец от дежурного по колонии – грозного лишь на вид капитана, носившего фамилию Ковшар.
– Копыта тяни! – имея в виду Чапины руки, засунутые в карманы ватника, прикрикнул туго перепоясанный поверх шинели портупеей дородный дежурный.
Женька вынул руки и сыграл корпусом, спрашивая без слов: ну, и дальше что?
– Стоит, как муха в полете! – возмутился капитан. – А к нему, отакому вертлявому, может быть, бабушка на свидание приехала! Пять минут на привести себя в порядок и – к проходной!
– Бабка на свиданку приперлась! – объяснил Чапа причину вызова Сашке.
– Ботинки почисть, – сказал тот. – Щетка и крем в тумбочке.
– Я по ночам планы строю, как ее техничнее грохнуть, а она ща слезки станет пускать, петь про кровиночку, про единственную!
Сашка, не отвечая, снял с него шапку-шушарку, какие доставались всем новичкам, – а Женька, недавно вернувшись, заново угодил в новички. Шапка эта после санобработки была сплюснута так, словно на ней сидели вместо того, чтобы носить на голове. И, сняв свою, воинскую, мутоновую, раздобытую отцом, нахлобучил ее, явно великоватую, на стриженую черепушку напарника. Сказал:
– На человека будешь похож.
Со свиданки Чапа принес старенькую бязевую наволочку с передачей, бросил ее на их сколоченный из досок стол, покрытый кухонной клеенкой. Потом, пряча красные глаза, вернул Сашке шапку.
Известие о прибывшем суде, как ты его ни ожидай, а застанет врасплох.
С утра, как чувствовал, Сашка побрился, сменив в станке моечку на новую, хотя прежняя еще вполне годилась в дело. Это была третья процедура бритья в его жизни. По намыленным щекам он прошелся лезвием для блезира – там нечего было брить. И, будто бы заодно с чем-то, пробившимся на щеках, прибрал начисто свои колонковые усики. Кожа над верхней губой, когда касался языком или губой нижней, вся была из мелких саднящих крупинок.
Когда кликнули на суд, он кинулся заново мыть с мылом лицо и надел отглаженную новую форму, висевшую на плечиках в ожидании этого дня. Форму ему выдали, как и всем, месяца три назад, но он, всегда бережливый к одежде и обуви, носил старую, приберегая эту для суда.
Их, трепетных в преддверии вымечтанного, но еще не приговоренного им счастья, вывели строем, колонною по два за зону к маленькому домику в свежей желтоватой побелке, где и проводилось по вторникам выездное заседание.
Вызывали по одному, спрашивая всех об одном и том же, и не терзали подолгу.
Надлежало раскаяться в содеянном и пообещать, что впредь – ни за что и никогда. Сашка, что было объяснимо, учитывая тяжесть преступления, тяготевшего над ним, значился последним в списке, а пацаны, не успев, как ему казалось, войти, выскакивали все без исключения с сияющими мордахами. Это воспринималось добрым знаком, но и тревожило – будто бы там, раздаваясь всем без разбору, расходовалось счастье, которого могло не остаться на Сашкину долю.
Судья, средних лет женщина, чувствовала себя уставшей. На ночь она накручивала волосы на бигуди, к полудню завивка ослабевала, разваливая прическу, и судья становилась похожей на домашнюю хозяйку, намаявшуюся над корытом со стиркой. Она не любила себя такой, смущаясь своего вида, и с опаской поглядывала иной раз на народных заседателей, которых знала многие годы и которые, будучи людьми простыми, тактичными и ни в малейшей степени не конфликтными, давным-давно привыкли к такой ее внешности и не могли испытывать к ней, человеку справедливому, уравновешенному и никогда не предубежденному, ничего, кроме глубокой и давней симпатии. И еще одно обстоятельство способствовало их расположенности к ней. Это было идущее от души привычное согласие с ее мнением относительно рассматриваемых дел.
В свою очередь Сашка, браво подтянувшийся и доложивший о себе, не имел и малейшего представления о контрасте, с которым воспринимался его внешний облик в сравнении с видом стоявших здесь до него пацанов. Бледность колонистов, которые с утра шли в школу, а после обеда допоздна работали на производстве, бросалась в глаза в родительские дни рядом с лицами людей с воли. Она была всеобщей, эта бледность, и походила на картофельные побеги, проросшие в погребе. За три года Сашка привык к таким лицам вокруг, но он не видел себя, всегда, благодаря отцу, сытого, живущего на открытом воздухе и занятого крестьянским трудом.
К тому же бритье, раззадорившее румянец, и новехонькая, с иголочки, форма, и шапка, которую он мял в руках, так не похожая на шапки всех остальных, и эти хваткие руки, подтверждали вместе с хозяйственной осанистостью фигуры словцо «куркули», попавшее судье на глаза при беглом просмотре его дела.
Вдобавок, на фоне всего этого судье показалось несколько подозрительным личное ходатайство заместителя начальника по режиму.
Свыкшийся за годы отсидки с тем, что это он виноват в смерти мальчишки, залезшего в их сад, Сашка искренне, хотя и с присущим ему косноязычием вслух укорял себя в содеянном, но судью пышущий благополучием его румянец и вид, свидетельствующий об удобстве житья и полном во всем довольстве, наводили на мысль о циничном лицемерии, отчего произносимое Сашкой всё более и более раздражало ее, доводя до едва сдерживаемой неприязни.
Она опустила глаза, привычно умерив раздражение мыслью, что странно проявлять нервозность из-за того, что кто-то не наказан должным образом, когда как раз таки ты и никто иной уполномочена продолжить или не продолжать это наказание.
В кратком определении суда, зачитанном через несколько минут, Сашка уловил отрывками: ходатайство администрации колонии об условно-досрочном освобождении отклонить. С учетом тяжести преступления рекомендовать руководству колонии не представлять дело на повторное рассмотрение об условно-досрочном освобождении прежде отбытия осужденным двух третей определенного приговором срока.
Чапа всё понял по Сашкиному лицу с провалившимися бессмысленными глазами и, обычно такой говорливый, не нашел слов. А Сашка, как был в новой форме с отутюженными стрелками на брюках и рукавах, так и завалился на лежанку лицом к стене.
– Вот бы как раз бражка и пригодилась… – ни к кому не обращаясь, озвучил пришедшее на мысль Чапа.
Сашка отмахнулся, коротко шевельнув рукой. Ему надо было прийти в себя. Он утратил то, чем жил, и ему, как тонущему, ищущему, за что бы ухватиться, необходимо было найти что-то новое. А новое не находилось. Позволь ему суд, как это позволялось всем, осужденным за тяжкое, еще раз попытать счастья на половине срока, он бы, пожалуй, принял это новым ориентиром. Но до двух третьих было так далеко, что он не мог даже представить себе, сколько это следует прожить, ожидая, и сколько еще может случиться такого, что способно перечеркнуть все эти ожидания.
Он лежал, уставившись в кирпичную кладку, и вдруг поймал себя на том, что с ненавистью думает об отце. Впервые за столько лет в нем отчетливо прозвучал вопрос: «Как же, как же он мог?! И кем же надо быть, чтобы сунуть вместо себя, утопить в этой тоске сына?..»
Чапа, сообразив, что напарнику нужно побыть одному, проболтался где-то до команды на ужин, а когда Сашка буркнул, что не пойдет, не пошел и он.
– Знаю одну фигню, от которой балдеют не хуже, чем от водяры! – объявил он.
– Отстань!..
– И зуб даю, что никакое не нарушение! Вот повернись на спину, повернись!
Зная, что тот не отвяжется, Сашка повернулся. Внутри – и он подумал, что вот и обнаружил в себе душу – внутри была ломота, очень похожая на то, каким разбитым чувствовалось тело, когда у него, простудившегося, до сорока подпрыгивала температура.
Стылые, как у покойника, пальцы Чапы стали нащупывать что-то под мышцей рядом с горлом Сашки. Докопавшись до искомого правой рукой, Женька пустил на поиск левую, и шарил ею, углубляя большой палец, уже с противоположной стороны кадыка.
– Е-есть! – просипел он с азартом. – Теперь дыши! Глубоко, говорю, дыши! Так. А теперь набрал воздуха и затих!
Сашка послушно наполнил до отказа легкие и почувствовал, как ледяные пальцы, словно зажимы, перекрыли что-то в его шее.
Сознание невесомо отдалилось куда-то ввысь, а он, отнятый у сознания, стал погружаться, погружаться – и канул в ничто. Он не слышал, как воздух сам собой ушел из его наполненной груди. Он ничего не ощущал, его не существовало.
Но вот он возник. Крохотной точкой, пузырьком из газировки он весело стремился к поверхности. Еще не вынырнув, разглядел Чапу и радостно рассмеялся неведомо чему.
Всё уже видя и всё осознавая, он оставался не в себе – беспричинно хохотал и не мог остановиться. Не веселье, которое он бы узнал, а сама по себе способность к веселью, часть его существа, одна, приглушив всё остальное, бесконтрольно резвилась в нем.
Овладев, наконец, собой, он улыбался, но уже не беспричинно, а в ответ на праздничное настроение, прочно обосновавшееся в нем.
– Вот так и всегда, – сказал Чапа. – Одни ржут, как идиоты, а другие нюнят. И если кто ноет, то только ныть и будет. А кто регочет, сколько его ни усыпляй, будет реготать.
– А давай еще! – попросил Сашка.
– Ишь, разошелся! А я? Мне, может, тоже кайфануть охота!
Они поменялись местами, и Чапа обучал, как подушечкой большого пальца «надыбать» пульс, а потом попустить, чтобы не сбивал, не мешал другой руке расслышать вторую артерию.
– А дышать зачем? – интересовался Сашка.
– Лучше засыпается. И сигнал: как дух испустил – готов. И ты смотри: как я выдохну – сразу отпускай! Тут шутки в сторону! Чуток передержал – ку-ку, Маруся! Пойдешь рецидивистом по второй мокрухе!
Чапа нехорошо выдохнул. Вот именно по слову – испустил дух. И с заострившимся носом и отпавшей челюстью лежал несколько показавшихся Сашке долгими мгновений. Потом, всхрапнув, потянул в себя воздух, стал оживать. И не открыв еще глаз, скуксился, плаксиво перекосив лицо.
Он не плакал – ревел, жалобно глядя на Сашку и громко всхлипывая.
– Ну! Ну ты чего? – пробовал утешить Сашка, хотя и понимал, что этот плач, – в точности, как и испытанный им самим смех, – откуда-то из глубин природы каждого из них, и спрашивать о причинах неуместно.
Наплакавшись, Жека сделался угрюмым, глядел исподлобья.
– Меня? – вопросом попросил Сашка.
– А не сс.шь, что я возьму и не отпущу вовремя?
– И намотаешь себе второй срок?
– Э-э, я не такой придурок, как ты, я хрен сознаюсь! Следов – ноль, а с каких таких дел тебе вздумалось ласты склеить – не моя печаль!
Оробев при мысли, что и вправду безрассудно так доверяться в чужие руки, Сашка сказал:
– Трепло! Чтобы хорошего не подгадить – это будешь не ты!
Аркадий Яковлевич виновато пожимался, но смотрел прямо. А говорил как-то не очень убедительно:
– Не станем мы этому так уж следовать, на половине срока повторно пойдешь, что они, не люди совсем?
Сашка, как полагается воспитаннику, стоял на резиновом коврике метрах в трех от его стола.
– Аркадий Яковлевич, – сказал он, – я утром проснулся с вопросом в голове, и никак от него не избавлюсь. Если срок у людей не самый большой, хотя и приличный, они имеют право через шесть месяцев быть повторно представлены к условно-досрочному. А у кого подбирается к десятке – тем только по половине и двум третям. Почему так?
– Сам не знаю! – воскликнул Аркаша так, словно Сашка подслушал и его мысли. – Судьи чаще всего за тяжкие преступления не отпускают по одной третьей. Мол, недостаточно наказан. Но о повторном представлении для несовершеннолетних записано четко – через шесть месяцев. И никаких поправок на величину срока.
– Выходит, они это сами придумали, будто лично для меня – по двум третям и не раньше?
– Не знаю. В кодексе так, как я сказал, а практику имеем такую, какую имеем.
– А есть куда обратиться, чтобы разъяснили?
Аркадий Яковлевич пожевал изувеченными губами и, глядя сквозь столешницу своего стола, ответил:
– Есть-то оно есть… Но тут такая закавыка… Обратиться может только тот, чьи права предположительно нарушены. То есть ты можешь обратиться, а я – уже нет.
– Ну я, так и я.
– Ты! Сто раз подумаешь, если – ты! Спрос хоть, говорят, и не бьет в нос, но иногда… ТАМ, видишь ли, не очень-то любят, чтобы их загружали работой. Особенно – осужденные. И чем может обернуться твой спрос…
– А чем он может обернуться?
– Да мало ли. Самое простое – тебе давно исполнилось восемнадцать. И почему это ты задаешь им вопросы из колонии для несовершеннолетних, а не из взрослой зоны? Мы – да, мы как бы выговорили себе разрешение оставлять отдельных ребят – активистов и всё такое. Но это опять-таки практика, не закон. Давай так: ты подумай. Ночь с этим переспи, а то и дождись отца, посоветуйся. Надумаете – куда и как писать – всё подскажу. Тем более что если вдруг повернется удачно, не одному себе путь откроешь, всем.
– Не суй голову туда, где не уверен, что жо.. пролезет! – изрек Чапа.
– А представь, что скажут – можно. Это же и тебе станет можно.
– Мне?.. – с удивлением оживился Чапа. – А действительно! Нет, если мне, тогда пиши! Чего разлегся? Вставай, пиши, придурок!
Ночью, незряче уставившись в потолок, Сашка пытался последовать совету Аркадия Яковлевича и обнаружил, что для ОБДУМЫВАНИЯ у него нет исходных данных, что ему остается только УГАДАТЬ. И дожидаться отца – какой смысл? Гадать вдвоем? И мучиться, видя, как мучается, терзаясь виной перед Сашкой, он?
С этим он уснул, а проснулся с ясным пониманием, что не сможет жить, не написав.
С тех пор, как ушли отправленные от его имени Аркадием Яковлевичем бумаги, Сашку беспокоили разные переживания. То он ожидал, вздрагивая при каждом посещении теплицы посторонними, что вот потребуют с вещами – этапировать на взросляк. Потом робко мечталось об ответе благоприятном, и что скоро он опять пойдет на суд, который, конечно, вовсе не обязательно его отпустит, но все равно через каких-нибудь полгодика он снова сможет пойти, и уж тогда… Со временем мечталось всё смелее и всё безрассуднее. Его похвалят за прямоту и доверие к власти – ведь никто не отважился, а вот он… И вместе с похвалой пришлют постановление, отпускающее его на волю.
А после, как притупилась острота опасений, так обесцветились и фантазии о счастье. И всё чаще Сашке стало думаться, что ему попросту не ответят. Да и кто он такой, чтобы так уж непременно ему отвечать?..
И он почти успокоился, стараясь, как в начальные свои дни в колонии, занимать мысли, планируя, что сделает завтра.
Длинными вечерами он обучал Чапу игре на баяне. Как только у того проклюнулись первые успехи, Чапа загорелся, и сам то и дело вынимал инструмент из футляра. Сам Женька не раз порывался открыть напарнику шулерские ухватки с картами, почерпнутые у покойного отца. Сашка отказывался категорически, убеждая, что не имеет права быть застигнутым на нарушении режима, и однажды сжег колоду, за что был проклят приятелем, который клятвенно пообещал подсыпать ему за это отравы.
Впрочем, невдолге Женька смирился, заменив карты шахматами и шашками и требуя ставить на кон сахар. Неизменно выигрывая, менял сахар на курево, и в этой запретной радости находил утешение, позволяющее немного усмирить его гораздую на всевозможные пакости, непоседливую натуру.
Когда посыльный прибежал сообщить, что вызывает Аркадий Яковлевич, Сашка с загрубевшим от времени, словно бы нарастившим мозоли чувством подумал, что вот она и развязка. Готовый принять самое плохое, он с обреченным спокойствием неторопливо подбавил в рукомойник воды, умылся.
Дорогой ему представлялось покаянное лицо Аркаши, и он готовился говорить примиренное – о том, что сам принимал решение, самому, стало быть, и отдуваться.
Постучал невнятно и, заглянув, застал Аркашу в нетерпении шагающим туда-сюда по кабинету. Заметив Сашку, тот замер и от избытка чувств отчаянно всплеснулся. Потом, сверкая черными, счастливыми, очаровательно хитрющими глазами, протянул, как равному, Сашке руку. Сашка не сразу сообразил, как ответить, и уже соединившись в пожатии с искалеченной рукой Аркадия Яковлевича, всё еще робел – то ли делает?
– От всех ребят, которым ты открыл дорогу! – крепко стискивая, тряс его руку Аркаша. – От всех, сколько их есть и сколько еще будет! А тебе через двенадцать дней на суд! И вот теперь пусть они попробуют! Пусть только попробуют!..
Слова «…условно-досрочно освободить…», прочитанные скороговоркой, как это всегда делают судьи, прозвучали для Сашки, словно о ком-то постороннем.
Из желтоватого домика за зоной он вышел вольняшкой. Только бойкая на язык пацанва могла придумать такое точное название. Неделю – до поступления из суда официальной бумаги – ему оставаться ни в сих ни в тых. Еще не вольным, но вроде как и отбывшим свое.
Как, бывало, завидовал он вольняшкам, которых бесконвойно выводили за зону, поручая пустяшные хозработы, или оставляли, свободных от школы и производства, слоняться по зоне жилой! Ничто уже не в силах отнять их счастья, – думал он. И можно эти деньки заполнить для себя предвкушением радости. Хорошенечко проголодаться перед пиршеством, нагулять аппетит.
Так он думал, завидуя другим. Когда же сам оказался вольняшкой… Он не хотел есть и подолгу не засыпал ночами. И то и дело обнаруживал себя в каком-то из уголков двора, откуда была видна калитка в воротах, которую он гипнотизировал, заклиная: «Принесите, принесите!..» И замечал, что ему хочется стонать, а лучше бы – выть.
Напрасно, ох, как напрасно завидовал он вольняшкам! Ему, почти уже свободному, предстояло осилить самый тягучий и самый мучительный кусок времени из всего срока, отданного колонии.
И вот пришло это определение, занимавшее полоску, размером в пятую часть бумажного листа. И ему выдали другой бумажный лоскуток – обходной лист, с которым он побежал за подписями на склад, в ларек, в библиотеку…
Получив все нужные карлючки в соответствующих графках, он в смятении и с путаницей в мыслях оказался у той же калитки, которую заклинал в эти невыносимо тоскливые дни. И уже занес было руку к обрезиненной черной кнопке, когда сзади его настиг свист.
Изогнувшийся скобкой, заплетаясь ногами, к нему с упакованным в футляр четырехголосным пятирядным баяном в правой руке бежал худышка Чапа.
– Прости, – сказал Сашка, – не хотел травить тебе душу.
– Дур-рак! Сказано – придурок!
– А баян – это тебе. Аркаша разрешил наведываться, присматривать, как у тебя получится. Приеду – приволоку самоучитель, теперь уж освоишь.
Они помолчали, глядя один другому в глаза.
– Ну, живи! – сказал Сашка.
– Ты тоже – живи! – дрогнув голосом, ответил Чапа и поднял свободную от баяна худющую свою клешню, чтобы обняться.
Ночью Женьке стало жутковато одному в отнесенной на задворки теплице. Поворочавшись с боку на бок и видя, что сна ни в одном глазу, он встал, чтобы распаковать инструмент.
Поглядывая сбоку – видеть сверху у него не хватало роста – нашел нужные кнопки и с первым звуком чисто, как никогда не удавалось Сашке, запел:
Эх, ты, ноченька, ночка темная!..
Пел, зная, что это любимая Сашкина песня, но не догадываясь, что уже почти четыре года назад здесь же, на этом топчане, затягивал то же самое Сашка, и у него точно так же текли такие же горькие и такие же благодатные слезы.
Алина УЛЬЯНОВА. Мой маэстро
Рассказ
Старость. Она печальна и неизбежна. Приходит как незваная гостья, бесцеремонно врывается и поселяется на полных правах до конца дней. Нарушив покой, ведет себя грубо, по-хозяйски. Не соблюдая приличий, диктует новые правила. И ни прогнать, ни урезонить нахалку. Остается только бессильно наблюдать за ее бесчинством.
Всё начиналось так давно… Как романтичное болеро, уносящее в любовный водоворот.
Когда ты, с горящими страстными глазами, вошел в зал, то словно повелитель света подчинил своей власти его потоки. Будто тысячи новых лампочек зажглись на потолке, рассыпав повсюду мерцающие блики, как алмазы.
Ты сразу приковал к себе внимание, всколыхнув во мне тревожно-трепетную волну.
Меня окружали десятки соперниц: загадочные брюнетки, милые блондинки, томные шатенки, рыженькие озорницы, огненные фурии.
Они тоже ждали, как и я. Днями, месяцами, порой даже годами. Они тускнели, теряли свежесть, но не теряли главного – надежды. Пока они были здесь, среди толпы, их надежда не угасала.
Со статью короля ты прохаживался по комнате, с одними флиртуя, другим вежливо улыбаясь.
Вот. Ты остановился и протянул руку той, что показалась тебе достойнее прочих. Ты с желанием привлек ее к себе. Она в шутку возмутилась столь беспардонной манерой.
Ты разговорил легкомысленную кокетку. Она громко смеялась. И вдруг резко расхохоталась на весь зал.
Улыбка исчезла с твоего лица. Ты принял задумчивый вид. Веселушка утихла. Ты галантно проводил ее обратно, на прежнее место, утратив интерес.
Блестящую возможность она упустила. Здесь это часто случалось. Ей не везло не единожды. Как, впрочем, и многим. Редкому созданию удавалось покорить тут кого-либо с первого взгляда, с первого касания пальцев, с первой ноты певучего голоса.
Ты двигался дальше. Продолжая искать, пригласил пообщаться молодую красавицу. Среди нас она появилась недавно, и сегодня ей выпал шанс показать себя. Грациозная, приятная, сдержанная, с теплым тембром, спокойным и ровным. Она могла бы стать для кого-то верной спутницей. Но тебе не хватало искры. Ты жаждал большего и отказался от нее.
Как и от третьей незнакомки. Совсем иной. Эксцентричной, своенравной, порывистой. Она привлекала формой, необычным обликом, лоском, но командовала без конца. Тебе с ней было сложно справиться.
Ты хмурился, начинал раздражаться и, кажется, даже злиться, и выдергивал из рядов уже кого попало, без разбору. Но беседы не клеились и приносили лишь разочарование.
Одна так стремилась понравиться, что срывалась на крик там, где следовало бы помолчать. Другая тихо шептала что-то, стеснительно и невнятно.
Совсем потерянный, ты был близок к тому, чтобы удалиться не прощаясь. Твой взгляд отчаянно метался. И остановился на мне.
Ты колебался. Сомневался. Ожесточенно спорил сам с собой. Не соглашаясь с поражением, твой гордый дух победителя призывал тебя не отступать. Ведь ты привык завоевывать. Привык к любви, к обожанию. Привык купаться в восторгах широкой публики.
Я же, напротив, была скромна и в то же время умела удивлять. Нетерпеливо ты подхватил меня и сжал в нежных объятиях, с полным чувством всей накопившейся досады, с упрямой верой в удачу.
Мой маэстро! Такая глубокая натура. В ее сложных аккордах переливались и сменяли друг друга неповторимые обертона. Я улавливала их безошибочно и точно, и звучала с тобой в унисон. Мы сочетались превосходно. Абсолютная гармония двоих. Совершенный консонанс!
На зависть всем ты забирал меня с собой. И с той поры мы были вместе. Неразлучны. Кружились в вихре событий, в ритме безудержной булерии.
С тобой я раскрывалась со всех сторон, по-особенному хорошела, приобретая неповторимый шарм, а ты влюблялся в меня сильнее и сильнее. Мы представляли собой идеальный дуэт. С восторгом и радостью нас встречали везде: на площадях городов, в больших и малых залах, на огромных аренах и в уютных кафе. Отдаваясь тебе без остатка, подчиняясь тебе безусловно, я стала частью подлинной магии.
Но мажорное аллегро прервалось.
Старость. Она печальна и неизбежна. Приходит как незваная гостья, бесцеремонно врывается и поселяется на полных правах до конца дней.
Ты обнимал меня, как и прежде, но я ослабевала. Мой голос, живой и глубокий когда-то, всё чаще поскрипывал. Бывало, и дребезжал. Вскоре он совсем осип.
Лечение не помогло. И я всё поняла. Мы оба всё поняли.
Долгое время ты был подавлен. Бродил мрачный, молчаливый. Не в силах мучиться, однажды надолго покинул меня. А потом вернулся. С другой…
Легко ли предавать? Предавать прошлое, настоящее. Ради будущего, дверь в которое для кого-то захлопнулась навсегда.
Легко ли забывать? Убирать в плотный чехол воспоминания о чистой любви. О безграничной преданности.
Тяжкий выбор.
Ты размышлял долго. Не показываясь мне, уединялся с новой избранницей. Дни напролет я проводила в забвении, в неведении.
Но я знала тебя. Всё то, что откликалось звонким эхом в душе, тебе было дорого. И я тоже. С нашей первой встречи. И поныне.
Наконец, решив мою судьбу, ты сделал меня символом великого триумфа. Среди бесчисленных высоких наград твоего непревзойденного таланта центральное место на стене славы заняла я.
Со мной ты писал историю музыки. Со мной ты творил шедевры мелодий. Кумир поколений, неподражаемый виртуоз, маэстро шестиструнной гитары.
Мой маэстро.
Юлия БОЧАРОВА. Бобров
Рассказ
Бобров – это небольшой городок в Воронежской области, на берегу реки Битюг. Раньше, во времена нашего детства, он был поселком городского типа. А для нас, московских детей, он казался и вовсе сельской местностью – с пыльными дорогами, песком на речном пляже и одно- и двухэтажными деревянными домиками на окраине. Мы с братом Лешей приезжали сюда к бабушке Свете на всё лето, но только один раз в жизни.
Больше тридцати лет прошло – и я не знала, вспомню ли здешние места, многое ли изменилось.
– О! Станция Лиски. Помнишь? – брат прильнул к окну поезда, как делал это в детстве.
– Ага. Наша следующая. Да оставь, зачем ты сейчас надеваешь?
Леша встал и взвалил на плечи рюкзак, в который собрал одежду на разную погоду (несколько метеосайтов давали слишком уж разные прогнозы: одни обещали жару «плюс тридцать пять», другие предвещали грозу и похолодание) и московские подарки для бабы Светы. Мы намеревались провести в Боброве несколько дней. Я могла и задержаться подольше, если потребуется, а брату не дали отпуск на работе – и он фактически «сбежал», прибавив к выходным еще пятницу и понедельник.
Мы вышли на перрон и оглянулись. Конечно, здесь кое-что изменилось: плакаты с рекламой, другой цвет здания вокзала, – но в целом всё было похоже на то, что я помнила. А может, я просто придумывала на ходу, подставляя свежие впечатления в обрывочные воспоминания о детстве.
Я взяла брата за руку.
– Ты чего, систер? – сказал он.
– Не знаю, – улыбнулась я.
Наверное, это тоже был «привет» из далекого детства. Баба Света учила нас быть осторожными в этом месте, особенно при переходе железнодорожных путей, и я, старшая сестра, всегда брала Лешку за руку, чтобы не убегал.
Он младше меня на два года и в детстве за ним уследить было очень сложно. Теперь-то Леха был выше меня и носил модную короткую бороду, которую ему оформили в одном из барбершопов. Правда, с шортами и розовыми кроссовками это смотрелось, на мой взгляд, смешно и нелепо – но что уж тут. Человек работал начальником IT-отдела в крупной столичной компании, всё время носил костюмы и галстук – и мог себе позволить расслабиться хотя бы при выезде на малую историческую родину.
Мы пошли от станции по железнодорожному полотну в сторону дома бабы Светы, по направлению к садам и реке. Отмахать надо было больше двух километров. Не успели отойти от станции, как пришлось спускаться на насыпь – и во мне пробудилось какое-то давно забытое чувство. А Леха – вот балбес! – положил на рельсы перед приближающимся поездом две монетки. Мы в детские годы любили так делать, чтобы в результате получались остро заточенные «лепешки», – или «медальки», или «лезвия», в зависимости от того, во что мы собирались играть.
Поезд загудел на нас, почти оглушил, и я закрыла уши руками. От шпал пахло дегтем: солнце сильно их нагрело. Товарняк шел долго – в нем было, наверное, не меньше восьмидесяти вагонов. Сначала я считала их, а потом, где-то на середине состава, одна монетка отскочила из-под железных колес в нашу сторону, – мелькнув в воздухе, как дротик, – и исчезла где-то в сухих зарослях цикория. Это показалось мне плохим знаком. Но Леха не привык унывать, он всегда всё воспринимал оптимистически:
– Ну и че, наоборот, круто. Значит, скоро опять вернемся.
– Почему?
– Ну как, монетку, считай, бросили. Не совсем мы, но это же наша монетка. Мы с тобой знаешь почему тридцать лет здесь не были?
– Монетку забыли кинуть?
– Соображаешь. Не зря студентов у себя там учишь.
Я работала на кафедре экономики в одном из московских вузов, вела спецкурс по статистике.
Леха ткнул меня локтем, призывая разделить его точку зрения. Я отмахнулась.
– Пошли уже, – сказала я, отряхивая джинсы после сидения на пыльной насыпи. – Нас ждут, а мы сидим тут как дураки.
Словно почувствовав этот разговор, мне позвонил отец.
– Ага, идем, – сказала я ему. – Что?
Отец что-то говорил, но мимо двинулся еще один поезд, теперь в другую сторону, и стало ничего не слышно. Надо было опять спускаться по насыпи.
– Скоро будем! – сказала я в трубку и завершила звонок.
Телефон разрядился.
Пройдя по шпалам больше двух километров (надо же, в детстве это расстояние не казалось мне таким длинным и изматывающим), мы стали спускаться с «железки» по склону к старенькому дому бабы Светы. Пошли яблоневые сады и огороды.
Последний (и первый) раз мы были здесь, когда еще не ходили в школу. Мне было пять лет, Лешке – три. В то лето детский сад отказался нас брать в общую летнюю группу после того, как мы с братом дружно переболели ветрянкой. А в душной московской квартире мама не хотела нас оставлять на лето, – тем более на целый день, без присмотра: мама работала, отец – тоже. Поэтому было принято решение отправить нас к бабушке на все каникулы. Мы не знали, что мама с отцом в то лето разводились, и ей очень не хотелось надолго оставлять детей в «стане врага».
В то лето мы с Лешкой с первого же дня каникул радовались жизни: гуляли, играли, пили парное молоко, наливая его из трехлитровой банки в огромные чашки с отбитыми краешками и позолотой на пузатых боках, – бабушка специально для нас брала молоко у соседки утром и вечером. Утреннее было вкуснее. Если поставить такую банку в холодильник, то через несколько часов сверху на молоке образовывался пятисантиметровый слой жирных-прежирных сливок. Это было, наверное, самое вкусное из всего, что я ела в жизни.
– А помнишь, какое тут молоко было? – сказала я.
– Угу, – пропыхтел Лешка.
Лямки рюкзака натерли ему шею с обеих сторон и он оттопыривал эти лямки пальцами, чтобы лишний раз не ерзали по коже. А сам виноват! Можно было надеть в дорогу что-то более удобное, чем открытую «борцовку». Слушаться надо старших, – подумала я с некоторой долей ехидцы. Но вслух брату ничего не сказала. Зачем сыпать соль на раны? Он и так уже пострадал.
Мы перешагнули через поваленную и поржавевшую сетку-рабицу. Неясно, для чего ее здесь ставили – видимых следов грядок не было.
Я подняла с земли упавшее яблоко – был еще не сезон, но оно почему-то поспешило расстаться со своим деревом. Вытерла яблоко об одежду, как в детстве, и откусила. Яблоко было зеленое и кислющее до невозможности! Я скривилась, но выплевывать кислятину и признавать поражение было нельзя: на меня смотрел брат.
– Что?
– Ничего. Вкусно, между прочим, – соврала я, но остаток яблока постаралась не проглатывать подольше.
– Вот до чего людей жадность доводит, – сказал брат и усмехнулся.
Вкус яблока напомнил мне о том, как мы с Лешкой в детстве гуляли допоздна и пробирались здесь, садами, чтобы не встречаться с «неприятелями» – ребятами, которые жили выше по улице. Потом мы с ними подружились и заключили мир – даже, кажется, братались на крови, порезав правые ладони и крепко пожав друг другу руки. Никто из нас тогда не думал о гигиене или возможных заражениях. То есть я, как уже почти взрослая пятилетняя москвичка, считала, что это не очень правильно (в детском саду нас учили мыть руки с мылом до локтя, три раза), но против коллектива благоразумно не шла.
Потом мы вместе с этими ребятами бродили по пыльной белой дороге и орали песни Пугачевой – никто нам в осуждение и слова не говорил. Дорога в те времена была то ли грунтовой с камнями, то ли асфальтовой, но сильно растрескавшейся – во всяком случае, на ней всегда были пыль и песок и в летнюю жару здесь становилось очень душно. Бабушка Света, чтобы занять нас чем-то, однажды предложила поливать дорогу водой из ковшиков, как будто мы – городские поливальные машины. Это была поистине гениальная идея: и дети заняты (сбегаешь к колонке, наберешь воду, выплеснешь – и снова пора назад), и зной для прохожих становился немного более терпимым (чахлые деревца по краям улицы давали мало тени).
Мы с братом еще кое-что тогда придумали: подлавливать белую кошку и стараться сделать так, чтобы она перешла нам дорогу, – это была «примета наоборот», мы сами ее изобрели. Мол, черная кошка – к беде, а белая – к счастью. Наши новые друзья обрадовались, когда мы им это рассказали, и стали тоже так делать. А потом, в результате коллективного творчества, мы усовершенствовали новую примету: если загадать желание и белая кошка перейдет дорогу, то оно обязательно сбудется.
Баба Света, возвращаясь со смены, спасала от нас бедную кошку и говорила, что надо самим исполнять свои желания, а не надеяться на животных, какими бы белыми и пушистыми они ни были.
Бабушка работала поваром в столовой, которая стояла неподалеку от дома. Часто брала нас с собой, но разрешала отлучаться, чтобы мы поиграли с друзьями. Я потом часто вспоминала эту столовую – перед глазами вставали огромные алюминиевые кастрюли и туши мяса, свисавшие с потолка. А запах комбижира и жар от плиты никогда не могла забыть.
Мы с братом шли огородами, как, бывало, нас водил отец больше тридцати лет назад. Он говорил, что так получается сюрприз: ведь гостей-то бабушка ждет со стороны улицы, ведущей к железнодорожной станции.
Баба Света и сейчас ждала нас. Но из дома не выходила: у нее давно уже болели ноги, с Нового года она не вставала. С ней вместе жил младший сын, наш отец.
Бабушкин муж, дед Коля, умер, когда мы были еще совсем маленькими; мы его знали только по фотографиям и по коробочке с медалями. Баба Света считала его ангелом, лучшим из людей. И наш отец сильно убивался, когда деда Коли не стало. А баба Света папу утешала: мол, деду там лучше, боженька его пожалел и забрал. Дед Коля был на войне и горел в танке, а когда вернулся, его не узнали родные: пол-лица обожжено, сам как будто тронулся умом. Иногда он вскакивал по ночам и в панике бегал по дому. Невеста от него отказалась: хоть тогда было и туго с мужчинами, но тянуть инвалида ей не хотелось. А баба Света пожалела, взяла его к себе и выхаживала. Потом они поженились и нажили троих детей, в том числе и нашего с Лешкой отца.
После смерти мужа баба Света не показывала, что горюет.
– Это мы с вами здесь стареем, – повторяла она, – а им на небесах вечная радость.
Когда наши с Лешкой родители развелись, мы больше не ездили к бабушке, хотя отец и предлагал. Не хотели расстраивать маму: ей было неприятно, когда нам нравилось что-то папино. Она старалась этого открыто не показывать, но я-то видела. По бабушке Свете мы скучали: я больше, Лешка – меньше, потому что он не очень хорошо ее помнил. Но потом началась школа, сначала у меня, потом у брата, и у нас обоих появились новые друзья и дела. Человеческая память пластична. Если перестать «надавливать» на какое-то место, «ямка» от него выправляется – и через какое-то время не остается и следа от того, что казалось важным. Во всяком случае, в детстве всё забывается гораздо проще.
– Слушай, систер, мы идиоты! – воскликнул Лешка и замер на месте.
– Ну, я бы не обобщала, – отозвалась я.
Он не обратил внимания на подкол.
– Мы с тобой от «железки» идем, а ведь вообще не факт, что там калитка осталась. А если забор? Придется обходить через всю…
– А зачем обходить? Можно и перелезть.
– Ага, ты прям полезешь в своих «москинах».
Он намекал на то, что у меня слишком дорогие джинсы и я побоюсь их порвать.
– Я-то полезу. А ты сам не хочешь лезть, потому что отрастил себе пузо на осетинских пирогах – и застрянешь.
– Ой, ой, – сказал брат, но о моей фигуре высказаться в ответ не рискнул, потому что это грозило всамделишной ссорой. Всамделишной… Я улыбнулась, поймав себя на этом слове: оно было тоже из далеких восьмидесятых.
Проблема с калиткой решилась сама собой. Изгородь на границе бабушкиного огорода покосилась и во многих местах упала, так что ее и забором-то нельзя было назвать. Кое-где она даже вросла в землю. Через полусгнившие доски шмыгнула, увидев нас, чужая собака. Она добежала до своей изгороди, остановилась и тогда уже залаяла, издалека. Собаки здесь всегда были мелкие и трусливые.
На бабушкином огороде ходили цыплята соседки и клевали что находили. Свежих посадок не было видно: баба Света ведь давно болела. Остались только многолетники и кусты красной и черной смородины. Ягоды уже осыпались: мы опоздали к сезону. Правда, кое-где на концах засохших гроздей еще висели одиночные мелкие ягодки. Я съела одну.
– Да че ты всё в рот тянешь, немытое? – сказал брат брезгливо.
– А помнишь, как баба Света велела нам ее собирать в бидоны, а мы ее с куста ели? Тебе всё ветки кололись, и вообще ты был нытик…
– Да ладно уж прям!
– …и до верхних веток не доставал…
– Могла бы и помочь, старшая сестра, называется.
– А я и помогала. Неужели не помнишь?! Собирала ягоды в ладошку и в твою тару высыпала, как будто ты это сам набрал.
– Да помню, канеш, – соврал Лешка, чтобы не расстраивать меня. Он всё забыл, но видел, что мне это дорого.
Впереди показался дом.
– Леш, а почему мы раньше сюда не приезжали? – сказала я.
– Не знаю. Может, боялись.
– Чего?
– Или неловко было… Сама-то как думаешь?
– Могли бы маме ничего не говорить, если боялись из-за нее. Да и вряд ли она сейчас из-за этого стала бы расстраиваться. Баба Света – старый человек все-таки. Совсем уже.
– Может, у нас совести нет?
Верить в это мне не хотелось. Но и не верить было нельзя: мы тут давно не были. Нас, правда, немножко извиняло то, что у бабы Светы было трое взрослых детей и другие внуки, а с отцом мы почти не поддерживали связь после той некрасивой истории (его измены нашей маме, скандалов и дележа имущества).
Чем ближе мы подходили к дому, тем больше бросалось в глаза запустение в его дворе. Вот здесь раньше стояла бочка, а тут в сарае хранилась стекловата. Она и сейчас вываливается кусками из-за неплотно закрытой двери, подпертой длинной палкой. А здесь росли оранжевые лилии. Если их понюхать, то нос становился желтым и его сложно было отмыть от пыльцы. Здесь росла клубника, а тут были теплицы. Наш с Лешкой «маленький домик» разобрали – видимо, нужны были доски. А может, баба Света не хотела травить себе душу – вспоминать каждый день, как мы здесь играли.
От соседей потянуло жареным на огне мясом. За высоким забором громко звучала песня Димы Билана и слышался пьяный смех – видимо, туда нагрянули городские родственники и затеяли шашлыки.
– Мда… – выдохнула я.
– Ну и ладно, – сказал неунывающий деловой Леша. – Хорошо, что у нас еще есть шанс исправиться. Мы сейчас бабе Свете накупим лекарств, увезем ее к себе в Москву и обследуем как надо.
– Думаешь, отец ей не организовал обследование?
– Я не знаю, не спрашивал. Ну по-любому что-то же надо сделать. Коляску ей закажем, чтобы ездила. С мотором, сейчас отличные делают для инвалидов. Я даже прямо сейчас погуглю…
Он достал телефон и, поймав сеть, стал что-то набирать в поисковике.
– Можно даже сиделку не нанимать, сами справимся по очереди. А, систер?
Мы зашли в дом, поднялись по лестнице наверх. В первой комнатке, темной и узкой, – что-то вроде прихожей или сеней, какие делают в деревенских домах, – пахло, как в детстве: старыми тканями, подсыревшими бумажными обоями, газом от плиты, картошкой из деревянного ящика и чем-то еще. Чем-то неуловимым, название которого я не могла вспомнить.
Нас встретил отец, выйдя из комнаты.
– Умерла только что, – сказал он.
Мы с Лешей переглянулись, не зная, что сказать. Отец обнял нас обоих и заплакал. Я первый раз в жизни видела, что он плачет, как маленький.
Юрий МАЗКОВОЙ. Из Австралии с любовью
Миниатюры
Планы
Абсолютно все вокруг пытаются заставить нас жить по плану.
– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– А когда ты планируешь поступить в аспирантуру?
– А как ты собираешься обеспечивать семью?
– А у тебя есть генеральная цель?
Не знаю, как у вас, а у меня ни один долгосрочный план не воплотился в жизнь. Хотя планировать я начал рано, причем предельно конкретно. Когда в пять лет папин приятель задал мне тот самый вопрос «А кем ты хочешь стать?», я без колебаний ответил:
– Генерал-лейтенантом!
Мне показалось, что он обиделся. И это понятно: ведь он был генерал-майором. Если бы я ответил, что хочу стать генералом, то дал бы ему возможность гордо спросить: «Как я?». А так я вроде как посчитал его недостаточно успешным.
Кстати, я сейчас старший лейтенант запаса. Так что мой первый жизненный план не стал реальностью.
А потом пошло-поехало. Годам к восьми мне сообщили, что у меня есть аналитические способности. С чего они это взяли, трудно сказать. Впрочем, в этом возрасте я уже уверенно мог сказать, что если хлопнула дверь и в квартиру никто не вошел, то это значит, что из квартиры кто-то вышел. Ну, если с этого начинают все аналитики, тогда ладно.
Затем, под неусыпным влиянием родителей, мои карьерные планы стали выглядеть так: кандидатская – к двадцати семи, докторская – к тридцати пяти, член-корр – к сорока пяти.
Дальше я не заглядывал, ведь даже программа партии планировала всё лет на тридцать максимум.
К концу школы мои карьерные планы изменились принципиально, ибо у родителей появился блат в МГИМО. Сначала, правда, я уперся: мне нравилось видеть себя в будущем не дипломатом, а молодым профессором, окруженным молодыми аспирантками. Логика у меня была железная: неженатых дипломатов в природе не бывает, а жениться до тридцати лет – глупость.
Но родители победили, и мои планы были переписаны. А потом опять переписаны – сразу после того, как я завалил вступительные в МГИМО. Ну, не то чтобы завалил, а просто получил одну четверку вместо пятерки. Для беспартийного абитуриента после школы этого было достаточно, чтобы не пройти по конкурсу. И планы были переписаны (в пользу ученой степени) ровно за один час восемь минут. Столько времени заняла у меня тогда дорога от МГИМО до дома.
План не жениться до тридцати рухнул как подкошенный: к тридцати у меня было двое сыновей, причем старший уже ходил в школу. Правда, кандидатскую я все-таки защитил – и даже всего лишь с годичным отставанием от плана. Но зато о защите докторской у меня даже мысли не возникло – на дворе в то время гремела Перестройка и профессорская зарплата выглядела смешной. Особенно по сравнению с заработками в бизнесе. Ну, а относительно молодых аспиранток… К тому времени я уже понял, что женщин искать не надо. Надо искать деньги. Если вам удастся найти деньги, то женщины найдут вас сами.
Итак, гремела Перестройка, и планы опять были переписаны. Теперь моей целью – моей и моих коллег – стало приобретение глобальной известности и открытие филиалов фирмы во всех крупных городах союза нерушимого. Наша фирма занималась тренировкой памяти, скорочтением, аутотренингом, гипнозом и прочей чертовщинкой. И ведь планы начали осуществляться! Мы открыли несколько филиалов, стали мелькать на телевидении и в газетах. У нас уже работало более сотни преподавателей…
Вы, конечно, догадались, чем это кончилось. Союз оказался совсем не нерушимым, а свободы приняли какой-то угрожающий вид. Когда из той самой школы, куда ходил мой сын, похитили ребенка с целью выкупа, а спустя несколько дней мы с женой услышали автоматную стрельбу во дворе, я понял, что планы опять надо переписывать.
Новый план был рассчитан всего на двенадцать месяцев и был краток: надо уезжать! Вопрос, куда уезжать, не вставал; ответ на него мы знали. Дело в том, что у моего близкого друга Андрея висела в сортире политическая карта мира. Не знаю, что она там делала – может, это протест такой был своеобразный. Семья исповедовала диссидентские взгляды, хотя папа Андрея получал иногда государственные премии за известнейшие кинофильмы. Но суть не в этом, а в том, что я частенько заходил к Андрею после школы, да и в выходные тоже, и эту политическую карту лицезрел регулярно. И вот когда я устраивался поудобней, то континент Австралия был точно на уровне моих глаз. Я чуть не каждый день глядел на этот континент! Сами посудите, могли ли в моей голове нарисоваться, после принятого решения уехать, очертания какой-то другой страны.
Туда мы и уехали в итоге. И этот план был одним из немногих, который осуществился. Может, потому, что он был краткосрочный? Если бы план был рассчитан на пять лет, черта с два мы бы уехали.
С тех пор я долгосрочных планов не строил. Даже на работе, хотя там заставляли. На своем веку потрудился в нескольких фирмах и не один раз наблюдал, как в кресло босса садился новый управляющий. Абсолютно каждый новый шеф начинал с разработки новой стратегии! Причем, что любопытно, каждый из них всегда делал две вещи: а) менял структуру подчинения и б) менял телефонную компанию. А некоторые еще и офис меняли – как правило, перетаскивая фирму поближе к своему дому. Но с появлением нового шефа прежние стратегии всегда шли прямиком в мусорную корзину.
В конце концов это меня так достало, что я уволился. Работаю теперь на себя и планов больше чем на три недели не строю. И прекрасно себя чувствую!
Кстати, даже планы, рассчитанные на один день, не всегда сбываются. Бывает, только сядешь работать по плану, как звонит мама:
– Ты знаешь, мне надо срочно съездить в банк....
И мы едем. И никто пока не смог меня научить, как бы это объяснить маме, что у меня другие планы.
В общем, Бог с ними, с планами.
Когда меняются взгляды
В начале девяностых не было интернета, вотсапа и вайбера.
Звонок Сидней–Москва стоил $2.50 за минуту.
Она вошла в комнату. Он посмотрел на нее, и у него похолодело внутри. Он понял: разговор будет неприятным, может быть самым неприятным за четырнадцать лет их супружества.
Она опустилась в драненькое кресло, которое выкинул кто-то из соседей во время «помоечного дня», когда разрешается выбрасывать крупногабаритные вещи прямо на улицу.
– Нам надо поговорить, – ее голос был тих.
Так и есть! Уж лучше бы кричала! А ведь еще одиннадцать месяцев назад всё было прекрасно…
Он вспомнил эйфорию последних недель в Москве, когда он получил подтверждение профессиональной квалификации прямо во время интервью в посольстве Австралии и когда им обоим сразу вклеили визу «постоянного резидента» в их новенькие паспорта. Тогда она всем говорила: «У меня самый гениальный муж!»
Значит, виной всему – «короткая полоса неудач»? Да! Да! Короткая! Одиннадцать месяцев – это ничто по сравнению с жизнью!
Но за эти месяцы ее мнение сильно изменилось. Впрочем, и его самооценка поколебалась – ведь прямо сейчас на столе перед ним лежал сто третий отказ в приеме на работу: «…мы потрясены вашими высокими квалификациями и опытом, но с сожалением сообщаем…»
Правда, первые месяцы в Австралии были счастливыми. Ясное дело, почти все деньги, что были накоплены в Советском Союзе, ушли на билеты и на минимальное начальное обустройство. Ведь в двух чемоданах много не привезешь, а баул проницательный таможенник не пропустил: «Либо вы его оставляете, либо опаздываете на самолет». На самолет опаздывать им не хотелось. Но зато в первые месяцы у них обоих было в достатке уверенности и оптимизма. Особенно у него. Она обычно говорила про него, что он прет, как танк.
И вот танк забуксовал. Их новые знакомцы, перелетевшие вместе с ними через океан, стали устраиваться на работу и, как следствие, ходить в театры, уезжать в отпуск и на выходные, а они просто не могли себе этого позволить. Постепенно они отдалились от всех. Их продолжали приглашать, но он просто физически ощущал на себе клеймо неудачника. Как-то одна из ее подруг прямо при нем спросила ее: «Ну что, твой устроился, или всё еще валяет дурака?» Он тогда ушел, чтобы не услышать ее ответа.
Они стали меньше разговаривать друг с другом. Ему казалось, что на ее лице поселился постоянный упрек. Как-то он предложил ей позвать друзей на ужин. «Они не будут есть то, что едим мы», – сказала она, и он начал орать в ответ. А однажды она сказала, что младшенький стал ночью просыпаться и она устала к нему вставать, так что будет проще, если она будет спать с сыном. Он согласился – и стал спать на кухне.
И вот теперь они, кажется, подошли к черте.
– Нам надо поговорить, – ее голос был тих.
– Ну давай. Только ради Бога, сразу к сути.
– Мне не хватает денег.
Он моментально психанул:
– Ну надо же, как ты заговорила! Не хватает денег! Что-то не вяжется с предыдущими твоими высказываниями. Всю жизнь ты мне зудела: «Мне не нужны твои деньги, мне нужен ты». Так вот он я! Всё время дома, как ты и хотела все тринадцать предыдущих лет. Отвожу ребенка в садик, хожу в магазин, готовлю иногда. Чего тебе еще?
– Я считаю, что молодой здоровый мужик должен приносить хоть что-то в дом. Я учусь на двух курсах и, тем не менее, подрабатываю домработницей, хотя у меня такая же ученая степень, как и у тебя. Почему ты отказался работать на стройке?
– Разнорабочим? Ты с ума сошла? Если я напишу в резюме, что я работаю подсобником на стройке, меня никогда в жизни не возьмут ни в университет, ни инженером.
– Получив сто отказов, ты уже должен был понять, что тебя и так не возьмут ни в университет, ни инженером. Тебе же правильно сказал Марк: «Забудь, что ты инженер».
– Если он забыл, что он инженер, и смирился с тем, что развозит пиццу – значит, он не инженер, а дерьмо! А я хороший инженер и не собираюсь об этом забывать.
– Постарайся также не забывать, что у тебя есть дети и им стыдно, что они до сих пор не были ни в аквариуме, ни в зоопарке, ни в луна-парке – нигде! Они комплексуют и чувствуют себя изгоями. И я не могу позволить себе позвонить маме. А наш кормилец штаны просиживает и не согласился даже подработать в школе – детей через дорогу переводить.
– За пятерку в час? Два часа утром и два часа днем? Как раз в то время, когда назначаются все интервью? Послушай, мне платят пособие, которое называется «ПОСОБИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ». Понимаешь? ИЩЕТ РАБОТУ! А не стоит у перехода со знаком «Стоп».
– Так, как сейчас, долго продолжаться не может.
– Иначе что? Найдешь себе лучший вариант? Так ищи, черт с тобой!
Он выбежал на улицу. Внутри у него всё кипело. Он устремился к морю. Там штормило.
Он разулся и стал ходить по щиколотку в воде.
Да, конечно… Для австралов доктор наук из Москвы – это как для МГУ профессор с Чукотки. Сравнение ему понравилось, он улыбнулся. Раздражение постепенно уходило.
Может быть, действительно приспустить планку? Нет, не пиццу развозить, положим, но убрать упоминание о докторской из резюме и подавать на «младшие технические позиции». А потом постепенно лезть наверх… Это, конечно, будет длиться долго, но что поделать, если другого не дано?
Может, я зря выбросил то объявление, где требовался техник по ультразвуку?
Он заспешил обратно к дому. Ну ничего, от техника до инженера – один шаг, а потом, глядишь, пробьюсь и в начальники. Буду потом говорить, что начал с самых низов…
Стоп! Меня же еще не взяли никаким техником. А если не возьмут?
Внутри у него опять похолодело. Ведь бросит же!
Ну и правильно сделает, если бросит. Если я и на это не сгожусь – значит, буду разнорабочим. Или повешусь.
Решено. Даю себе шесть месяцев на устройство техником или лаборантом, а там посмотрим.
Он подошел к дому и стал рыться в мусорном баке в поисках газеты с объявлениями о работе.
Настоящая жизнь
Один приятель как-то сказал Шилову, что настоящая жизнь начинается, когда последний из детей покинет отчий дом. Шилов с нетерпением ждал этого момента. Ему хотелось настоящей жизни. Однако когда младший сын вылетел из гнезда, выяснилось, что приятель был не совсем прав. Во-первых, слоняться по большому пустому дому было тоскливо, а во-вторых, оказалось, что дети не только били баклуши и опустошали холодильник. Они еще и помогали по хозяйству. Потратив пару выходных на пылесосение, мытье полов, полив газона и подметание дороги к дому, Шилов согласился с женой, что надо переехать в меньший дом.
Свой дом было решено сдать в аренду, ибо газеты кричали, что цены на жилье в Сиднее растут не по дням, а по часам. «Ну, ничего, – думал Шилов, – агентство по аренде недвижимости будет решать все вопросы, а мы будем получать деньги и наслаждаться настоящей жизнью».
Но отношения с агентством как-то сразу не сложились. Во-первых, агентша заявила, что надо поменять жалюзи во всем доме. Это, мол, самое главное, на что смотрят потенциальные жильцы. Шилов не разделял этого мнения, но спорить с профи не стал.
Мастер по имени Мэт, присланный агентством, внешне был очень похож на агентшу. Ну прямо, как сын. Шилов не любил коррупцию, но Мэт дал отличную цену, и Шилов успокоился: «Ну и что, что сын? Главное, чтобы хорошо и недорого». Но вскоре оказалось, что Шилов и Мэт по-разному представляли себе объем и порядок работ. Грубо говоря, Шилов считал, что если мастер взялся заменить старый телевизор «Сони», то он должен либо принести в дом новый «Сони», либо согласовать модель с хозяином, а не сразу затаскивать новый «Рубин». То есть шило, по мнению Шилова, надо было менять на шило, а не на мыло. И когда Мэт стал менять старые, но плотные, обтянутые шелком жалюзи на какие-то тряпки, Шилов психанул и потребовал адекватной замены. Мэт запросил за это вдвое больше денег, за что был спущен с лестницы. Тряпичные жалюзи полетели ему вслед.
Между прочим, в течение последующих четырех лет ни один жилец даже не заикнулся о жалюзи, хотя на одном окне их не было вообще.
Очень быстро Шилов понял, что единственной целью агентства является ободрать домовладельца как липку. Если, скажем, не горел свет в коридоре, то смета, предлагаемая агентством, включала как минимум замену всех светильников и электропроводки во всем доме. Апофеозом было предложение заменить механизм и мотор для поднятия гаражной двери за $2000. Агентство даже прислало документ от предполагаемого подрядчика, который нагло писал, что отремонтировать систему невозможно. В итоге Шилов отремонтировал все сам за $3.50, заменив батарейку в пульте дистанционного управления.
Смена агентства проблему не решила. Явного надувательства здесь, правда, уже не было, но все равно все счета от электриков, водопроводчиков и прочих выглядели так, как будто те приезжали с Марса. А Шилов должен был оплачивать проезд.
С жильцами тоже проблем хватало. За все время сдачи в аренду дом ни разу не был снят семьей. В основном арендаторами были китайские студенты, учившиеся в близлежащем университете. Договор подписывался с группой из пяти студентов, но первая же инспекция выявляла, что в доме живет человек десять минимум. И то если считать, что на каждой кровати спят по одному человеку. А спали они явно по двое-трое, причем спали, судя по всему, активно: основным ущербом, нанесенным дому, был поврежденный пол под ножками кроватей.
Взгляд на гигиену у этих арендаторов был тоже довольно странный: почти госпитальная чистота внутри каждой комнаты и слой грязи в два-три сантиметра в коридорах и прочих местах общего пользования. Увидев всё это, Шилов впервые в жизни вспомнил добрым словом БронЮ, комендантшу советской общаги, где он провел свои студенческие годы.
Особенно Шилова доставало, что при первой же возможности жильцы пытались снизить плату. Однажды он пришел починить капающий кран (Шилов теперь старался чинить все, что мог, лично). Увидев хозяина, Хуанг Хунаг (которого Шилов про себя называл короче, но с той же буквы) тут же заявил, что капает уже три дня, и потребовал снижения ренты, ссылаясь на нищее студенческое житье (он, вероятно, забыл, что прежде чем подписать договор аренды, сотрудники агентства не только убедились, что у каждого из потенциальных жильцов на счету лежало $30-40 тысяч, но и собственными глазами увидели стоявшие в гараже БМВ и Ауди, принадлежавшие студентам).
Шилов взял стакан, поставил его под капающий кран и пошел делать осмотр помещения, чтобы время не пропадало. Через десять минут он вернулся в ванную и, с согласия Хуанга, измерил, сколько воды накапало в стакан за время отсутствия. Путем несложных вычислений Шилов определил, сколько натекло за те самые три дня: около доллара. Он протянул доллар Хуангу, но тот почему-то деньги не взял.
И еще Шилов никак не мог врубиться, почему в его доме всё стало ломаться уже на вторую неделю после заезда жильцов, а не в то время, когда он жил там сам. И почему ему, специалисту по шумерской цивилизации, пришлось-таки овладеть смежными профессиями – электрика, водопроводчика и газовщика.
Он, конечно, переносил всё стоически. И даже иногда задавал себе риторический вопрос: «Может, в этом и состоит настоящая жизнь?» Но ответ как-то не приходил ему в голову.
После нескольких лет таких вот мытарств Шилов даже был рад, когда цены на жилье в Сиднее перестали расти и уже не было смысла держать дом. Ему удалось убедить жену, что дом надо продавать. Та расплакалась (уж очень много хороших воспоминаний было связано с этим домом), но согласилась. И перед Шиловым опять замаячила перспектива настоящей жизни.
Из бортовых тетрадей
Евгений ЧЕКАНОВ. Колька-артист
Из рассказов конца 70-х годов
В конце семидесятых годов прошлого века, только еще ступая на кремнистую – но блестящую! – литературную стезю, я написал повесть и десятка полтора рассказов. Первое сочинение каким-то чудом увидело свет тогда же, а рассказы по разным причинам отвергли в издательствах и редакциях – и я на четверть века ушел в поэзию. Но перечитав недавно свои ранние упражнения в прозе, понял, что некоторые вещицы и сегодня достойны публикации.
Эти рассказы написал студент-третьекурсник советского провинциального вуза, 22-летний оболтус, только еще осваивающийся в большом городе и не нюхавший никакого «пороха». Всё, что было тогда у этого сочинителя – это литературный слог и умение приглядываться к живой жизни. Но, может быть, было уже и кое-что еще… А что именно? Пусть это решит читатель.
Автор
Наклонив тяжелую флягу, Колька зачарованно смотрит на струю солярки, текущую в ведро. На густо-синей, гладкой поверхности струи отчетливо видны небо с ошметками облаков и лопоухая голова в кепке. Ну прямо – зеркало!
Солярка течет через край. Спохватившись, Колька закрывает флягу и, сгорбившись под тяжестью двух ведер, начинает подниматься по тропинке вверх, мелко перебирая ногами в кирзовых сапогах, доверху измазанных густой рыжей глиной. Надо торопиться: на том конце эстакады, у своего трактора, уже вовсю машет руками и невнятно матерится дядя Вася Кротов – давай, мол, скорей.
– Иду-у!.. – кричит Колька что есть силы.
Ветер сносит его слова в сторону – и дядя Вася, не услыхав, продолжает ругаться.
Уже целый месяц числится Колька Дерюгин рабочим на нижнем складе, но постоянного занятия до сих пор не имеет. Ставят его куда придется – то в бригаду строителей, раствор таскать, то на эстакаду, бревна сбрасывать. А то и просто шустрит он на побегушках, вот как сейчас.
Отчасти в этом и сам Колька виноват – нигде себя не зарекомендовал. Везде у него что-нибудь да не заладится. На стройке сразу же поцапался с бригадиром, с Чернышовым. Тот покричать любит да поуказывать, но в коллективе у него сейчас одни бабы, с ними не больно-то разойдешься – такую собаку спустят… А тут – новичок, да еще и сопливый совсем, лаять старших не привык. Ну, и разошелся Черныш. И ходит-то Колька медленно – ровно сытая вошь по палке ползет, и щебенку-то он не из той кучи взял, и даже на перекуре ведет себя неправильно. Все добрые люди делом заняты – курят сидят, а этот «христосик» – руки в брюки, и вдаль смотрит. Слышь, пацан, нехрен вдаль-то смотреть, оттуда длинные рубли не прибегут…
Поругались, в общем.
Перевели Кольку на эстакаду. Там парни молодые, лет разве на пять постарше его, с ними всё нормально, кажись, пошло – да вдруг опять беда: поскользнулся Колька и вниз полетел вместе со своим орудием труда, с ломиком. Невысоко там, метра полтора; да упал, опять же, неудачно – крестцом на торец бревна. Минут пять по земле катался, рожи корчил. Не выл, правда, – характер показывал. Хорошо, напарник, Крючков Олег, сообразил быстро – за проволоку дернул, остановил цепь. А то бревна-то идут и идут, друг на дружку лезут, а сваливать их некому. В таком разе трехметровая осина и сама брякнуться может, и покалечиться тут – плевое дело.
Добро еще, что всё обошлось, даже в больницу не ходил. Но на другой же день мастер, Леха Хайлов, Кольку с эстакады снял, от греха подальше. Парень-то – сморчок, а отвечать за него, ежели что, как за большого придется…
Так вот и стал Дерюгин на подхвате бегать.
Не понравилось ему такое дело, но решил до времени помалкивать. С другой стороны – знал ведь, куда шел. В бухгалтерии, когда он на лесопункт устраивался, прямо сказали:
– Ладно, возьмем тебя. Но учти: постоянной работы может и не быть. Тогда уж – куда пошлют. Сто двадцать будешь получать верняком, это обещаем. А относительно всего остального – не предъявляй претензий, если что.
– Не буду предъявлять, – ответил тогда Колька. А теперь вот и сказал бы словечко, да уж что – отступать некуда. До будущей осени твердо решил не увольняться. А там и армия не за горами…
Тем более, не всё так уж худо у него и тут складывалось. Начали и Кольку уважать люди. Не мытьем, так катаньем взял, – талантом.
– Талант, – уверяла Анюта-меряльщица, – талант у парня. Ему учиться бы надо, на художника или на этого, памятники-то который… Вот ты не веришь, Вася, не веришь, а он тебя всего как есть возьмет и срисует. Начисто срисует!
Качал головой Вася-носопыря, долговязый рябой шофер, не верил.
– Коля!
– Ну?
– Срисуй-ка его, черта!
Вынимал Колька из кармана пишущий камушек, на берегу найденный, и на плоском валуне в два счета изображал Васю – всего как есть, с носом-«румпелем». Дивились все кругом: а и верно, похоже.
– Что? – кричала Анюта. – Погодите, мы еще с Колей себя покажем! Верно, Коля?
И подмигивала весело.
А Колька, смутившись, стирал рукавом Васин портрет с валуна, прятал в карман пишущий камушек и уходил. Смотрели люди в спину щуплому парнишке (даром что в фуфайке – всё равно худоба выпирает) и головами качали. Ишь ты!
А еще умел Колька передразнивать. Соберутся мужики в кружок где-нибудь за бревнами, вынут «Приму» и «Север» из карманов, закурят – и просят:
– Колюха, представь «Гуляй-ногу».
А Кольку хлебом не корми. Сперва в сторонку отойдет, постоит там минутку, волосы себе поерошит. Обернется – глядь, а это уже и не Колька, а Гера-хромой, «Гуляй-нога». Лицо в ухмылочке растянуто, чуб на глаза лезет и он его поминутно назад откидывает.
Идет, башкой трясет, худой ногой нули по воздуху пишет. К мужикам подойдя, садится на чурбачок и, закурив, говорит этак ласково:
– А вить ты, Сашуха, лопату-ти неправильно держишь. Надоть выше рукой-то хватать, а то вить устанешь нагинаться…
Давятся зрители смехом и кашлем.
– Теперь Костюху вали!
Оглянется Колька, ширинку расстегнет, нижнюю губу со слюной аж до земли спустит. И просипит:
– Ну, чево, робята, засандалить бы не помешало бы, а?
Сдыхают мужики от хохота, тычут пальцами бессловесно в живого Костюху, который рядом сидит и тоже лыбится. И уже чуть ли не хором орут:
– Толю! Толю Боровкова!
Разом преображается Колька. На все пуговицы застегивается, голову в плечи втягивает, ежится, морщится. И начинает кричать старческим тенорком, подхихикивая:
– Я, гадский дух, всё могу! У меня топор из рук не вывалицца! У меня сын офицер, в Москве живет, мне тушонку присылат! На той неделе посылку прислал, дак я еле уташшил с почты-то!..
Стоном отзываются зрители, смеяться уже сил нет. Ну, Колька! Ну, артист!
И добрели люди, хлопая парнишку по плечу. А у того сердце петухом пело. И ладони эти – темные, заскорузлые, древесиной и бензином пропахшие, словно душу его гладили.
Но уже несся издалека знакомый надрывный голос Лехи Хайлова:
– Эй, ребята! Вы чего, мать-перемать, там базарите, работнички хреновы? Колька, поди сюда, работу дам!
Надевали мужики голицы, разбредались по местам. А самодеятельный артист подходил к мастеру и распоряжение получал:
– Счас ведра возьмешь у Васюхи Кротова, соляры ему притащишь из фляги, вон в тех кустах фляга стоит. Давай шибче!
– А потом чего? – спрашивал Колька.
– Потом скажу. Давай-давай-давай! – и тут же в другую сторону:
– Сашка! Куда сваливаешь, куда? Когда я велел сюда сваливать, что ты врешь! Давай вон туда!..
Серьезных конфликтов с Лехой Хайловым у Кольки, однако, пока что не было. Сердился, конечно, парнишка, что постоянной работы мастер ему никак не подыщет, всё обещаниями кормит. Ну, да что ж делать – квалификации-то у Кольки и впрямь нету. А вообще-то, Хайлов был ничего себе мужик, деловой. Народ на нижнем складе разный работает, попробуй-ка такими Костюхами поруководи. А Леха ничего, справлялся. И план мужики перевыполняли, и премии получали. Даже в газетке местной про участок нижнего склада одно только хорошее писали – мол, коллектив под руководством Алексея Хайлова стоит на ударной трудовой вахте, всегда в числе передовых…
Непонятно было Кольке одно: почему при всем этом очень многие на участке Леху не то что не любили, а прямо-таки ненавидели. Конечно, «бугров» и везде-то не больно жалуют, это Колька знал, но чтобы уж так… Вот, скажем, за глаза многих начальников зовут неуважительно, клички дают, но всё ж таки меру люди и тут знают. А Леху на нижнем складе кликали не иначе как «паразитом». Ругаться, правда, с ним избегали. На перекурах, когда речь о мастере заходила, мужики говорили мало; в основном, крепко выражались.
Но почему? – недоумевал Колька. Ну, да, гоняет всех мастер, рассиживаться не дает, – это верно. Да ведь на то он и начальник. Ну, а если «по матушке» кого пошлет, – так разве это диковина?
– А хочешь знать, артист, дак я те росскажу, – отозвался однажды Гера-хромой на Колькин вопрос. – Вот как-то Витюха Мельников – знаешь его? – да нет, откудова те знать, это еще до тебя было… Он, как и я, матёрой уже волк, до пенсии год оставалось доработать. Вот он однажды клюкнул хорошо и шлялся по территории. Никого не трогал, не ругался, ходил просто. Дак Леха знаешь, чево с им сделал? Другой бы спать отправил, да и всё, а наш паразит милицию вызвал и на пятнадцать суток посадил. А потом уволили Витьку по статье. Понял теперече?
И все равно Кольке было непонятно. Ну, уволили… А дело, что ли, – на работе пьянствовать?
Как-то в обеденный перерыв сидел Колька в конторке, «козла» забивал с мужиками. Вдруг увидал в окошко – мастер идет и пилу «Дружбу» на плече тащит. Двери распахнул:
– Дерюгин! Вот тебе работа будет. Иди попроси в точилке у Зуева парочку цепей, будешь швырок пилить. Давай!
Екнуло у Кольки сердце. Вот это да, вот это работа. Милое дело – ходи себе по территории да брошенные бревна и сучья пили на дрова. Никого над тобой нету, инструмент в руках – не лопата и не двуручка, а бензопила настоящая. Обрадовался, но виду не подал, спросил деловито:
– Повременку, что ли, поставишь?
– Зачем повременку? На сделке будешь. Поставлю я тебе подноску до сорока метров, всё по расценкам. Дуй за цепями-то!
Вышел Колька из конторки не торопясь, нога за ногу. С крыльца съехал по перилам, сколько-то еще чинно прошел – и не выдержал, побежал. Смотрели в окно леспромхозовские мужики, смеялись:
– Добро бы, от работы бёг, а то за работой…
– А што? Шабашка хорошая! Так, глядишь, и в люди выбьется…
Принес Колька цепи, показал ему Леха, как натягивать их, куда и что заливать, в какой пропорции.
– Пилил хоть раз сам-то?
– Да пилил… Конечно, пилил!
Не соврал Колька: действительно, раз в жизни держал он в руках эту штуковину, мужики давали.
– Ну, пойди найди Костюху Разумова, ему тоже делать-то нечего, вот вдвоем и давайте.
– Как вдвоем? Ты же сказал… да зачем мне Костюха?
– Давай-давай. Завтра Олег в отпуск уходит, я Костюху сучкорубом поставлю. Сегодня до конца дня попилите вдвоем.
И, как ошпаренный, выскочил мастер из конторки, руками замахал:
– Куда, куда едешь-то, мать-перемать? Я вот тебя сейчас с трактора-то сниму, глухая тетеря!..
Нашел Колька напарника у старой эстакады – курил Костюха на куче щепок, у вырытой ямы. Трезвый на этот раз, и гнездо застегнуто. Увидал Кольку, заулыбался:
– А, артист. Садись, покурим.
– Некогда курить. Пошли швырок пилить, мастер сказал.
– Леха, што ль?
– Ну.
Вовсе повеселел Костюха, лопату под эстакаду кинул.
– Потопали!
Пока шли до конторки, напарник бахвалился, сипел:
– Я с «Дружбой» управляться умею. С закрытыми глазами разберу и соберу. Думаешь, вру?
– Не знаю.
– Век воли не видать! Вот счас ты мне пачечку натаскаешь, я ее – раз-раз! – и готово. Дело-то у нас с тобой и пойдет!
– Умный какой! Я тоже пилить хочу!
– Пилить? Да ты пилу-то держал в руках, артист?
– Держал, успокойся.
– Ну, дак ты только держал, а я ей могу масло на хлеб намазывать. И не блистай поперек батьки. Пильщик тоже нашелся!
Помолчал Колька, сказал обдуманно:
– Так тебя ж только на день Леха поставил. Завтра на сучки пойдешь, сказал.
Погрустнел Костюха.
– Ну, мать… Верно, што ль?
– Спроси.
Длинно сплюнул напарник, замолчал. А Колька глядел на него сбоку и дивился: двадцать семь лет всего человеку, а хоть все сорок на вид давай. Лицо темное, в складках, кадык щетиной зарос. И в то же время – как мальчишка заводится, из-за каждой мелочи спорит. Даром что весь в синих наколках, четыре года на «зоне» провел.
Подошли к конторке, пилу взяли, заправляться надо. Тут опять у них несогласие: один говорит, что четыре банки масла надо в бачок заливать, другой – три. Орет Разумов, слюной брызжет, доказывает…
Отступился, наконец, Колька, рукой махнул – делай по-своему. Один-то день покомандуй, черт с тобой.
А Костюха почуял, что уступчив напарник, дальше свою линию гнет. Времени-то, мол, до конца рабочего дня всего ничего осталось – давай что покрупнее пилить. Но смекнул Колька, что за оставшиеся три часа можно половину толстых бревен расхвостать, а с мелочью ему потом одному придется хороводиться. И отказался наотрез. Да еще и приврал – мастер, дескать, велел сначала все сучки разделать.
Ну, сучки так сучки. Выбрали они кучу побольше, попинали ее ногами с обеих сторон, чтоб плотней была, и стали пилить. С первого раза завел Костюха «Дружбу», скоса на Кольку глянул – учись, мол. Не спеша подвел плоское живое жало к дереву и, медленно нажимая, как масло ножом, разделал кучу на две половины. У Кольки улыбка аж к ушам поползла – умеет, зараза… А напарник уже к другой куче идет, пилу не выключает. И эту тем же макаром распатронил. Загорелся Колька:
– Дай мне!
– Погоди.
Куч семь распилил Разумов, пилу выключил, пот со лба рукавом вытер, ухмыльнулся:
– Ну, вали, а я погляжу.
Только бы не осрамиться! Аккуратненько, осторожно, как мастер учил, вставил Колька стартер на место, подсос сделал и дернул за шнур. Взвыла пила, бешено закрутилась острая, на совесть наточенная цепь. Норма! Одну руку – на газ, другой – стартер в карман бережно опустил. Ну…
С волнением сунул парнишка пильной шиной в кучу, навалился сверху всем своим невеликим весом… И тут же отпрянул: очередью пулеметной брызнули из-под цепи сучки и ветки прямо в лицо. Замотал головой, пытаясь уклониться, да куда там – садануло деревяшкой точнехонько в лоб, хорошо – не в глаз. Поневоле метнулась Колькина рука с газа к ушибленному месту; фыркнула пила пару раз недовольно и заглохла.
– Эх, раззява! Дай-кось сюды! Не к рукам, гляжу, дак хуже варежки…
Отдал Колька пилу, пристыженно в сторонку отошел. Черт его знает!.. ведь и Костюха точно так же пилил!.. В чем же дело?
А Разумов, отобрав стартер, снова завел оказавшуюся с хитрецой машину – и уже почем зря полосовал непокорную кучу.
Стал приглядываться Колька со стороны, как работает напарник. Ага, вот оно в чем дело!
Легко, играючи держит Костюха пилу, нож в дерево упирает. Левой ногой наступает увесисто на сучья, газу дает на полный и медленно, плавно опускает шину вниз. А она будто сама идет вглубь, тонет в светлой, ветром высушенной древесине.
Но не осмелился Колька больше просить у Костюхи пилу. Подумал: ладно, завтра всё равно моя будет. Решил так, и за работу принялся – в поленницу напиленные сучья складывать. А напарник разошелся, пилит и пилит, на Кольку внимания не обращает. Дорвался. Конечно, это тебе не ямы лопатой рыть. Пила в руках рычит, трясется – человеком себя чувствуешь.
Хорошую поленницу сложил Колька, куба на три. Сели с Костюхой перекурить, разговор завели серьезный, деловой.
– «Дружба» – что… – сипел Разумов. – Здеся просто: палец с газа – и ша. А вот электропила – ту, пока остановишь, она тебя десять раз пополам перепилит. Сурьезное дело…
– Зато она легче, – противоречил Колька.
– Легче! Пошто те легкость-то в ей, это вить не баба…
– Что, перекуры с дремотой? – гавкнул над ухом голос мастера. – Это только-то и напилили, работнички?
Откуда он взялся – одному богу известно: всё кругом просматривается на полсотни метров.
– Ну, сам попробуй попили эти сучки, – с лету завелся Костюха. – Тоже мне, работа!
– Не нравится – ищи где лучше. А валять да к стене приставлять – за это нигде денег не платят!
Сказал так мастер и дальше побежал – легко, уверенно. Глядели Костюха с Колькой ему вслед, молчали. Лишь когда скрылась из глаз сухощавая фигура Лехи, обронил Разумов:
– Одно слово – паразит…
Поработали в тот день еще часа полтора. Довелось попилить и Кольке; не сразу, но пошло дело и у него. А тут и рабочий день кончился, потянулись мужики к конторке. Гордо нес парнишка пилу на плече, шагал вразвалочку, неторопко.
– Ну, пилой наградили артиста, – засмеялись работяги у крыльца. – Теперь работа пойдет!
– А Костюха рядом шпарит. Что, тоже в артисты набиваешься? Не выйдет, брат, тут талант нужен!
Длинно сплюнул Разумов себе под ноги, сказал без улыбки:
– У меня другой талант есть. Вот как засандалю сегодня, чтоб черные мусора приснились…
Захохотали мужики.
– Колька, не забудь вставить, когда изображать будешь!
Улыбнулся и Колька:
– Не забуду.
А тут и леспромхозовский автобус подошел, поехали все по домам.
Неспокойно спал Колька в ту ночь, ворочался. Под утро сон увидал: будто бы пилит он электропилой здоровенную березу. Один пилит, без всяких там напарников. Легко идет пила, прыгает у Кольки сердце. Вдруг, откуда ни возьмись, Леха-мастер:
– Пойдешь на другую работу, Дерюгин! Ямы копать!
Насупился Колька, рот открыл, чтобы возразить, – и проснулся.
Утром, когда на работу ехали, всё сон вспоминал. Ну, как на подхват опять сегодня пошлют?
И не зря волновался: с «Дружбы» хоть Хайлов его и не снял, но зато и Костюху не убрал из напарников; в сучкорубы вместо Олега поставил Вовку Зарубаева. А дело в чем оказалось: как прослышала бригада о новом сучкорубе, в один голос заявила – видали, мол, мы в гробу такое дело, не нужен нам Костюха. Сучки сшибать – тоже сноровка нужна, да еще какая, а у этого хмыря одно на уме: вино жрать да анекдоты про баб травить.
Короче говоря, снова пришлось им вдвоем швырок разделывать. Пилу Костюха совсем в свое распоряжение забрал, Кольке подступиться не дает. Работа, правда, поинтереснее пошла – от сучьев к бревнам перешли. Дело споро идет: «Жжик!.. жжик!..» – брызжут струйки опилок из-под цепи, и катятся веселые чурбачки один за другим, радуя глаз белыми срезами. Чаще, правда, не чисто белыми те срезы были, а с рыжеватиной в середке – швырок все-таки, не деловая древесина. Ну да ладно, всё в печке чьей ни то сгорит. Вырос на территории пяток аккуратных поленниц – хоть сейчас приезжай да забирай.
Пока по участку ходили, наткнулись на несколько березок хороших – с лесовоза, видно, упали. Загорелись глаза у Костюхи, заоглядывался он.
– Артист! На те пилу, вали березку, да покороче.
– Да ты что! Нельзя, поди?
– Чево нельзя, валяются – значит, можно. Давай, не боись. Расфукаем, никто и не узнает.
Оглянулся и Колька. Чего ж, раз валяются…
С наслаждением опустил сверкающий эллипс на тугой бок березы. Ж-ж-ж-жик! Готова штука. Ж-ж-ж-жик! Еще одна. Давай, напарничек изрисованный, окладывай знай!
В два счета разделал Колька оба ствола, остались от белотелых красавиц лишь две змейки чурбачков, которые тут же собрал Костюха и, в поленницу оклав, с обеих сторон еловыми заложил, от любопытных глаз подальше. Сделано дело, дальше пошли. Не молчится никак Костюхе – идет, плюется поминутно, языком мелет:
– Еще бы где березку найти. Глядишь, кубик и есть. С осиной-то не сравнишь…
– Домой, что ли, повезешь? – Колька спрашивает.
Посмотрел на него Разумов, как на дурачка.
– Штоле! А ты думал – дяде? Шариками-то вертеть надо малёха, артист!
– Я и верчу.
– Покуда не видать. Ты што, ни разу дров не выписывал?
– Нет.
– Вот темнота колхозная! Правило такое есть – каждый работник имеет право увезти домой две машины дров, по семь-педдесят машина. А кому другому, с улицы, – в тридцатку станет. Понял ли?
– Понял.
– То-то, артист… Тебе тоже, штоле, дров-то надо?
Подумал Колька, пораскинул мозгами. А ведь верно, надо. Чего там у родителей в сарайке осталось – месяца на два-три, не больше. А тут само в руки идет.
– Надо бы и мне.
– Дак какого хрена молчишь? Давно бы уж свою поленницу склал.
– Да я не знал ведь…
– Не знал! Эх ты, тюва! Всё вить научи да в мир пусти, а то хрен, а не милостыня…
Сидит Разумов на чурбачке, сигаретку посасывает, плюется, поучает:
– Рвать надо, где рвется. Шевелить бестолковкой-то малёха. Вот, выпиши-ка счас в конторе машину дров, попробуй. Што у тя получится?
Не знает Колька.
– Нет, вот ты мне скажи – што получится?
– Ну, привезут, поди…
– Во тебе! Вот такой вот, в обе руки. Сто раз сходишь, в ножки поклонишься, покуда соберутся привезти. А соберутся, дак навалят тебе за твои семь с полтиной такой осины, что в огне не горит, в воде не тонет. Грузчикам всё одно вить, откудова брать, им мастер указывает. А он, думаешь, березки те даст? Держи широким кверху, он свое дело туго знает. Не боись, не ошибется… А тут у тебя, – подмигивает Костюха, – своя поленница стоит, елочка пополам с березкой. Сам напилил, сам склал, предупредил, штоб не трогали. Потом машину выбил, – ну, там с каким шоферюгой засандалили по банке гнилья, он те и загрузить поможет. Набросал с верхом – и готова дочь попова! Во как надо, понял?
– А выписывать где? В конторе?
– Где ж еще? Да ты скажи мастеру, он те выпишет. Скока те машин-то надо, одну?
– Две, наверно…
– Ну, хозяин называется! Не наверно, а точно. Так и скажи Лехе – две машины, мол, выпиши. А с зарплаты просто вычтут с тебя пятнадцать рваных. И вся любовь.
– Понял.
– Вот так вот. Умные-то люди, оне знаешь, как делают? Допустим, тебе самому дров не надо, у тебя отопление паровое, али ты сам, без мастера сообразил, привез уже. А старушонка какая слёзно тя просит – привези, мол. Да получше привези, смекаешь? А ты ей, конечно: мамаша, завсегда пожалуста! Семь с полтиной – в контору, двадцать два рубля – на карман. Это ж – два дня гудеть! А?
– Ага…
– Вот так вот, артист, учись жизни у бывалых людей. Пожалуй, хватит курить, одевай голицы. Работа, конечно, не дрын, она и век простоит, да паразита-то этого где-то здесь носит…
Таскал чурбаки Колька, а сам всё про поленницу думал. И чем больше думал, тем ясней она ему представлялась – высокая, в три ряда; внутри березка, снаружи елочка…
В обед подошел к мастеру, объяснил, в чем дело. Посмотрел Леха острым глазом, усмехнулся:
– Разумов, что ли, научил? А? Чего молчишь? Ладно, выпишу я тебе две машины, иди пили. А Костюху я на вторую эстакаду с обеда поставлю, один справишься.
И улыбнулся мастер.
И такая улыбка у него была хорошая – пожалел Колька, что плохо о нем думал, бывало. И почему его мужики не любят? Таких еще поискать начальников-то…
После обеда занялся Дерюгин своей поленницей. Любовно оклал ровные, аккуратные кругляки березы, узкие смолистые чурбачки ели, прибавил на затравку сухой сосны. Прикинул на глаз – кубиков пять будет… А больше и взять негде – весь мало-мальски пригодный швырок испилили они с напарником.
С работы уезжая, всё глядел в окошко на свою поленницу. Картинка, да и только! Это ж какую радость он своими руками сотворил!
Приехав домой, весь вечер ходил довольный, помогать родителям совался. Отец с матерью даже удивились: что это с парнем делается? Прежде, бывало, с места не сдвинешь – лежит на диване перед телевизором и, чуть что, бурчит:
– Я работаю! Чего вам еще надо?
А тут – ведро мусорное вынес, печку сам растопил… Переглянулись родители: взрослеет сын-то.
А Колька съел тарелку щей, пирога умял середку и с набитым ртом пробасил:
– Скоро дров привезу. Сам пилил, ничего дровишки.
– Вот, батько, тебе и хлопотать не надо, – подхватила мать, разливая чай по кружкам. – Добытчик вырос.
– С работы дрова-то? – спросил отец серьезно.
– Ну.
– А почем встанут?
– Семь с полтиной машина. Я две выписал. Чего, думаю, мелочиться…
– Это так, – поддакнул отец. – Мелочиться не надо…
На другой день с утра работал Колька на эстакаде – меряльщиком вместо заболевшей Анюты. Не получалось сперва, не успевал, покрикивали на него мужики. Но потом приноровился – рейка в руках стала летать как живая. Настроение еще со вчерашнего дня хорошее было, а тут еще больше поднялось. Получается, черт его дери, всё получается!
Захотелось ему на свою поленницу еще разок глянуть. Эстакада-то внизу, у реки, из-за берега ничего не видать. Дождался Колька, когда сели мужики перекурить, выбежал на пригорок.
Вон она стоит, родимая, белым фасадом светит, вон как раз к ней какая-то машина подъезжает… стоп!
Вылезают из машины люди, начинают вокруг Колькиной поленницы ходить, а потом… потом этак по-хозяйски закидывают чурбачки в кузов. Вот так ни хрена себе!
Не успел ничего и подумать Колька Дерюгин, а уж ноги сами понесли его вперед. Часто стукало сердце, рыжая грязь летела из-под кирзовых сапог, а в голове билось: «Неужели Леха разрешил? Неужели Леха?»
Подскочил к машине и с лету заорал:
– Вам кто разрешил эту поленницу грузить? Кто разрешил?
Переглянулись двое незнакомых работяг, посмотрели на взъерошенного парнишку, молча на кабину показали. Вылез из кабины дядька в хорошем плаще, при шляпе, сказал вежливо:
– А в чем дело, паренек? Мне мастер разрешил.
– Мастер? – задохнулся Колька. – Счас! Ничего без меня не трогать!
И побежал к конторке.
Мелкий дождик моросил, капли текли по Колькиному лицу, но ничего не замечал парнишка. Всё в нем билось от обиды и несправедливости. Как же так, а?
На счастье, Леха в конторке оказался. Хлопнул дверью Колька, бросил с порога:
– Ты, что ли, им разрешил мою поленницу-то взять?
Поднял мастер голову от бумаг, посмотрел на него, помедлил секунду. Потом встал из-за стола, подошел поближе, руку на плечо Кольке положил. И сказал весело:
– Да ты себе еще напилишь, едрена корень! Эка беда! Вон его, швырка-то, сила необоримая валяется. Неужто не напилишь?
Заглянул Кольке в глаза, еще немного помолчал и сказал доверительно, как равному:
– Мыльников, заведующий гаражом, своим старикам помочь хочет. Просил, чтобы получше были дровишки. Надо уважить человека. А ты себе еще напилишь! Раз такое дело, чего уж… Пила в твоих руках. Орудуй. Где и березку встретишь – пили, черт с ней. Ну, договорились? Давай, дуй!
Что-то такое сделалось с Колькой – ничего не сумел он больше сказать. Слова застряли где-то в горле и наружу никак не шли – хоть ты тут лопни от натуги. Постоял, покивал и вышел из конторки.
На крыльце еще постоял, подумал – не вернуться ли? Но раздумал. Поглядел издалека на свою поленницу – мужички споро забрасывали в кузов остатки. И пошагал через мокрое поле на эстакаду. Дождь всё накрапывал. Колька сначала шел, а потом побежал – на эстакаде его ждали.
А через три дня на участке опять случился конфуз. На перекуре Колька вдруг объявил, что сейчас представит кой-кого. Причем сам объявил, без просьб и уговоров.
– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовались работяги.
Взбежал Колька на бугорок, кепку на самые глаза надвинул, руки за спину заложил. Лицо сделал хозяйственное, брови в линию свел. Долго вертел шеей туда-сюда, будто кого-то высматривал. Потом обрадованно дрогнул задом, руками, как мельница, замахал и благим матом заорал:
– Ванька! Ты чего, мать-перемать, расселся? Только-то и наработал, работничек хренов?
Захохотали мужики. А Колька пуще:
– Не нравится – ищи где лучше! Давай-давай-давай!..
Только замолчали вдруг все, и увидел Колька Дерюгин за спинами зрителей Леху Хайлова. Молча стоял тот, слушал, глядел на Кольку. И Колька стал на него смотреть. Тоже молча. И мужики смотрели на них обоих.
Потом Леха улыбнулся. Весело так – будто рубль нашел на дороге. И сказал привычным тоном:
– Ну, повеселились – и хватит. Давайте за работу, ребята.
Повернулся и побежал дальше.
Смотрели ему вслед работяги, молчали. Вдруг Олег Крючков сказал удивленно:
– А что? Ведь вылитый!
И все опять оглушительно захохотали.
Смеялся и Колька. Присел на чурбачок и смеялся вместе со всеми. И, смеясь, чувствовал, как противно, без останову, дрожат у него колени.
Но все равно смеялся.
1977
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись двадцатая: «Каменщики»
Мы, бригада городских рабочих, посланных «спасать урожай», как тогда говорили, в ясный, с позолотцей осенний день принимали в мешках с грузовика и перебирали картошку в совхозном овощехранилище, а их – местных двух парней и девицу – прислали подправить задетую кузовом кирпичную кладку на въезде: замесили они цементный раствор в корыте и ловко выбоины заделывали мастерком и затирали.
Молодые, статные, все по-владимирски звучно окали: они были выше и крупнее среднего роста, но как-то в меру, как бы улучшенной породы: телогрейки черные были им не по росту коротки, свободные блекло-серые спецовочные штаны заправлены в новые большие резиновые сапоги. Особенно их лица запомнились – без жизненной черноты и усталости. Работали и, пересмехаясь, шутили вполголоса отдельно от нас, приезжих.
У девицы в платке, под рабочей, должной бы обезличить её одеждой – прохватывалась сильная стройная фигура; чернобровая, правильный овал лица степенный, серьезный, и выглядела она постарше парней. Глаза тёмно-синие, как лесные, теплые от солнца на прогретой полянке и веселые колокольчики. Один парень, всё заигрывая, что-то шепнул ей на ухо: она вспыхнула, все черты заходили, как живчики, и с притворным смущением увесисто с маху шлепнула его по спине. А он довольно заулыбался из-под козырька кепки. У парней глаза были озорные и синь в них – попритушена в отличие от теплых колокольчиков каменщицы.
Скучные, а то и враждебные будни – и вдруг сквозь них вот так – тронет чувство коренной связи с людьми. Я смотрел на них, любуясь: приятен и румянец, и оканье, и спецовка аккуратная. И эта свежесть, и чистота их молодости и теперь все так же радостно удивляют: что же это? Может, и весь мир таков? Только мы этого не прочувствовали?
…Сегодня, много лет спустя, читал Символ веры и удивился: «воскресшего в третий день»! Сколько раз проборматывал без останова: распятого и воскресшего! А теперь и само это слово ожило чудесно, засветилось изнутри, как витраж в соборе. Так же освеженно воскресли в памяти и облики тех владимирцев: молодые, пересмехающиеся, счастливые, точно это уже и не земные люди, а вечные образы старинной русской земли сияют из пещеры приземистого картофелехранилища. Каменщики те словно клали свою словесную кладку в душе моей все прошлые годы, и вот она закончена. И выстроилось во мне что-то удивительно совершенное, как вытянутый, с отогнутыми краями колоколок, куполок колокольчика, синий храм.
Как три ангела в резиновых сапогах и телогрейках: невзрачная спецовка облекала стеблистость молодую их тел, их радостную силу, как некое случайное одеяние; их образы, подобно цветам вытянуты вверх, как фигуры на церковных росписях. Небо – в глазах. И деревня ближняя неслучайно называлась – Красная!.. Точно жизнь здесь веками затирала, одевала в смурное, убивала, выжигала, старила, а они всё равно сияют. Века старинной русской земли в них – таких я больше никогда не встречал. Будто были унижены и разорены украшенные белокаменной резьбой церкви их предков, и земля их обезображена, сведены их деревни и вся Русь сказочная прологов и житийных повестей, чтобы воскреснуть в сердце заново… как спрыснутая живой водой! Ведь когда тело дряхлеет, образы небес, не заслоненные плотью, проступают ярче…
Красота чувствовалась в их молодой силе, хотя делали они будничную работу в проеме ворот огромного сарая из силикатного кирпича, где тянуло из дальнего угла тяжело, смрадно – гнилой прошлогодней картошкой – это грязное месиво отправляли самосвалами на спиртоводочный завод; и где пахло свежей бороздой от нового, привезенного на грузовике урожая, который мы высыпали из мешков в бункер, перебирали и разносили по дощатым сусекам. Да сидела на ящике, возвышаясь, записывая центнеры в школьной, захватанной тетрадке полненькая, широкоротая кладовщица, молодая, с белесым незначительным лицом коротышка: сама, как крупная картофелина; в телогрейке ниже колен: настоящая «кутафья», как говорили в деревне. Глубоко запуская руку в карман, доставала семечки, грызла и разговаривала: с полных, несыто блестевших губ летела шелуха под ноги…
И она, подхватив похабные шутки Сашки Балагана, тоже смехом, но с откровенным по-бабьи намеком, так, что это учуялось всеми, вдруг пожаловалась на своего мужа бесстыдно и с таким вызовом, что все наши работники смущенно примолкли, опустив глаза, только слышно, как клубни шурудят под руками, а она глядит на всех свысока со своего ящика. Примолк и Сашка Балаган, пригнулся, полуоткрыв рот, распустив губы в растерянной ухмылке, а вечером его «коллективом направили к кладовщице, чтобы лучше закрывала наряды: иначе – выработки нам не видать!» На него пал выбор, потому что он был единственным холостяком в бригаде: давно развелся с женой и в свои тридцать девять лет был уже дважды дедушкой.
Вечером тайком от мужа, простоватого слесаря, она пришла в общежитие к «спасателям урожая», в темную комнату к нему, жилистому, длиннорукому, цвета прошлогодней травы волосы у него и лицо костистое и рябое, утянутое по щекам в кривые морщины; глаза с выпуклыми, как у лошади, белками, и зубастый рот все время в оскале смеха. Он охальник, балагур. На стройке, на верхотуре, без лесов – свободно ходил по кладке стены на четвертом этаже и по узкой бетонной перемычке – да еще мог там и сплясать, за что его и прозвали Балаганом…
А вокруг – цвела иконопись осени: умягченные светом холмы с багряными и желтыми гривами рощиц, и будто спустившись с неба, из этого мягкого света с одной стороны – белеет, как из яичной скорлупы, монастырь с мощной стеной; по другую сторону – колокольня острая церкви сияет, мерцая, тает в высоте.
И монастырь, и церковь вблизи – я в них уже побывал – безобразно разгромлены. А отсюда, издали в такой день кажется, что Святая Русь, её теплая тайна рядом, под скучными, а то и враждебными буднями: в голом поле, в разрушенном храме, между людьми, вроде случайными, безвестными, как Сашка Балаган, распутная кладовщица, важный, краснорожий с похмелья директор совхоза, разъезжавший в своём «газике» с собачкой на переднем сидении… Чудное тепло было не от ясного дня, а от мыслей и образов, забрезживших во мне: как мал человек – он как живая земля, но и этого – много: невидимые побеги и от такой бедной жизни достают до неба.
В свободный час в синей легкой телогреечке – от скучных многоквартирных совхозных домов по изрезанной осенними колеями дороге я спешил с холма в логовинку, заросшую высоко сорной травой, где низко свисая сытными гроздьями ягод, краснели на солнце рябины. По глубоко просевшей в логу дороге медленно подымалась навстречу от деревни Красной старуха. Спросил у неё, какому святому посвящена та церковь, сияющая вдали на холме. «Никите Великомученику», – привычно, точно ждала такого вопроса, ответила она, и мы поговорили немного.
