Пушкин. Побег из прошлого
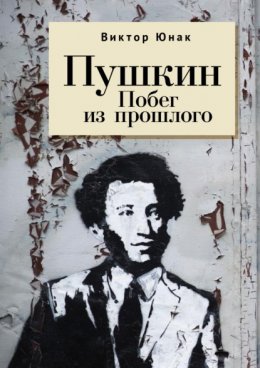
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© В. В. Юнак, 2025
© Издательство «Алетейя» (СПб.),2025
Пушкин. Побег из прошлого
1
«Династия Романовых на российском престоле началась с Михаила в 1613-м, Михаилом, по большому счету, и закончилась в 1917-м, если иметь в виду, что Николай Второй в конце февраля отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила, а тот целые сутки размышлял над данным предложением, но, в результате, решил, что это далеко не то предложение, от которого нельзя отказаться… И, в итоге, отказался. Так закольцевалась история царизма в России. Если же еще вспомнить, что первого Романова Михаила Фёдоровича призвали на престол из Ипатьевского монастыря, где 16-летний отрок прятался от лихолетья Смутного времени, а последнего Романова, Николая Второго расстреляли в Ипатьевском доме, куда его доставили большевики во время очередного русского лихолетья, то и вовсе данное кольцо истории не разомкнуть…».
Михаил Романов сидел за компьютером и быстро бегал пальцами по клавиатуре, лишь изредка над чем-то задумываясь, а еще реже что-то уточняя в поисковике, после чего снова начинал строчить текст. К нему подошел десятилетний сын Вася и, слегка потянув за футболку, произнес:
– Пап, тебя мама зовет.
Но Михаил продолжал печатать, не обращая внимания на сына. Тот постоял еще немного и снова сказал:
– Ну, пап, тебя же мама зовет.
Михаил недовольно вздохнул и, наконец, ответил, продолжая смотреть в монитор:
– Скажи маме, если я сейчас встану, то потеряю нить мыслей.
Обрадованный мальчик тут же побежал на кухню, где раздавался плеск воды, – мать мыла посуду. Он передал слово в слово, сказанное отцом, а потом и сам спросил:
– Мам, а можно я теперь в майн-крафт поиграю?
Мать выключила воду, вытерла насухо последнюю тарелку, поставила ее в сушилку, висевшую над раковиной, и сурово посмотрела на сына:
– Не больше часа!
– Хорошо! – кивнул мальчик и тут же исчез в своей комнате.
А женщина, сняв передник и закатав рукава халата, решительно направилась к мужу.
– Так, Романов, если ты через минуту не начнешь пылесосить в комнате, я все твои нити мысленные намотаю на твое же причинное место, дабы оно не лезло ко мне по всяким пустякам! Я устала, ты понимаешь? Я и стираю, я и глажу, и посуду мою, и еду готовлю, а ты только и знаешь, упереться в свой монитор.
– Людочка, ну, правда, всего пару минут и я прервусь.
Людмила вздохнула и села на диван, стоявший рядом со столом, за которым работал муж. Пару мгновений смотрела на него, потом спросила:
– Что ты хоть пишешь-то?
– Статью для Исторического журнала. «Романовы как зеркало русских революций».
– Плагиатом попахивает, дорогой, – хмыкнула жена.
Михаил ответил не сразу, а лишь после того, как закончил очередной абзац.
– Ничего подобного! Ленин писал о Толстом, а я о двух императорах, двух Николаях, единственных правителях, при которых в России произошли революции, при которых страна потерпела жесточайшие поражения в новейшее время – первый в Крымской, точнее, Восточной войне, второй в русско-японской, да и первая мировая здесь же; и, наконец, оба они, Николай Первый и Николай Второй, начали свое царствование с пролитой крови. Первый на Сенатской площади во время краткого междуцарствия, вылившегося в восстание декабристов, второй – на Тушинском поле во время коронации.
– Подумаешь, Николаи! А чем тебе трое Петров лучше? Первый самолично брил бороды и рубил головы, второй, несмотря на юный возраст только и делал, что водку пьянствовал да безобразия нарушал, а третий так и вовсе хотел из России Пруссию сделать.
Михаил с Людмилой – оба историки, оба учились на одном факультете, там же познакомились, а на пятом курсе поженились. И иногда устраивали дискуссии на исторические темы, вроде той, что происходила сейчас. Дискутировали они всерьез, подходя с разных, едва ли не противоположных точек зрения: она с более либеральной, он – с более консервативной. Правда, истины ради, надо сказать, что до драк у них никогда не доходило, но обиды бывали. Несколько раз после таких обид, то он, то она уходили на ночь спать к сыну, Василию.
– Ха! – продолжил дискуссию Михаил. – Головы рубил. Зато города и заводы строил. Россию с колен поднял по-настоящему, не то что нынче, к европейской цивилизации приблизил. Да вон, как сказал Пушкин, окно в Европу прорубил. То бишь, выход в Балтийское море навсегда России обеспечил. А внук его, хоть и вправду пьянствовал и дебоширил в свои юные лета, зато сделал для страны величайшее дело: послал куда подальше всемогущего временщика и самого беспардонного в истории страны казнокрада, светлейшего князя-булочника Алексашку Меншикова, аж в самое Берёзовское захолустье.
– Ха! – в его же стиле ответила Людмила. – И что, избавил страну от казнокрадов? Как воровали в России, так и продолжают воровать. Потому что рыба гниет с головы, а не с шеи. А что касается строительства городов, то вот тебе примеры от Николаев: Романов-на-Мурмане, Новониколаевск, наконец, Николаевск-на-Амуре. А что касается петровского окна, то Николай Первый ведь не окно, а целые ворота открыл для России – на Тихий океан. Да и куда подальше мог послать подданных – не на Урал на поселение, а в сибирскую глушь, на каторгу.
– Тоже мне каторга! Сколько из этой Сибири побегов было! То ли дело сталинский ГУЛАГ. Попробуй сбежать оттуда.
– Эк, куда уже тебя занесло, Романов! Так ты о чем пишешь: о Романовых, или о Сталине?
– Ну, Сталин у меня случайно выскочил, – уже спокойно произнес Михаил. Он сел на диван рядом с женой, обнял ее за плечи и поцеловал ее в щеку. – По аналогии с каторгой царской.
– Так ты пылесосить-то будешь?
– Ну я же сказал, сейчас допишу и займусь.
И вдруг они одновременно вспомнили одну забавную историю, приключившуюся, когда Васе было года три. Он к тому времени все еще любил иногда подержать во рту соску, несмотря на то что родители пытались его от нее отучить окончательно. Даже горчицей ее мазали. Он соску выплевывал, но тут же начинал хныкать, а родители начинали его стыдить: мол, такой большой, а не можешь без соски. Но, если родители не обращали на это хныканье внимание, то добрая бабушка, Людмилина мать, когда брала на выходные внука себе, всегда в таких случаях едва ли не торжественно вручала ему этот предмет, заменитель материнской груди. Когда же Людмила начинала за это ругать мать, та оправдывалась:
– Людочка, но он же очень просит.
На что дочь решительно отвечала:
– А если он у тебя водку попросит, тоже дашь?
– Ну, это ему еще рано, – смеялась мать.
– А это ему уже поздно!
Родители, точнее, скорее, Людмила (Михаилу всегда было немного не до воспитания) с малых лет приучали сына к труду. В том числе, поручали ему пропылесосить в своей комнате. Так вот, как-то раз Вася пылесосил, а тут позвонила Людмилина мать, которая спросила у дочери, привезут ли они на выходные Васеньку.
– Мы бы привезли, да что-то у него нет особенного желания, – ответила Людмила. – Впрочем, на, сама у него спроси.
Она поднесла телефонную трубку пылесосившему ребенку, по дороге сказав:
– Вася, с тобой хочет бабушка поговорить.
Мальчик по-деловому выключил пылесос, взял в руку трубку.
– Привет, Галя, – бабушка сама настаивала на том, чтобы внук называл ее по имени, а не называл бабушкой.
– Здравствуй, мое золотце! Ты как, приедешь сегодня ко мне?
– Сейчас попылесосю и поеду.
Видимо, было плохо слышно, или бабушка захотела услышать это по-своему.
– Соею хочешь? – переспросила она да так громко, что этот вопрос даже услышали Людмила с Михаилом, чем вызвала у обоих взрыв смеха.
После этого каждый раз, когда Василий начинал пылесосить, они вспоминали этот случай и смеялись.
Людмила поднялась, вздохнула.
– Что за мужики у меня? Муж помешан на истории, брат на машине времени, сын часами может в телефоне сидеть.
Усевшись было за стол на прежнее место, Михаил, услышав про машину времени, повернулся к жене:
– Что ты про машину времени сказала, Людочка?
– Да ну тебя! – в ответ махнула рукой Людмила. – Я пошла обед готовить.
2
Сергей Остроумов десять лет назад окончил политехнический университет, а сейчас работал старшим научным сотрудником в НИИ Приборостроения. То есть, это он раньше был приборостроения, а в последние годы, как говорил завлаб этой лаборатории, где и числился Остроумов, институт положил на строение приборы и строил исключительно фигню. Госзаказов практически не было, а если и были, то ничего, кроме улыбок у старых сотрудников, знавших гораздо лучшие времена, они не вызывали. А коммерческие заказы тоже с каждым годом убывали, к счастью, не в геометрической, а пока только в арифметической прогрессии. Руководство института ради выживания, пошло двумя известными в России путями – сокращать штаты (да и у оставшихся сотрудников срезать зарплаты, чтобы обеспечить себе, то бишь, руководству, «золотые парашюты» в случае увольнения с должности), и сдавать освободившиеся помещения в аренду сторонним организациям. Так вот и выживали.
У Сергея появилось много свободного времени, которое он проводил, занимаясь собственным проектом, которому посвятил последние четыре года жизни. Он математически вычислил, построил алгоритм и сделал чертеж одного механизма, который, в случае успеха, принесет ему мировую славу и огромные деньжищи. С запчастями и отдельными механизмами проблем не было – их он подбирал в производственном цехе, составной части НИИ и потихоньку еще пылившем, выполняя заказы.
Разумеется, о своем домашнем хобби Сергей никому не рассказывал, кроме жены, которая было начала упрекать его в том, что он стал ходить налево. Тогда он взял ее под руку и повел направо – аккурат в ту сторону от дома, где стояли вдоль железной дороги выстроившись в шеренгу кирпичные гаражи со вторым (правда, подземным) этажом. Гараж достался Сергею от отца, который держал в нем старенький, но вполне себе ездящий и вылизанный до блеска «Москвич». Сергею даже было стыдно, когда отец садился за руль этого дорожного мастодонта. Сын подсмеивался над отцом по этому поводу, советовал сдать машину в музей антиквариата, а отец злился за это на сына. Но однажды вопрос решился сам собой: «Москвич» как-то во время езды неожиданно заглох и в него сзади на полном ходу впечатался «мерседес». Хозяин «мерседеса» хотел было наброситься на старика Остроумова с кулаками, но, глянув на его машину, лишь засмеялся да рукой махнул. А Остроумову пришлось вызывать эвакуатор и загонять машину в гараж. После этого он пришел домой грязный и злой (как назло, весь тот день дождь поливал землю, словно огородник свои шесть соток из шланга). Даже не переодеваясь, лишь сняв ботинки, он вошел в комнату Сергея и швырнул в сторону кресла, в котором тот сидел, ключи от гаража. Хорошо, Сергей не был обижен реакцией и поймал ключи на лету, а не то, они попали бы ему прямо в лоб.
– На! Радуйся теперь! Нет больше моего оленя. Значит, и гараж мне не нужен.
А через полгода отец с матерью переехали в однушку в ближайшем Подмосковье, освободившуюся после смерти восьмидесятисемилетней матери отца, оставив эту двухкомнатную сыну и его семье – жене с дочерью.
Сергей долго ломал голову, что же ему делать с этим металлоломом. Сначала хотел продать «москвича» на запчасти, чтобы хоть какие-то копейки выручить, да отдать деньги отцу, а потом сообразил: кое-какие части могли бы ему пригодиться для его машины времени. Так он и поступил: разобрал машину, ненужную жестянку сдал в пункт приема металлолома, а остальные части пока разложил по полкам в гараже.
Таким образом, жена Сергея, Лена, убедилась, что муж ей изменяет не с женщиной, а с какой-то непонятной машиной. И пожаловалась на него сначала своей матери, а затем и Людмиле, золовке, жене Михаила.
Сейчас Сергей уже заканчивал работу, осталось только понять, какой проводок соединять с каким, чтобы не только портал телепортации открыть, но и попасть в нужное время в нужное место. Пока он застыл в задумчивости держа в руках два разноцветных проводка с зачищенными концами, раздался неожиданный стук в дверь. Сергей вздрогнул и уронил проводки. В гараже сначала вспыхнул яркий с голубоватым оттенком свет, следом, через несколько мгновений инфракрасное свечение погрузило помещение в пугающий полумрак. Однако вскоре свет от люминесцентной лампы, привинченной к стене позади, восстановился в прежней стадии.
– Что за черт! – выругался Остроумов, направляясь к металлической двери. – Лена, ты, что ли?
За дверью стояли улыбающийся Романов с сыном Василием.
– Привет, Серега! А мы к тебе. Можно?
– Блин! Вы мне чуть все не испортили. Заходите!
Он пропустил их внутрь и тут же, оглянувшись по сторонам, не видел ли их кто, закрыл дверь. Михаил тут же обратил внимание на конструкцию, в некотором роде напоминающую автомобильный мотор, но с большим количеством датчиков и тумблеров, а в самом центре – маленький руль с красной кнопкой посередине. Он локтем толкнул сына и кивнул в сторону конструкции, а сам спросил у Остроумова:
– Это она?
– Кто она? – уточнил Остроумов.
– Да ладно тебе! Мне Людмила рассказала, что ты в гараже делаешь машину времени.
– Значит…
Но что «значит» Остроумов договорить не успел: в этот момент лампа часто замигала, а потом и вовсе погасла, одновременно на приборной доске вспыхнула подсветка. Откуда-то подул ветер и вдруг раздался рык. На дверце большого металлического шкафа в треть стены, на который отец с сыном Романовы даже внимания не обратили, показалось изображение огромного динозавра. Это он и издавал рык, разинув свою зубастую пасть. Даже не понятно было, как такой гигант мог поместиться в относительно небольшом шкафу.
– Пап, это же ти-рекс! Реально! Самый крупный динозавр.
Отец и сын Романовы завороженно уставились на динозавра, а Остроумов после секундного замешательства, во время которого лоб и все лицо его покрылись испариной, тут же бросился к пульту управления и нажал на ту самую красную кнопку на руле. Ветер мгновенно стих, лампа перестала мигать, динозавр исчез все в том же шкафу, будто его и не было.
Еще целую минуту Василий смотрел в ту сторону в ожидании, не появится ли вновь страшный тираннозавр. Но он больше не появлялся.
– Кл-ла-а-ас! – наконец произнес мальчишка и повернулся к Остроумову.
– Дядь Сережа, вы – гений!
– Зря радуешься, Василий! Еще бы пару минут и твой ти-рекс сожрал бы разом всех нас троих и даже не подавился бы, и кости не выплюнул. Слава богу, я успел наладить кнопку сжатия, – Остроумов кивнул на красную кнопку.
– Серьезно, что ли? – не очень поверил шурину Романов.
– Серьезнее не бывает! Я же говорю, что вы мне чуть все не испортили. Да, это машина времени, как вы могли убедиться, но она еще далека от совершенства. Мне осталось понять, как определять место и время телепортации. Как раз этим я и занимался, когда вы меня своим стуком испугали, – Остроумов склонился над конструкцией и снова поочередно брал в руки оголенные на концах проводки, соображая, какой с каким соединить.
– Самое интересное, – продолжал он рассуждать вслух, – что, когда я дернулся во время вашего стука и провода выпали из моих рук, какие-то из них соединились правильно, но вот какие…
– Серега, ты и правда гений. И я уверен, ты сообразишь, что с чем соединить, – Романов пожал руку Остроумову.
– Дядь Сережа, а мы реально сможем телепортироваться?
– Ну, во-первых, тебе никто не даст телепортироваться. Ты еще слишком мал для этого, – Остроумов устало вздохнул, аккуратно обмотал изолентой оголенные концы проводов, вытер руки чистой ветошью и посмотрел на Михаила. – Понимаешь, Мишель, проблема в том, что я пока не могу понять, как управлять датами и местом телепортации. Вы только что видели, что машина, в принципе, уже в рабочем состоянии. Но человек может оказаться хотя бы в том же Юрском периоде и стать легкой добычей первобытных хищников.
Он сел в кресло, расстегнув синий ситцевый рабочий халат. Романовым кивком головы и жестом предложил сесть на стоявший у противоположной стены слегка потертый от времени и промятый кожаный диван.
– И потом, пока еще не готов механизм возврата. А без этого, как вы понимаете, моя машина времени – это билет в один конец. Кстати, чайку или кофейку не желаете? Кофе, правда, растворимый.
Остроумов встал, подошел к стоявшему в углу рядом с тем самым шкафом, небольшому столику, на котором был электрочайник, упаковки чая, жестяная баночка растворимого кофе, пачка сахара-рафинада и коробка конфет. Он проверил, есть ли в чайнике вода, затем включил его и улыбнулся.
– Между прочим, вы зря не обращаете внимания на этот шкафчик. Это и есть лифт для телепортации в момент раскрытия портала.
Он открыл дверцу шкафа и пальцем поманил Михаила.
– Вот, видишь кнопки. Их и нужно будет нажимать, чтобы вернуться назад. Только все равно без пульта управления это не получится. У меня пока не получается их состыковать и синхронизировать, но это, как говорил небезызвестный Карлсон, пустяки, дело житейское. Этим я займусь в самую последнюю очередь. Сейчас главное правильно соединить провода хронометра.
В этот момент вскипел чайник. Остроумов снял с деревянной полки над столом три чашки, а выдвинув ящик стола, достал оттуда чайные ложки.
– Так вам чай или кофе?
– Я бы кофейку тяпнул, а мелкому чай давай.
Некоторое время они пили чай-кофе молча, закусывая конфетами. Наконец Остроумов произнес.
– Кстати, Ленка моя, что ли, растрепалась по поводу машины времени?
– Ну да, мне Людмила так и сказала: мой брательник типа того, – он повертел указательным пальцем у виска. – Ленка все жалуется, что с работы сразу в гараж идет, а не домой.
– Понятно! Просил же, блин, никому не рассказывать.
– Серега, ты хочешь меня обидеть? Я же не кто-то там. Мы же родственники как-никак.
– Слушайте, родственники, вы-то хоть умеете язык за зубами держать? – Остроумов встал, снова застегнул халат на все пуговицы.
– Я – могила, сам знаешь. Мелкий, а ты умеешь язык за зубами держать?
– Пап, вот у меня есть такая тайна, такая тайна. А я ее даже вам с мамой не рассказываю, – Вася обиженно поджал губы.
– Ну, молодец! – погладил его по голове Остроумов. – Только учти – это еще более страшная тайна, чем та, которую ты не рассказываешь родителям. Потому что, если про эту машину узнают, во-первых, у меня ее могут отобрать, а меня самого убить, а, во-вторых, вас с отцом в тюрьму посадят за то, что вовремя не сообщили об этом, куда следует. Понял?
Остроумов произносил все это с самым серьезным выражением лица, и Василий так же серьезно ответил:
– Понял, дядь Сережа.
– Ну, и молодец! А теперь, мужики, не пошли бы вы куда-нибудь отсюда, а? А то уже десятый час, – Остроумов взглянул на часы, – а я еще даже не обедал.
– Ну, бывай, Серёга! – Михаил протянул шурину руку для прощания и вдруг его осенило. – Слушай, когда закончишь, позови меня. У меня идея есть, куда телепортироваться. Тебе же нужен подопытный кролик, не так ли?
– Договорились!
3
Михаил Романов уже давно пытался разрабатывать идеи из серии, что было бы, если бы… Статья о Николаях Романовых как раз и привлекла его тем, что и при одном, и при другом царях у России была возможность установить конституционную монархию. Ну, как в Великобритании или в Швеции. Понятно, что в такой научный журнал, каким был Исторический подобную статью-размышлизм, то есть ненаучную фантастику не приняли бы, поэтому он там только рассуждал на эту тему. А в стол писал другую статью – фантазии на историческую тему. И вдруг эта машина времени. Да если Сереге и в самом деле удастся ее запустить, то он, Михаил, готов стать первым человеком, который отправится в путешествие во времени, чтобы на деле проверить свою теорию. Хотя и понимал, что рисковал жизнью: ведь не известно, чем закончится этот эксперимент. Надо бы поговорить с Сергеем и убедить его установить на хронометре 14 декабря 1825 года – день восстания на Сенатской площади в Петербурге. По сути, это была попытка совершить первую русскую революцию. Революцию дворянскую. Попытка неудачная, но!.. Но вполне возможная.
Подобные же мысли одолевали и Сергея Остроумова. Он уже ясно видел свет в конце тоннеля. В том смысле, что доработка его машины времени близилась к завершению. И уже пора было подумать, в какую сторону, эпоху и местность открывать портал времени. От предчувствия удачи у него даже руки чесались, будто от чесотки. Вот только найти бы добровольца, чтобы испытать машину в деле. И тут он вспомнил о брате своей жены. Что там этот чокнутый историк говорил ему про свою идею?
На этом обоюдном стремлении они и сошлись.
– Люда, я схожу проведаю Ленку. Чего-то она звонила, просила зайти? – Михаил сделал аккуратный заход к жене.
Но у той сегодня было хорошее настроение, она расслаблено сидела в кресле и начинала смотреть по телевизору свой любимый мыльный сериал.
– Сходи. Привет ей и Сережке передавай, – безразлично ответила Людмила.
Романов даже удивился той легкости, с которой он добился согласия жены. Но, с другой стороны, Василий сразу же раскусил трюк отца. Он понял, с какой целью собирается идти к Остроумовым его отец: не зря же случайно обнаружил в углу своей комнаты за креслом собранный отцом походный рюкзак.
Поэтому тут же выскочил из своей комнаты и, в упор глядя на отца, спросил:
– Пап, а можно и я с тобой?
– А ты уроки сделал? – спросила мать.
– Сделал, мамочка, еще полчаса назад.
– Ну, сходи с папой, проведай Ниночку, – разрешила мать.
Нина – это дочь Остроумовых, его двоюродная сестра, учившаяся с ним в одном классе, но уже неделю не ходившая в школу из-за болезни. Но тут воспротивился отец: Василий сегодня был бы как раз некстати.
– И историю прочитал?
– Оба параграфа, – не моргнув глазом, ответил Василий.
– Тогда скажи мне, когда было восстание декабристов?
– Пап, но мы же пока только историю древнего мира проходим, – сконфуженно ответил ребенок.
– Шли бы вы уже скорее, – поторопила их мать. – А то отвлекаете только.
– А, нуда! Прости! Шедевр ведь смотришь.
– Я просто хочу расслабиться, – уже несколько нервно произнесла Людмила.
– Всё, всё, уходим! – поводя пару раз в воздухе ладонью, этим как бы успокаивая жену, Романов вышел в прихожую и направился к двери.
Но уже на выходе его остановил Василий.
– Пап, а ты ничего не забыл взять?
– Чего? – не понял Романов.
– Ну, там в углу в моей комнате.
Романов удивленно посмотрел на сына, улыбнулся и погрозил ему пальцем: мол, смотри у меня.
Затем они оба вошли в маленькую комнату, Михаил поднял рюкзак, а Василий помог его надеть на плечи. И, уже открывая дверь, Михаил крикнул:
– Люд, ну мы пошли!
Людмила ничего не ответила. Михаил захлопнул дверь, а Вася в это же время нажал на кнопку вызова лифта.
Но, когда они подошли к известному им гаражу и постучали, им никто не ответил.
– Хм! Не понял! – озадаченно произнес Михаил.
Он тут же по мобильнику набрал номер шурина, но в ответ было такое же молчание.
– Может, он спит? – предположил Василий.
– Как он может спать, если, во-первых, сейчас день, во-вторых, мы с ним договорились. Вот что, мелкий, ты тут постой с рюкзачком, а я домой к ним сбегаю. Ага?
– Ладно! – недовольно вздохнул Вася.
– Только отсюда ни на шаг. Понял?
– Да понял, понял я, пап.
Михаил почти бегом направился к дому сестры, а Вася, глядя ему вслед, проворчал:
– Куда я с твоим рюкзаком пойду?
Дверь Михаилу открыла Лена.
– Привет, сестричка!
– Ага! Привет! Давно не виделись. Проходи!
– Как дела тут у вас?
– Да какие у нас дела, Миш. Воюю, вот, с Сережкой. Совсем из-за этой дурацкой машинки у нас крыша поехала.
– Ну, зря ты так! Может, у него все получится и его признают гением. Ты еще мужем гордиться будешь. А где он, кстати?
– Ха! Гением! Да в поликлинику я его отправила с Ниной. Выписать ее должны.
– Выписать – это хорошо! Но Серега-то… Мы с ним, понимаешь договорились…
Михаил осекся. Он был сейчас в таком раздражении, что вся операция может сорваться, что чуть не брякнул сестре самое важное.
Елена пошла на кухню, продолжая готовку, Михаил последовал за ней.
– Ну, так бы сразу и говорил, что тебе Сережка нужен, – улыбнулась сестра. – А то, как дела, как дела.
– Да нет, мы с ним договорились встретиться, я ему на мобилу звоню, а он не отвечает. Я даже забеспокоился.
– Ну, значит, он в этот момент в кабинете у врача был, не смог ответить.
– Возможно!
И в этот момент у Михаила зазвонил телефон, он вытащил его из кармана.
– О, о волке обмолвка, а он тут как тут.
– Ну, вот видишь, живой твой Сережка.
– Вообще-то он твой, а не мой. Алло, привет, Серега! Ты где сейчас? Понял. Васька там?.. Ага! Ну и я тоже бегу… А я к тебе домой зашел, тебя ж на месте не было.
Он отключил телефон, посмотрел на сестру.
– Ну, лады, Аленка! Сережка нашелся, я бегу!
– Давай, давай, бегун!
Михаил чмокнул сестру в щеку и подошел к двери. Но не успел он взяться за ручку, как она сама открылась и на пороге появилась Нина с детским рюкзачком за спиной.
– О, Нинусик, привет!
– Здрасьте, дядь Миша, – улыбнулась девочка. Услышав голос дочки, Елена выглянула из кухни.
– Ну что, выписали тебя? – спросил Михаил.
– Ага! Завтра в школу.
– Вот и здорово! А то классная все к Василию пристает, как здоровье Нины, как здоровье Нины.
– Представляю, как у Василия уже язык отсыхать начал, отвечая на этот вопрос, – хохотнула Елена, но Михаил уже закрывал дверь квартиры и ее не слышал.
Сергей вместе с Васей находились в гараже, и когда объявился Михаил, Сергей уже заканчивал подготовку к запуску: проверял датчики, регулировал хронометр, включал и выключал тумблеры, заряжал пейджер обратной связи. Вася внимательно наблюдал за всеми процедурами.
– Надеюсь, у тебя все готово, Серега? – запыхавшийся от бега Михаил влетел в гараж.
– Да, заканчиваю уже.
– Ты даешь! Хотя бы меня предупредил, что в поликлинику поперся.
– Да Ленка пристала, сходи да сходи, мне некогда, я устала, а я за это время обед приготовлю.
– Сколько у нас времени осталось? Портал успеет открыться?
– Еще восемь минут у нас есть, так что успею тебя проинструктировать. Значит так, стой и внимательно слушай…
В этот момент Василий, направившийся к шкафу-лифту, задел пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой и на пол пролилось машинное масло, остававшееся там на самом дне.
– Блин! Василий, под ноги-то смотри, когда ходишь, – недовольно проворчал Сергей. – Вон там в углу возьми ветошь и вытри масло, чтобы не растекалось.
– Извините, дядь Сережа. Я сейчас вытру.
– Кстати, Мишель, ты что и его с собой берешь? – кивнул Сергей в сторону мальчишки.
– Ни в коем случае! Ты что! Ты его домой потом отправь и проинструктируй, что матери сказать.
– Обязательно! Так вот, слушай. Для начала, возьми вот пейджер возврата и повербанк. Он полностью заряжен.
– А это еще зачем?
– Мишель, историк ты хренов! В XIX веке электричества еще не было. А если пейджер разрядится, ты как вернуться собираешься?
– Действительно! Не подумал.
– Зато я подумал. Да, и повербанк используй только в крайнем случае для зарядки пейджера. Чтобы раньше времени не разрядился.
– Ну, это уж я соображу.
– Смотри, вот кнопка, это для связи со мной. Можешь нажать, попробуй.
Михаил нажал на кнопку и второй пейджер, встроенный в механизм машины, зазвонил наподобие будильника.
– Вот, видишь? Когда раздастся такой звонок, я пойму, что тебя нужно вытаскивать. Включу портал. Аты после этого нажимай вот на эту кнопку, – Михаил снова нажал на указанную кнопку и его пейджер завибрировал.
– Всё! Это значит, что все готово к телепортации. Луч портала раскроется, главное тебе оказаться под ним.
Пока Остроумов инструктировал Романова, Василий дочиста вытер пол, бросил тряпку в угол, под стол и незаметно остановился у двери шкафа-лифта. Затем также незаметно и тихо открыл дверцу и вошел внутрь, стараясь не дышать.
Остроумов глянул на часы и подошел к пульту управления.
– Все, Мишель. Как говорится, с богом! Пора!
Михаил подошел к шурину, они обнялись, оба были в волнении и даже сквозь одежду чувствовалось, как тело обоих покрывала дрожь. Они пожали друг другу руки, Михаил взял рюкзак и открыл дверь лифта.
– Главное, чтобы у тебя здесь все получилось, Серега.
– А у тебя там! – Остроумов кивнул головой то ли снизу вверх, то ли сверху вниз.
Дверь лифта закрылась. Остроумов включил два тумблера и повернул счетчик хронометра. Тут же люминесцентная лампа часто замигала, а потом и вовсе погасла, одновременно на моторе вспыхнула подсветка. Подул сильный ветер, словно кто-то невидимый включил вентилятор. Затем он нажал на красную кнопку на механизме управления. Ветер тут же стих. Но через несколько секунд вспыхнул яркий с голубоватым оттенком свет, следом, спустя несколько мгновений инфракрасное свечение погрузило помещение в пугающий полумрак. Однако вскоре свет от люминесцентной лампы, привинченной к стене позади, восстановился в прежней стадии. Остроумов оглянулся – Михаила в гараже не было. Значит, телепортация удалась.
Он даже подпрыгнул от радости с выкриком «йес!», и начал потирать вмиг вспотевшие ладони. Получилось! По-лу-чи-лось! В таком радостном возбуждении Остроумов даже не понял, что вместе с отцом исчез и его сын, десятилетний Василий.
Но до мальчишки ли было ему сейчас? Сергей Остроумов оказался на самом верху блаженства: он создал и привел в действие машину времени. Эй, люди вы слышите?
Ма-ши-ну вре-ме-ни!
4
Декабрьский мороз, жгучий ветер, ледяное солнце, летящая над зимником пороша и крытый кожей на деревянных подпорках с маленькими окошками с обеих сторон возок на деревянных полозьях, запряженный недавно изобретенной троечной упряжью с колокольцами и бубенцами почтовыми свежими каурой масти лошадьми, спешивший в сторону Петербурга. В возке полулежал задумчивый Пушкин, весь в мыслях о готовящемся в столице восстании. Внезапно ямщик осадил лошадей, они резко остановились, возок едва не перевернулся, встав на один полоз, и задумчивый Пушкин едва не вывалился на дорогу, больно зашибив бок.
– Какого черта! – недовольно закричал он ямщику.
– Простите, барин! Лошади зайца испугались, вот и взбрыкнули.
– Что? Опять проклятый заяц? Поворачивай назад, любезный.
– Ну как же, барин? Треть пути уже проехали.
– Я сказал, поворачивай назад, в Михайловское!
– Как скажете, барин.
Ямщик был недоволен, но делать нечего, пришлось развернуться.
У Пушкина с зайцами и в самом деле были проблемы. В декабре 1825 года он находился в ссылке в своем имении в Михайловском, но десятого числа курьер из Петербурга сообщил ему, что члены Северного общества готовятся 14-го числа выйти на Сенатскую площадь. Александр Сергеевич не мог лишить себя удовольствия не повидать друзей и не присоединиться к ним в такой день. Правда, он понимал, что рискует – ведь ему можно было передвигаться только между Михайловским и Тригорским. И, тем не менее, решил, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, и можно рискнуть поехать в Петербург. Пушкин приказал готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же поехал проститься с Тригорскими соседками. Но на пути в Тригорское через дорогу перебегает заяц; более того, на обратном пути из Тригорского в Михайловское – снова заяц!
Пушкин в досаде вернулся домой, а там ему доложили, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белою горячкой. И, в довершение всего, – в воротах он увидел священника, который шел проститься с отъезжающим барином. Слишком суеверному Пушкину все это показалось дурным предзнаменованием, и он решил остаться у себя в деревне.
Через два дня, 12 декабря он все же решил снова отправиться в столицу на перекладных, рассчитывая за двое суток преодолеть четыреста верст от Михайловского до Питера. И снова заяц перебегает ему дорогу.
Впрочем, заяц здесь был не совсем виноват: трусливому ушастику пришлось, что было мочи, удирать подальше от неведомого доселе явления – разверзшегося неба и сверкнувшего оттуда на землю полупрозрачного, серебристого луча.
Луч портала из будущего прорезал серое, тяжелое облако и через мгновение на снежной корке на самом краю лесной опушки, где чернели голые стволы деревьев, появилась круглая небольшая прогалинка, на которой и объявился Романов. Впрочем, не один Романов, а целых два. Сняв со спины рюкзак и повертев головой в разные стороны, Михаил вдруг увидел, что рядом с ним стоит и дрожит от холода его сын.
– Васька? – брови у Михаила от удивления вздернулись вверх. – Ты как здесь оказался?
– Так же, как и ты, пап, – хмыкнул мальчишка. – Воспользовался машиной времени.
– Я же тебе запретил…
– Х-ха! Так я тебя и отпустил одного! Мне, что ли, не интересно поглазеть на позапрошлый век… Но вообще-то мне холодно.
– Ну и померзни! – сердито ответил отец. – Я для тебя зимней одежды не брал.
Он склонился над рюкзаком, развязал его и стал доставать теплые вещи – свитер, куртку «Аляску» с капюшоном, зимние сапоги.
– А что ты маме скажешь, когда вернешься, если я замерзну?
– Так и скажу, замерз наш Васька в лесу.
Между тем, мороз был нешуточный. Михаилу пришлось отдать сыну свою куртку-аляску с капюшоном, а самому напялить на себя свитер, спасибо жене – связала из мохера, шапку-ушанку да перчатки. С обувью, вот, правда, накладка вышла – сапоги уж слишком велики на Василия были, а поскольку снег глубокий, была вероятность, что он не только не сможет в них передвигаться, но, скорее, даже потеряет их в каком-нибудь сугробе. Пришлось поступить так – Михаил влез в сапоги, а сыну отдал опять же теплые шерстяные носки, на которые Василий еле натянул ботинки.
Но взволновало Романова и другое: где они оказались, в каком месте, в каком времени. Ведь рядом ни дымка, ни огонька, ни человечка, а они условились с Остроумовым на Петербург 12 декабря 1825 года. И что ему сейчас делать? Куда идти?
Тут вдали замаячила какая-то кибитка, запряженная тройкой лошадей. Значит, там есть дорога. Но успеют ли они добежать до нее так, чтобы их заметили? Ведь если их не заметят, есть вероятность, что они тут, в снежной степи просто замерзнут. И все их путешествие в прошлое и гроша ломаного не будет стоить, да и Сереге как потом со всем этим жить?
– Сынок! Ноги в руки и вперед!
Романов, смешно подпрыгивая, побежал вперед. Но небольшого роста мальчишке сложнее было преодолевать сугробы и уже через несколько шагов Василий упал, уткнувшись лицом в снег.
– Пап! – крикнул он, приподнимаясь.
Но Михаил его не услышал, он смотрел на приближавшийся экипаж и махал руками, крича. Убедившись, что его все-таки заметили, он оглянулся на сына. А тот продолжал бороться с сугробами, хотя уже и поднялся на ноги. То и дело вертя головой, чтобы не потерять из виду экипаж, он вернулся назад и схватил сына за руку.
– Навязался ты на мою голову, Васька! Давай, вперед.
А ямщик и в самом деле заметил бегущего по снежной опушке человека и крикнул:
– Барин! Гляди-ко, человек нам машет. Небось, заплутал, сердешный. Подхватить, что ль?
Пушкин выглянул из укрытия, некоторое время наблюдал за приближающимся человеком, а потом заметил и второго, маленького, явно ребенка.
– Осади! – приказал он ямщику.
Тот тут же натянул поводья.
– Тпр-ру-у!
А Романов уже задыхался от тяжелого бега. Ноги поднимались с трудом. Василий снова споткнулся и упал в сугроб, на сей раз потянув за собою и отца.
Пушкин вышел из возка и с удивлением смотрел на странную парочку, точнее на то, как эта парочка была одета. Не менее удивлен был и ямщик: судя по всему, эти двое – не мужицкого происхождения, однако же, глядючи на их одеяния, и не баре. Между тем, Романовы приблизились к возку.
– Добрый день, господа! Спасибо, что не бросили нас… – начал было Михаил, но тут же осекся: удивительно знакомым ему показалось лицо этого невысокого, даже скорее маленького человека, с густыми, шикарными бакенбардами, в высоком теплом цилиндре и кафтане на меху, в высоких сапогах, подмышкой он щегольски держал трость из гибкого дерева с набалдашником.
– Милостивые государи, вы кто такие будете? – спросил Пушкин, вытащив трость из подмышки и постукивая ею по свободной ладони.
– Александр Сергеевич, если не ошибаюсь? – наконец, оправился от первоначального шока Романов.
– Он самый! – чуть приподнял Пушкин цилиндр. – С кем имею честь?
– Романовы мы. Михаил Павлович, а это мой отпрыск, так сказать, Василий.
– Гм?! Прямо-таки Романовы? Не разыгрываете меня?
– Как можно, Александр Сергеевич!
– Ну, и куда путь держите?
– Вообще-то мы должны были оказаться в Петербурге, в столице, но, видимо, слегка заблудились. И я не могу понять, где мы оказались.
– Да вы точно издеваетесь надо мной, – скорчил недовольную гримасу Пушкин. – Что значит, слегка? Знаете ли вы, судари мои, что до Питера отсель верт четыреста будет?
– Ё…кэлэмэнэ! – Романов надвинул шапку на самые брови. – Ну, Серёга, ну удружил!
– Простите, не понял, что вы сказали?
– Это я… Я возмущен своим товарищем. Он должен был доставить нас в Петербург, а забросил в эту глушь.
– Я попрошу! – возмутился Пушкин. – Да я вызову вас на дуэль, за оскорбление моего имения. Вы находитесь на землях моего имения.
В подтверждение серьезности своего намерения, Пушкин, опять заложив трость под мышку, начал снимать с левой руки перчатку.
Все это время Василий молча стоял с открытым ртом и слушал, и следил за всем происходящим.
– Прошу прощения, Александр Сергеевич! Не имел ни малейшего умысла оскорбить вас. Просто я боюсь, что мы замерзнем в этой снежной пустыне, вот и не сдержался.
– В самделе, барин! Глянь-ко, как оне одеты, – вступился за Романовых ямщик.
– И правда, что-то вы уж больно налегке. Прошу в возок, господа. Тесновато, правда, будет, но, как говорится, в тесноте да не в обиде.
Пушкин пригласил нежданных спутников в возок, а сам скомандовал ямщику:
– Гони в Михайловское!
Когда Романовы садились в возок, Василий шепотом спросил отца:
– Пап, а откуда ты его знаешь?
– Чудак, человек. Кто ж его не знает – это же сам Пушкин, – также шепотом на ухо ответил Михаил.
– А почему ты сказал, что Петербург – это столица, если столица – Москва?
Но этот вопрос уже услышал Пушкин.
– Молодой человек, видимо, не силен в географии, – усмехнулся поэт. – Столицей Российской империи является творение Петра Великого – Санкт-Петербург.
– Нет, Москва, – заупрямился Василий. – Это вы не сильны в географии…
Михаил недовольно толкнул локтем сына, с испугом глянув на Пушкина.
– А что ты толкаешься? Что я не прав?
Пушкин подозрительно начал рассматривать неожиданных спутников.
– А скажите мне, сударь, что на вас за штаны такие? Отродясь таких не видывал.
– Понимаете, Александр Сергеевич, мы прибыли сюда из будущего…
– Это обычные джинсы! – перебил отца Василий. – И, к тому же, не самые крутые.
Пушкин тут же перевел взгляд на мальчишку.
– А это что на отроке за кафтан такой, да еще и с капюшоном. Будто монах.
Пушкин стал ощупывать куртку, удивляясь ткани.
– И ничего не монах. Это обычная куртка-аляска!
– Аляска? А, помню! Это Русская Америка. Русско-американская компания. Федька Толстой-Американец рассказывал, что бывал он в этой глуши.
– Болтун он, и врун, этот ваш Федька Толстой.
– А вы почем знаете? – удивился Пушкин.
– Да уж знаю! Я же говорю, мы прибыли сюда из будущего. 14 числа декабристы должны выйти на Сенатскую площадь, чтобы не допустить вступление на престол Николая…
– Декабристы? Интересно вы их назвали… Да, а откуда у вас такие сведения? Это же все держится в страшной тайне.
– Дорогой вы наш и любимый Александр Сергеевич! Это сейчас все держится в тайне. А через пару лет это восстание начнут изучать все историки. Вот я и говорю: я хотел помочь им, да вот незадача – шурин мой вместо Петербурга телепортировал нас в Михайловское.
– Что сделал?
– Телепортировал… Ну, то есть, переправил нас из XXI века в XIX-й. Понимаете, Александр Сергеевич, у России был уникальный шанс стать вровень с самыми передовыми странами мира, превратить самодержавную монархию в конституционную. И вот я и прибыл сюда, чтобы попробовать изменить ход истории.
– Да я гляжу, вы и впрямь не от мира сего. Какие-то интересные слова говорите. Буду рад с вами познакомиться поближе.
– Александр Сергеевич, надобно в Питер торопиться! Там сейчас настоящая история творится.
– Да вот, вы же понимаете, я в ссылке. А тут еще и зайцы через дорогу прыгают.
– Да плюньте вы на этих зайцев! С вами в эти дни ничего не случится.
– Вы, прям, как прорицатель… простите, как вас… позабыл?
– Михаилом меня кличут. Романовым.
Ямщик свернул с дороги в сторону и возок помчался среди леса по гористому проселку. Кони неслись среди сугробов. Небольшой подъем в гору извилистой тропой, вдруг крутой поворот. Летом в этом месте обычно перед глазами открывается широкая зеленая поляна, окаймленная с трех сторон сосновым бором и березовыми рощами, а с четвертой замыкающаяся семьей полуторастолетних лип, на одной из которых гнездятся аисты. Гнездо, точнее, то, что от него осталось, и сейчас чернело на вершине дерева, в ожидании следующего лета и своих хозяев.
И вот неожиданно лошади вбежали в приотворенные ворота, и через пару минут ямщик осадил раздухарившихся лошадей.
– Приехали, барин!
– Да, да, я вижу.
Пушкин первый вышел из возка. Сунул ямщику полушку и жестом указал Романовым на главный дом усадьбы.
– Милости прошу, господа! Добро пожаловать в скромную семьи моей обитель. Мне интересно будет с вами поближе познакомиться.
К своему стыду, доселе Михаил так ни разу и не добирался до Михайловского, хотя во Пскове бывал неоднократно. Ничего! Зато теперь будет что порассказать, когда он вернется в свое время. Он бегло оглянулся вокруг.
Планировка усадьбы была вполне обычной, уж Михаил, историк, вполне мог в этом ориентироваться: все основные хозяйственные постройки находились в непосредственной близости от господского дома, стоявшего в центре усадьбы, обращенного южной стороной фасада с парадным крыльцом в сторону парка, а северной – к реке Сороти, укрытой нынче толстым ледяным панцирем. Сооруженный еще дедом поэта Осипом Абрамовичем Ганнибалом в конце XVIII века, был он небольшим и даже скромным по сравнению с имениями помещиков-соседей – всего лишь о шести комнатах: передней, комнате няни, спальне родителей, гостиной, столовой и кабинете Пушкина.
Перед домом расположен большой дерновый круг, который при Пушкине был обсажен декоративным венком из кустов сирени, жасмина и желтой акации. Слева от дома (если смотреть со стороны парка) стоит банька, домик няни, жившей в одной из ее комнаток – светелке. Еще левее – большой погреб с деревянной двускатной крышей. Александр Сергеевич любил по утрам «жарить» в погреб из пистолетов, раз сто, не меньше. А чуть левее погреба – крытый соломой амбарчик незамысловатой крестьянской архитектуры, типичной для Псковщины того времени.
По другую сторону господского дома расположен флигель таких же размеров, как и домик няни, кухня и людская (кухонный запах не должен досаждать господам), правее в один ряд с кухней и людской стоят еще два флигеля: дом управляющего имением Михаила Ивановича Калашникова и вотчинная контора. За этими флигелями сразу же начинается фруктовый сад.
Между яблонями – несколько колод пчел, на опушке сада – деревянная голубятня.
Неподалеку от флигелей был каретный сарай, за садом располагались скотные дворы, гумно, амбары.
На скрипнувшее от времени крыльцо выскочила в длинной телогрейке с большим турецким платком на голове, каковые тогда вошли в большую моду, который покрывал спину и затягивался узлами на плечах, старушка с морщинистым, но светящимся от радости лицом. Увидев, что вернулся ее Ангел, как она называла Пушкина, она всплеснула руками и сделала ему навстречу пару шагов, но, увидев, что Александр вернулся не один, остановилась.
– Любезный мой друг, ты все-таки вернулся.
– Да, мамушка, и как видишь, не один. Вот знакомьтесь. Это моя мама, – улыбнулся Пушкин, – то бишь няня, Арина Родионовна. А это мои случайные попутчики. Ехали в Петербург, да заблудились. Вот и пришлось мне их подобрать. Это вот господин Романов…
Арина Родионовна удивленно вскинула брови, а Пушкин засмеялся.
– Да нет, мамушка, сии Романовы не царских кровей и даже не однофамильцы, – пошутил Пушкин, чем вызвал улыбку и у Михаила.
– Весьма рад воочию лицезреть самую лучшую няню в мире, – Романов хотел было пожать Арине Родионовне руку, но та, засмущавшись лишь отмахнулась.
И тут же обратила свой взор на мальчика, стоявшего все в той же куртке-аляске, с откинутым назад капюшоном.
– Ой, а это кто же? – старушка, чуть склонив голову, глянула в упор на подошедшего к ней Василия и в глазах ее брызнули искорки радости.
– А это вот, Василий, отпрыск нашего гостя.
– А что же это на вас за одежонка-то такая? Давно живу, но такой не видывала.
– Мамушка, ты проводи гостей в гостевую, а я в кабинет заскочу и выйду.
Слуга, Пётр Парфёнов, в передней принял у всех верхнюю одежду, и гости, вслед за няней прошли в дом.
Василий, пораженный происшедшим, молча вертел головой по сторонам, не зная, что ему делать: удивляться или вести себя, как и обычно. Он пытался добиться ответа у отца, несколько раз дернув его за рукав, но тому и самому было непонятно, как себя вести. Проводив Романовых в гостевую комнату и оставив их там, Арина Родионовна направилась в столовую. Она уже была в домашнем – кофте собственной вязки и юбке по щиколотку, на голове чепец, закрывающий волосы и завязанный под подбородком.
– Я самоварчик сейчас поставлю, – засуетилась старушка, а, увидев вошедшую в дом Ольгу, черноглазую и русоволосую дочку управляющего, Арина Родионовна и ей нашла задачу. Ольга была сенной девушкой и исполняла роль гувернантки в пушкинском доме (и, по совместительству, любовницы).
– Поди-ко, Олюшка, в кухню. Барину с гостями обед приготовить надобно.
За обедом разговор возобновился. Говорили они, практически не делая пауз во время еды.
– Объясните мне все-таки, кто вы такие и каким образом оказались здесь?
– Я историк по образованию, работаю в Московском университете на историческом факультете. Живем мы с моим Васькой в Москве, в XXI веке. В 2025 году. То бишь, за двести лет вперед. У меня есть шурин, брат моей сестры…
– Ну, положим, кто такой шурин я знаю. Вы мне про подробности вашего перемещения… Как вы его назвали?
– Телепортация! – с набитым ртом, пережевывая свинину, произнес Василий.
– Понял! – кивнул Михаил. – Так вот, шурин у нас технарь.
– Кто, простите?
– Гм, да. Ну, человек, который любит заниматься техникой. Ну… пароходы, кареты – это все мы в наше время называем техникой. У нас, правда, с техническим оснащением гораздо богаче, чем в ваше время, Александр Сергеевич.
– Это я понимаю! Я люблю беседовать о технике. Да вот, хотя бы с бароном Павлом Львовичем Шиллингом. Знаете такого?
– Увы! Ничего не слышал об этом человеке.
– Ну, как же! Это же широко образованный человек, физик, между прочим, герой войны с Наполеоном, награжден орденами и саблей «За храбрость». Разработал метод электрического подрыва мин. Впрочем, продолжайте.
– Да, так вот, шурин мой задался целью построить машину времени. Ну, чтобы можно было путешествовать то в прошлое, то в будущее. Но чтобы проверить, как машина работает, ему нужен был человек. Как говорят в нашей эпохе – подопытный кролик.
– Как? Подопытный кролик? Шарман! Великолепно! – Пушкин засмеялся и захлопал в ладоши.
– А, поскольку я историк, и дело, как я уже сказал было в двадцать пятом году, я и предложил Сереге, шурину, то бишь, испытать эту технику на мне. И переправить меня ровно на двести лет назад. Я хотел немного поправить российскую историю – изменить, как говорится, ее ход. Помочь декабристам превратить самодержавную монархию в конституционную. Только вот, техника немного подвела – с годом-то он угадал, а вот с местом – не совсем. Вместо Питера оказался у вас вот, в Михайловском.
– Погодите! Вы не довольны тем, что оказались в гостях у Пушкина?
– Да что вы, Александр Сергеевич! Я даже мечтать об этом не мог. Когда мы вернемся назад, в будущее, никто же не поверит этому. Правда, мелкий?
– Ага! – Василий уже освободил тарелки и просто сидел, болтая ногами и вертя головой, не зная, можно ли ему встать. И вдруг он вытащил из-за пояса своих джинсов захваченный из дома водяной пистолет и, размахивая им перед собой, спросил:
– Пап, а пестик – это тоже техника?
Увидев оружие в руках ребенка, Пушкин тут же вскочил и отбежал к двери.
– Как же я не проверил, есть ли у вас оружие? Да я за такие шутки все-таки вызову вас на дуэль.
У Михаила от неожиданности округлились глаза. Он протянул руку к сыну и отобрал пистолет.
– Ты зачем его взял? – с ужасом в голосе спросил он.
– На всякий случай, – пожал плечами мальчишка.
Михаил сунул пистолет в карман и виновато посмотрел на Пушкина.
– Простите, Александр Сергеевич. Я даже не знал, что у этого мальчишки на уме и что он взял с собой пистолет. Я ведь даже не собирался его брать с собой, он украдкой в лифт вошел. А что касается этого оружия. Это водяной пистолет, для людей не опасный.
– Что значит, водяной? – Пушкин все еще стоял у двери.
– Ну, вместо пуль в нем вода. Ты его заправил водой? – строго спросил у сына Михаил.
– Конечно!
– Вот и отлично! Вот, смотрите, как он действует.
Михаил лихо вытащил из кармана пистолет и, направив его на сына, нажал на спусковой крючок. Струя холодной воды тут же окатила мальчишку, тот от неожиданности сначала замер, затем вскочил и закричал:
– Зачем ты так, папа? Я же теперь мокрый.
– Ничего! Тебе полезно. Это в наказание за то, что ты без спроса и разрешения в лифт телепортации залез.
Пушкин засмеялся, захлопал в ладоши.
– Черт, как интересно! Charmant! Ну-ка, можно мне посмотреть?
– Пожалуйста!
Михаил протянул пистолет Пушкину, тот с интересом рассматривал его, вертя в разные стороны, а затем также неожиданно направил ствол на Михаила и нажал на курок. Михаил от неожиданности вскрикнул, и быстро увернулся от следующей струи. Пушкин захохотал и подмигнул Василию. Мальчишка тоже засмеялся.
– Один-один, папа!
Пушкин вернул пистолет Василию, но погрозил ему пальцем:
– Больше так не шути! А тем более в наших краях. От неожиданности тебя могут и застрелить. У нас с этим делом быстро!
Василий взял пистолет и снова засунул его за ремень.
– Ну что же, пойдемте ко мне в кабинет, и там продолжим беседу.
– С удовольствием, Александр Сергеевич, – но тут же остановился и посмотрел на сына. – А может его куда-нибудь… с кем-нибудь… Ну, короче, чтобы нам не мешал.
– А, это я сейчас устрою! Мамушка, – позвал он няню и когда та появилась, Пушкин указал ей на Василия. – Мамушка, развлеки мальца, пока мы побеседуем. Да, и переодеть его надобно. А то он и мокрый, и в одежке странной.
– Так я и сама хотела тебе то предложить, любезный мой друг. Пойдем-ка, голубчик. Познакомлю тебя с нашими.
Няня с Василием ушли, а Пушкин повел Михаила в свой кабинет. Романов шел туда не без внутреннего трепета. Рассматривал обстановку.
Вся мебель, какая была в доме, была еще дедовская, ганнибаловская. Пушкин себе нового ничего не покупал. Да и мебели было немного, и вся обстановка комнат была очень скромной.
Кабинет Пушкина как раз и примыкал к столовой. Кабинет был возле крыльца, с окном на двор. Таким образом, туда можно было войти и через коридор. В этой небольшой комнате помещалась деревянная с двумя подушками кровать с пологом, посередине комнаты письменный стол, на котором он писал и не из чернильницы, а из помадной банки. На столе, рядом с подсвечником на четыре рожка лежали ножницы для снимания нагара со свечей, в металлическом стакане гусиные перья, рядом с чернильницей песочница с пыльцой для посыпания свежих чернил. И листы, много листов, исписанных стремительным пушкинским почерком. Кроме этого, еще напротив письменного стола, у стены стоял диван и шкаф с книгами. На диване лежал пистолет, из которого поэт и упражнялся в стрельбе. Над диваном на стене на бронзовой цепочке подвешен старинный медный охотничий рог, подаренный Пушкину одним из соседей-помещиков.
Книг было немало и разнообразной тематики (не только художественные), что весьма удивило Романова. Пушкин, получая много книг в своей михайловской ссылке, с упоением и без устали занимался самообразованием. Он всегда живо интересовался и прекрасно разбирался в сложных и подчас новых вопросах политики, искусства, литературной жизни, философии и истории того времени.
Рядом с книжной этажеркой на стене висел знаменитый портрет Василия Жуковского, который Жуковский подарил Пушкину, надписав: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму Руслан и Людмила. 1820 марта 26».
Во всем – поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах).
В левом, противоположном от окон углу кабинета камин, облицованный белыми изразцами. В камине на металлической решетке-поддувале лежат каминные щипцы с длинными ручками и горка погасших углей. На выступе камина, рядом с расшитыми цветным бисером табакеркой и шкатулкой, небольшая фигурка Наполеона со сложенными крест-накрест руками и нахмуренным лицом. Скульптура французского императора была почти обязательной принадлежностью кабинета либерального дворянина того времени.
Взгляд Романова упал на пистолет поэта, он улыбнулся и посмотрел на Пушкина.
– Что вызвало вашу улыбку?
– Да вот посмотрел на ваш пистолет и вспомнил, как давеча вы несколько раз пытались вызвать меня на дуэль.
– И зря улыбаетесь! Я весьма серьезно отношусь к вопросам дуэли.
– Нет, нет! Я не в том смысле, дорогой мой Александр Сергеевич. Вы известный бретёр. Могу даже сказать с высоты будущего, что вы за свою жизнь более трех десятков раз готовы были стреляться на дуэли, она же вас…
Романов осекся. Не решился произнести последнюю фразу. Но, к счастью, Пушкин на ней не акцентировал свое внимание.
– Неужели? Вот интересно! Может расскажете, с кем и когда я стрелялся.
– Не расскажу, Александр Сергеевич. Всему свое время. Пусть все у вас идет, как и должно.
– Отчего же тогда улыбнулись?
– Да вот, вдруг сообразил, что вы такой опытный бретёр-дуэлист, а хотели вызвать меня на дуэль.
– И в чем же здесь закавыка?
– Вы же, наверное, хорошо знакомы с дуэльным кодексом?
– Еще бы!
– Тогда как вы, дворянин, хотели вызвать меня, разночинца, простолюдина? Ведь на дуэль можно вызвать только равного.
– Логично! Ну, тогда я просто велел бы тебя высечь! – Пушкин незаметно перешел на «ты».
– Опять нельзя!
– Что нельзя? Почему?
– Я же не крепостной мужик.
Пушкин с ернической улыбкой посмотрел на Михаила.
– А ты не так прост, как мне показалось, Романов.
– А то! Впрочем, у нас не так много времени, Александр Сергеевич. Давайте перейдем к делу.
– Давай! Садись на диван, Романов, и рассказывай свой план.
– Значит, так!..
Михаил заранее, еще у себя дома обдумал до мелочей план переворота, поэтому он, не торопясь, детально обрисовал Пушкину всю картину.
– Ты думаешь, получится? – иногда прерывал его Пушкин.
– Уверен!
И он продолжал рассказ дальше, поражая Пушкина знанием всех деталей заговора.
Время летело гоголевской птицей-тройкой. И лишь, когда в Михайловском совсем стемнело и Пушкин зажег все четыре свечи в подсвечнике, в кабинет осмелилась заглянуть Ольга.
– Барин, няня спрашивает, когда ужин расставлять?
– Не до этого нам сейчас, – отмахнулся Пушкин, даже не повернув головы в сторону девки.
5
Василий к вечеру сильно устал, но был доволен: няня с помощью управляющего Михайлы Калашникова организовала мужицких детей, игравших с незнакомцем в снежки. Лепили снежных баб, дурачились. Поначалу крестьянские дети вели себя с барчуком очень скованно и осторожно – мало ли, что ему взбредет в голову. Но дети есть дети – спустя некоторое время, все сдружились с Васей и чувствовали себя с ним на равных.
А потом Василий, уставший, вспотевший, в мокром зипуне, которым его одарил Калашников, вошел в комнату Арины Родионовны и спросил:
– А где папа?
Старушка, сидела в стареньком кресле с чулком в руках в окружении дворовых девушек, занимавшихся рукоделием и мелким ремеслом. Вдоль одной стены – длинная и широкая деревянная лавка, на которой и сидели сенные девушки, а перед ними в ряд стояли прялки с куделью и веретенами, коклюшки для плетения кружев. Перед креслом – небольшой столик, покрытый скатертью крестьянской домотканой работы, на стене висели расшитые холщовые домотканые полотенца. На столе и в старинном крестьянском шкафчике – самовар и кофейник, посуда, поднос, шкатулка для хранения чая; у печи – связка ключей: ведь няня была хозяйкой этого дома в пору михайловской ссылки Пушкина.
– У папы с барином важная беседа, не велел прерывать, даже вечерять отказались, – ответила Арина Родионовна. – А мы с тобой сейчас как раз и пойдем в столовую, отведаем, чего бог послал, да баиньки ляжем.
– Ну-ка, девки, бегите к повару, – велела она одной из швей, та молча встала, и вышла.
– Я без папы не лягу.
– О, а я тебе такую сказку расскажу. Какую даже ангелу моему, Сашеньке, не сказывала в твои годки-то.
Рядом с комнатой няни была просторная комната, которую занимали родители Пушкина во время своих приездов в деревню, поэтому она и называется спальней родителей. Сейчас же она пустовала. Комната, как и все помещения в этом доме, была довольно скромно обставлена – кровать, диван, столик, бюро, стулья…
Здесь и велел Пушкин няне расположить гостей. Пока Василий ужинал, Арина Родионовна самолично взбила перину и постелила чистое белье.
Мальчика от перенесенного стресса (а разве не стресс – перенестись на двести лет назад, такое и не каждый взрослый выдержит), долгого гуляния не свежем воздухе и хорошего ужина явно клонило ко сну. Но он сопротивлялся желанию, хотя часто зевал и потирал кулаками раскрасневшиеся глаза.
– Вот и любо! Вот и молодец! Ложись, и слушай, что я тебе скажу.
Арина Родионовна зажгла две свечи в светильнике. Вася разделся, оставшись в трусах и майке, чем необычайно удивил няню.
– Ой, батюшки! И что же это на тебе за портки такие смешные да короткие?
– Это не портки, это трусы.
– Трусы? Небось, снова в европах изгаляются. Надобно у Александра Сергеевича спросить. Чтой-то я такого не слыхивала и не видала. И тебе в них не холодно?
– Ха! Так я же поверх трусов, штаны еще надеваю.
– А, ну ладно, коли так.
Она перекрестила мальчика, накрыла теплым пуховым одеялом, взяла в руки спицы, недовязанный чулок и, удобно устроившись в кресле, начала свой сказ:
– Ты засыпай, а я святочную тебе расскажу.
Василию было немного страшновато: в большой комнате царила полутьма, кроме свечей, лампадка горела в углу под иконой, обрамленной вышитым рушником. Но тихий, ласковый голос старушки его успокаивал.
– У одной крестьянки было два сынка. Старшой, Данила, и послушен был, и умён, батюшке в хозяйстве помогал он день-деньской. А меньшой сын, Ванюша, был, баловник, проказник и неслух. Ни минуточки на месте никогда не посидит, всё резвится да шалит. Раз, проснувшись спозаранку, тесто ставила крестьянка. Но надо же такому случиться: меньшой проснулся и хвать кота за хвост, а опосля побёг за ним и опрокинул ей горшок. Мать осерчала не в шутку, кричит Ванюше вдогонку: «Что ты наделал, посмотри! Лукавый тебя забери!» Только мать это сказала: глядь, а сынок-то и исчез, как не бывало. Мать глазам не поверила, стала кликать сына, по углам шарить. Нет его нигде и всё тут!
И вдруг слышит, будто в бане громко плачет Ваня. Мать, отчаянно крестясь, шепча молитвы, кинулась к бане. Но и там нету мальца-сорванца. И тут снова слышит, будто в риге Ваня горько плачет. Бросилась туда, пока добежала, плач послышался у пруда. Мать остановилась, стала молиться: «Господи, где мальчик мой? Прости мне все мои согрешенья, не лишай на старости утехи. Спаси мое дитятко!»
И тут Василию даже жутковато стало. Казалось бы, стольких ужастиков он насмотрелся и по телевизору, и в интернете, но, оказалось, что самая обычная сказка, правда, рассказанная необычной старушкой, может так напугать десятилетнего мальчишку. Какое уж тут заснуть, тут бы не расплакаться.
– Мать не устает просить господа, бьет поклоны до самой земли, а на челе ее холодный пот крупицами выступил. Даже лишний раз вздохнуть боится. И вдруг глядь – малец ее здесь! Но он был не в шутку перепуган, жаловался матери: «Матушка, где меня только не носило: в баню, в ригу, к пруду. Я боялся упасть. А кругом огни-огни, много огней, а злобные глазищи бесов так и рыщут за мной. Страшно мне стало, к худшему уже приготовился. И вдруг огни враз потухли. Вижу, голубком слетел с небес добрый ангел, и запел мне чудную песню, а затем принес меня к тебе».
Василий успокоился и вновь закрыл глаза.
– Мать принялась родное дитя обнимать, целовать, хвалу и славу господу воздавать. И с тех пор зареклась поминать чертей лукавых. И стали они с тех пор дружно всей семьёй жить да поживать… А тебе, Васенька, спать уж пора.
Арина Родионовна глянула на мальчика, а он уже и в самом деле засопел. Она встала, поправила одеяло, затушила свечи, прикрутила лампадку и тихо вышла из спальни, вернувшись в свою комнату.
В этот момент к ней и заглянул Пушкин. Они заговорились с Романовым до позднего вечера, а потом вдруг Михаил вспомнил про сына.
– Я думаю, им нянюшка моя занимается. С ним все в порядке будет. Но пойду, все же проверю.
– Где малец, мамушка?
– Так спит уже, друг мой. Сказочку мою послушал и заснул.
Пушкин подошел к няне, нежно обнял ее и поцеловал в щеку. Затем со спокойной душой вернулся в кабинет, где дожидался его Романов.
Главная няня русской литературы вообще появилась в доме Пушкиных в качестве няньки старшей сестры и младшего брата поэта – Ольги и Льва. А за маленьким непоседливым Сашей поначалу смотрели две другие женщины и дядька Никита Козлов, провожавший потом гроб с телом поэта в последний путь. И все же только ее Пушкин звал своей няней, ей посвящал стихи, ее образы, рассказываемые в сказках и небылицах, Пушкин использовал затем в своих произведениях. Арина Родионовна воспитывала всех подопечных барских детей по-русски. Она умела задушевно рассказывать были и небылицы, страшные истории, сказки, знала народные поверья, сыпала пословицами и поговорками. Ее любили слушать не только дети, но и вся домашняя прислуга. Именно в этот период юный Саша впервые услышал и про избушку на курьих ножках, и сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Ведь до начала общения с ней Пушкин практически не говорил по-русски, а слышал один лишь французский язык. Вплоть до своего поступления в лицей, Пушкин жил под одной крышей с Ариной Родионовной.
Однако особая близость между Пушкиным и Ариной Родионовной Яковлевой сложилась как раз в описываемое время, во время его двухгодичной ссылки в село Михайловское Псковской губернии, начиная с июля 1824 года. И постаревшая няня с радостью его встретила. В Михайловском Арина Родионовна не просто стерегла усадьбу, но и вела все господские дела. Они вместе коротали вечера. Няня усаживалась к столу со своими вечными чулками или с прялкой и под бойко бегающее в ее руках веретено сказывала свои сказки – певуче, просто, что, по свидетельствам самого поэта, получалось у нее превосходно. Он часто приходил в ее маленький домик, стоящий рядом с господским, порождая легенды о том, что Пушкин даже жил не у себя, а в «домике няни». В письме знакомому Пушкин писал в декабре 1824 года: «… вечером слушаю сказки моей няни…; она единственная моя подруга – и с нею только мне не скучно».
6
Людмила Романова неспроста была в хорошем настроении – директор вчера поощрил ее, выписал премию за удачно проведенную сделку. Она никому об этом не сказала, но, досмотрев свой сериал, решила сходить в магазин, купить торт и двухлитровую упаковку сока. Вот Васька обрадуется! Сладкоежка маленький.
Она открыла дверь, быстро, не раздеваясь, прошла на кухню, спрятала торт и сок в холодильник и, вернувшись в прихожую, разуваясь и снимая плащ, позвала:
– Вася! Ты дома? А у меня сюрприз.
Но никто не откликнулся. Не пришел еще, что ли? – подумала Людмила.
– Миш! – позвала она мужа, но и этот ее зов остался без ответа.
Странно, этот должен был уже прийти. Она обошла обе комнаты – в квартире никого не было. Что бы это значило?
Она взяла мобильник и набрала номер Михаила: в ответ – тишина (абонент недоступен или находится вне зоны действия сети). Тогда решила позвонить сыну. Но, к ее удивлению, она услышала звонок в комнате Василия. Не отменяя вызов, снова вошла в комнату сына и застыла в удивлении – телефон вибрировал и вызванивал, лежа на парте.
Людмила уже начала волноваться. Выглянула в окно, глянула на детскую площадку, где играли, шумя и веселясь несколько детишек, примерно одного с Васей возраста. Она их всех знала, но Василия среди них не было. Позвонила Остроумовым. Трубку взяла Елена.
– Алёнка, привет! Это Люда! У вас, случайно, моих Романовых нет?
– Привет! Да нет! Могли быть в гараже, но Сережка уже дома, вон, сидит. А что случилось, Люд?
– Странно! Миша мне говорил, что ты ему звонила и просила зайти.
– Я? Я с ним вчера вообще не разговаривала? Может, Сергей ему звонил? Так что случилось-то?
– Да, понимаешь, после обеда Мишка сказал, что пойдет к тебе, а с ним и Вася напросился. Вот, с тех пор как ушли, так и не появлялись. Василий даже телефон дома оставил, а у Мишки абонент не доступен. Ладно! Подожду еще. Объявятся.
– Погоди, Люд, я у Нины спрошу… Нина! – Елена позвала дочь, та тут же отозвалась из своей комнаты. Она листала страницы тик-тока.
– Что, мам?
– Ты Васю не видела?
– Не-а!
– Ладно, прости, Алёна.
Людмила отключила телефон и некоторое время озадаченно стояла и думала, что делать. Где бы могли быть ее мужчины? Может, в кино пошли, или в спортзал? Завтра воскресенье, уроки делать не нужно.
Людмила вздохнула и пошла на кухню разогревать себе ужин.
Но и к вечеру ни Вася, ни Михаил не объявились. Людмила уже не находила себе места. Позвонила еще одной мамаше Васиного одноклассника Дениса Свиридова, мальчишки дружили с первого класса. Может быть, хоть он что-то знает. Мать передала Денису трубку, и тот спокойно ответил:
– Нет, теть Люда, не знаю, где он. Он мне сегодня даже не звонил и ничего не говорил.
Людмила отключила телефон.
Нервная дрожь покрыла тело Людмилы. Нервно вышагивала по комнате, соображая, что делать. Наконец, снова взялась за телефон, решила обзвонить больницы. В общей справочной ответили, что Вася Романов, десяти лет, ни в одну из больниц города не поступал. Людмила набросила плащ, сунула ноги в туфли и в расстроенных чувствах помчалась к Остроумовым, благо дома их стояли недалеко друг от друга.
– Сереж, может хоть ты знаешь, где мои мужики?
За день Сергей уже придумал отговорку для Людмилы, поэтому ответил сразу:
– Мишка ко мне заходил сегодня днем. Сказал, что должен куда-то уехать на несколько дней, просил тебя предупредить, да я забыл.
– Странно! А сам он не мог мне это сказать? И потом, что за срочная поездка в субботу?
– Понятия не имею. Как-то загадочно мне сказал: хочу, мол, Людмиле сюрприз сделать.
– Спасибо, сделал! – хмыкнула Людмила. – А может, ты еще скажешь, и где Вася?
– А что, и Васьки тоже нет? – искренне удивился Сергей. – Про Василия я ничего не знаю.
И тут до Сергея дошло: когда он открыл портал в прошлое, Василий куда-то исчез. Неужели незаметно залез в лифт? Да, но как об этом сказать Людмиле. Она ведь точно подумает, что у меня кукуха поехала.
А Людмила в полной растерянности переводила взгляд с брата на золовку, и готова уже была расплакаться. Лицо ее покрылось красными пятнами.
– Звони в полицию! – посоветовала Елена, но тут же поняла, что Людмила сейчас разрыдается. – Пойди в комнату, сядь и успокойся. Я сама позвоню. Сереж, посади сестру на диван. Не дай бог, упадет.
Сергей, чувствуя себя безмерно виноватым, подошел к сестре, взял ее под руку.
– Пойдем, Люд!
– И накапай ей валерьянки! – сказала Елена, дожидаясь ответа дежурного полицейского. – Алло! Здравствуйте! Скажите, что нам делать? У нас мальчик пропал, десяти лет…
– Валерьянки, валерьянки, сама ее выжрала, когда уроки с Нинкой делала, – Сергей перебирал пузырьки в аптечке. – Постой, вот, валосердин нашел. Получше всякой валерьянки. Посиди, Люд, я за водой схожу.
Людмила лишь молча кивнула.
Елена закончила разговор с дежурным полицейским и вошла в комнату, продолжая держать в руках телефонную трубку.
– Поехали, Люда.
– Куда?
– В полицию. Сказали, нужно прийти заявление написать. Да, и описать, в чем Вася был одет.
– О боже! Да откуда же я знаю, в чем он был одет? Он у меня уже самостоятельно одевается, как ему нравится. Это же современные дети.
7
Если бы Пушкин лично не удостоверился в том, что он в самом деле беседует с пришельцем из будущего, он бы не поверил всему тому, что рассказал ему Романов о самом восстании, и о судьбе участников двух обществ – Северного и Южного. Особенно подействовали на поэта его же собственные стихи, точнее, эпиграмма, которую он еще не написал, но которые ему процитировал Михаил Романов о своем однофамильце Николае Романове:
– Едва царем он стал,
Как разом начудесил
Сто двадцать человек тотчас в Сибирь сослал
Да пятерых повесил.
– Узнаю себя, мой стиль! – усмехнулся Пушкин. – Неужели это я так о Николае Павловиче?
– Увы! Но это правда. Как правда и то, что он вас пожалеет, и не отправит в Сибирь вслед за вашими друзьями. Правда, ссылки вам все равно избежать не удастся, с той лишь разницей, что вы окажетесь не на севере, а на юге.
– Забавно! А можешь ли ты еще что-нибудь рассказать о моем будущем?
– Стоит ли, Саша?.. Ой, простите! – Романов прикрыл рот ладонью, испугавшись своей фамильярности.
– Нормально! – улыбнулся Пушкин. – Мы же приблизительно одного возраста, ты даже постарше будешь. Так что, вполне можем, безо всяких обид, перейти на «ты». А что касается – стоит или не стоит, то скажу так: так нечестно.
– Что нечестно?
– Ну, ты знаешь мое будущее, а я даже о твоем настоящем не имею ни малейшего представления.
– Ну, хорошо! Кое-что могу рассказать.
Пушкин удобно развалился в кресле и приготовился слушать. Романов минуту думал, что же он может раскрыть поэту о его будущем.
– Только позволь мне, Саша, все-таки полностью не раскрывать всю правду, а говорить с некоей загадкою?
Пушкин недовольно поморщился, но все же согласился.
– Ладно! Загадки я люблю.
– Ну, скажем, через пару-тройку лет, ты сначала будешь, как ты сам об этом выразишься: «Я влюблен, я очарован, в общем, я огончарован!»
– Это о ком?
– Ну, ты же мне разрешил говорить загадками. Больше я тебе здесь ничего не раскрою. Добавлю лишь, что ты женишься и у тебя будет четверо детей: Сашка, Машка, Гришка, Наташка.
– Шарман! – захлопал в ладони Пушкин. – Еще хочу!
– Нет, Александр Сергеевич! Нужно дело делать! Я для этого и прибыл на двести лет назад. Иначе мы упустим время.
– Согласен! – вздохнул Пушкин. – Завтра же с утра едешь в Питер. Сейчас я сделаю тебе подорожный билет, без которого тебя в столицу на заставе не пустят. Да и на почтовой станции тебе никто лошадей не поменяет. На ночь остановишься в Луге. И письмо напишу друзьям. Подумаю, кому. А, знаю! Конечно же, Кондрату Рылееву!
Они проговорили еще несколько часов. Наконец, Пушкин устало потянулся, зевнул, прикрыв рот ладонью.
– Вот что, друг мой, Романов! Надобно нам поспать хотя бы пару часов перед дорогой.
– Это верно! Отдохнуть не мешает. Куда прикажете, барин, следовать? – улыбнулся Михаил.
– В спальню родителей. Там уже и Василий твой отдыхает. Сейчас кликну слугу или няню.
– Зачем! Раздеться я и сам могу. Ты только покажи, куда идти.
– Да вот, прямо напротив кабинета.
Проводив Романова, Пушкин, однако, задержался в кабинете. Решил написать письмо Рылееву, чтобы принял, выслушал и послушал Михаила Романова. Затем сел выписывать подорожный билет, причем, задним числом и слегка измененным почерком на имя крепостного Прасковьи Александровны Осиповой, тетушки Пушкина:
«Билет. Сей дан села Тригорского человеку…»
Он мотнул головой и тут же передумал: решил и себя вписать в подорожную. Не мог он оставаться в стороне, когда в столице разворачивается такое действие. Пушкин разорвал лист, бросил его на пол, достал другой и снова начал писать, замаскировав себя под одного из тригорских крепостных Алексея Хохлова, правда, прибавив себе года три, Романова же выдал за михайловского садовника Архипа Курочкина:
«Билет. Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 арш. 4 вер., волосы тёмнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 арш. 9 в., волосы светлорусые, брови густые, глаза… – Пушкин задумался, вспоминая, какого цвета глаза его и Романова, вспомнил, продолжил писать, – серые, бороду бреет, лет 32, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С. Петербург по собственным моим надобностям и потому прошу Господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск.
Сего 1825 года, Декабря 12 дня,
село Тригорское, что в Опочецком уезде.
Статская советница
Прасковья Осипова».
Пушкин приложил свою печать, подделал тетушкину подпись, еще раз перечитал написанное.
– Ничего, тетушка не обидится, а коли и узнает – не рассердится, поймет.
Одно дело сделано. Осталось написать письмо Рылееву, да и отдыхать.
«Милый мой Рылеев!
Прошу внимательно отнестись к словам подателя сего письма. Это человек весьма начитанный и посвященный во все тайны Союза спасения и Союза благоденствия. Он тебе сам все расскажет. Только прошу тебя снова и снова, будь внимателен к его словам и сделайте так, как он скажет. И не воспринимайте его, ты и остальные, умалишенным. Если получится, то у нас появляется шанс избавить Россию от самодержавия.
Прощай, мой милый, что ты пишешь?»
Однако, утром, проснувшись и позавтракав, Романов не согласился с тем, чтобы Пушкин отправился вместе с ним в Петербург:
– Пойми, Саша, я не могу на сто процентов гарантировать успех своей миссии. А ежели так, то не могу подвергать тебя, светило русской литературы, риску. Слишком жесток Николай, чтобы надеяться на его благосклонность. Коли уж он не пожалел князей с графьями, не думаю, что он пожалеет тебя. Ты же сам в одном из вариантов своей эпиграммы напишешь о нем: «С ног до головы – детина, с головы до ног – скотина». А вот если наше мероприятие увенчается успехом, буду рад встретиться с тобой в освобожденной от самодержавия столице.
Пушкин нервно вышагивал по кабинету, сломал несколько гусиных перьев, лежавших в беспорядке на его конторке. Но, в конечном итоге, согласился, однако спросил:
– Сына с собой возьмешь?
– Разумеется! Куда же я без него.
– Я дам вам на дорогу четыреста рублей, этого должно хватить. Кибитку также дам свою. Коней почаще меняйте, решительней требуй. И не поддавайся на всякие уловки смотрителя. Меня однажды станционный смотритель облапошил – двести рублей почти переплатил. На ночлег остановитесь в Луге, это почти на середине пути.
Своя кибитка позволяла ускорить поездку – дабы не перекладывать всякий раз скарб из одного места в другое. А вот лошадей лучше использовать казенных, почтовых, дабы не загонять своих. Вот за лошадей и взымались прогонные деньги – за каждую лошадь и версту. Пробег лошадью одной версты стоил в зависимости от тракта от восьми до десяти копеек.
8
Почти двое суток на перекладных добирался Романов до столицы. То ли дело цивилизация – сел на самолет, часа полтора – и ты из Москвы в Петербурге. Да и на поезде, на «Сапсане» немногим дольше. И это шестьсот верст. А в девятнадцатом веке четыреста верст не всегда и в двое суток преодолеешь.
Русские дороги! Одна из бед России по меткому выражению одного из острословов пера. И, кажется, от нее никогда не избавиться. Из-за плохих дорог часто ломались экипажи, особенно заграничные, выписанные, не рассчитанные на большие расстояния и плохие дороги. Даже летом путешествовать оказывалось нелегко, не говоря уже о весенней и осенней распутице.
Спасает лишь то, что Россия – страна северная. И когда наступала зима, а дороги покрывало крепким снежным настом, укрывавшим собою все выбоины и колдобины, все неровности и шероховатости, тогда-то и наступала настоящая вольница для возниц, настоящее приволье для путешествующих. Вот именно езда по зимникам и дала возможность Гоголю, устами одного из своих героев, восхищенно воскликнуть: «И какой же русский не любит быстрой езды!» На тройке, с колокольчиками! А порою и под томную песню ямщика. Одно удовольствие! Да и для тела полезно – быстрая езда придавала энергию и отвагу для организма. Звон колокольчиков на больших дорогах помогал не сбиться с пути, предупреждал, когда надо было разминуться со встречной почтой.
Впрочем, несмотря на состояние дорог, ездили относительно быстро благодаря необыкновенному искусству ямщиков. Скорость передвижения на дорогах России поражала и пугала иностранцев. Существовали правила, по скольку верст в час ямщики могли возить «обыкновенных проезжающих». Так, в осеннее время полагалось везти восемь верст в час, в летнее – десять, а в зимнее, по санному пути – двенадцать. Обычная скорость при гоньбе па почтовых днем и ночью составляла около ста верст в сутки. Но, договариваясь с ямщиками, путешественники проезжали по зимней дороге в сутки и по двести верст.
На всех трактах для перемены лошадей и отдыха были устроены почтовые станции. Каждая из них имела определенное количество лошадей и экипажей в зависимости от разряда, к какому она принадлежала. Станции первого разряда строились в губернских городах, второго – в уездных. Небольшие населенные пункты имели станции третьего и четвертого разрядов с небольшим количеством лошадей.
С конца XVIII века все почтовые станции в России строились по типовым проектам и в Центральной России располагались примерно на расстоянии от 18 до 25 верст. Любую почтовую станцию было видно издалека – обязательный белый фасад и неизбежный римский портик с деревянным выбеленным фронтоном и оштукатуренными колоннами. Да и вообще, классическая колонна в прежние века была опознавательным знаком любого общественного здания в России. Это как клеймо на теле раба.
Проехав этот путь и доставив почту или людей до следующей станции, ямщик с лошадьми возвращался обратно. А все главные дороги были размечены верстами. Через каждую версту ставился столб с цифрами. На одной стороне столба обозначались версты пройденные, на другой – оставшийся путь до конечного пункта.
До Пскова по знаменитой Порховской дороге, построенной всего чуть более чем за полвека до описываемых событий вдоль левого берега реки Шелони, наши герои мчались, что называется, быстрее ветра. С билетом проблем не было, шлагбаумы на заставах открывались быстро, станционные смотрители меняли лошадей практически сразу – благо, никаких важных персон, фельдъегерей и срочной почты в ту пору в направлении Петербурга не было. И все это время стоически вел себя десятилетний Василий, периодически то засыпавший, уткнувшись в отцовский бок (выехали-то ведь довольно рано), то выглядывавший в окошко, когда кибитка подпрыгивала на каком-нибудь ухабе, либо ямщик слишком резко завернул лошадей. Мальчик помнил бабушкину присказку: назвался груздем, полезай в кузов. Ведь сам же захотел нырнуть в прошлое вместе с отцом, и нечего жаловаться на усталость или неудобства. В иное время года, конечно, дорога была бы привлекательней, а сейчас, зимой, куда ни кинешь взгляд – снежные заносы, снежные поля, черный, обнаженный лес.
А вот под Псковом, на почтовой станции второго разряда Кресты со стойлами на тридцать шесть лошадей произошла небольшая заминка. Кстати, Кресты – одно из образцовых в коммерческом смысле поселений – там предприимчивый купец немец Шитт построил рядом со станцией двухэтажную гостиницу и имел от нее порядочный доход. В ней он частенько устраивал танцы, и сюда повеселиться ездили даже псковичи из города.
Почтовая станция располагалась на северном въезде в город, а главным фасадом повернута в сторону Киевского тракта. Это было одноэтажное, прямоугольное в плане здание. Со стороны дворового фасада к нему примыкало по оси главного входа меньшее по объему прямоугольное же в плане помещение, соединенное с главным коротким, но хорошо освещенным переходом. Стены здания кирпичные, перекрытие – плоское, кровли четырехскатные. Главный фасад станции имел семь осей. Его оконные проемы имеют стрельчатые завершения, а противоположного, дворового – лучковые. Наличники в виде плоских тяг присутствуют только на окнах главного фасада. Центральная часть главного фасада подчеркнута ризалитом со ступенчатым парапетом над ним. Центральный проем главного фасада ведет в большой зал, вытянутый по всей длине фасада. Тремя дверными проемами главный зал сообщается с двумя другими основного здания, связанными между собой. Из перехода в малый объем с единственным помещением находился выход во двор. Слева от станционного дома располагались кухня, ретирада для ямщиков, комната станционному смотрителю; справа – погреб, амбар, навес для экипажей. Замыкала двор длинная конюшня. Посреди двора был устроен колодец.
Внутри же дома потолок и стены были расписаны в итальянском стиле, мебель обита кожей, стулья с соломенными сиденьями были довольно опрятны. Везде расставлены большие диваны, могущие заменить кровати, которыми, впрочем, лучше не пользоваться из-за нашествия клопов. Почтовые станции такого рода, хотя и менее изысканные, устроены на протяжении всего пути из Петербурга в Москву и содержатся за счет правительства.
Когда Романовы, расплатившись с ямщиком (обязательные шесть копеек на водку), вошли в здание почтовой станции, неожиданно стали свидетелями необычной картины. Некий молодой офицер в чине поручика на повышенных тонах разговаривал с немолодым, лысоватым с седым загривком и такими же седыми, но пышными усами, невысокого роста сухощавым мужчиной в зеленом кафтане.
– Ведь ты врешь, каналья, что у тебя нет лошадей. Сам видел – конюшня полна.
– Простите, ваше благородие, но мне приказано беречь лошадей для казенных нужд, – негромко и даже как будто виновато отговаривался станционный смотритель. – А у вас даже и денег нету, чтобы оплатить подорожную.
– Я же тебе сказал, каналья, как только прибуду к месту службы, тотчас же пришлю к тебе оплату сполна.
– Мне запрещено его превосходительством выдавать казенных лошадей в долг.
Поручик уже был явно на взводе, упрямство смотрителя его подбешивало. К тому же, он был не совсем трезв. Он не выдержал: сначала дал ему одну пощечину, затем еще и еще, пока, наконец, в зал не вошел еще один офицер, штабс-капитан и не схватил поручика подмышки.
– Мишель, успокойся. Поди в гостиницу.
Он его вытолкал на улицу, а сам тут же подошел к стоявшему с красным лицом и дрожавшему всем телом смотрителю.
– Ты прости его, братец! Проигрался он в карты вчистую, вот и нервничает.
– Я подам жалобу на поручика его превосходительству и потребую взыскать с него за бесчестие мое.
– Да брось ты это дело, голубчик, не давай ему огласки.
– Помилуйте, ваше благородие, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят.
Романовы молча с удивлением наблюдали за всей этой картиной. Особенно удивительно это все было Васе. Он периодически с расширенными зрачками смотрел то на смотрителя с офицерами, то на отца.
Тем временем штабс-капитан достал из кармана несколько купюр и протянул их станционному смотрителю.
– Вот, возьми, братец! Здесь двадцать пять рублей ассигнациями. Надеюсь, этого хватит, чтобы загладить сию неприятность.
Смотритель брать деньги решился не сразу, опасаясь свидетелей, коими в данном случае оказались отец и сын Романовы. Но штабс-капитану надоело ждать, он сунул деньги в руки смотрителю и тут же направился к выходу.
В свете подобной неприятности, случившейся со станционным смотрителем, уместно привести выдержки из инструкции от 30 сентября 1825 года, оберегавшие фельдъегерей, ямщиков и смотрителей от обид и произвола: «Путешествующим строго запрещается чинить смотрителю притеснения и оскорбления или почтарям побои; за все такие поступки взыскано будет по 100 рублей в пользу почтовой экономической суммы». Там же был и пункт по охране труда почтовых служащих: «Чтобы смотрителю лучше дышалось, во всех почтовых домах устроить в окошках форточки для впущения воздуха».
Краска начала постепенно сходить с лица служивого, дрожь в теле также унялась. И он с явным неудовольствием посмотрел на Михаила.
– Чего изволите?
– Нам бы лошадей поменять, господин смотритель.
– Нету у меня лишних лошадей.
– Ну как же! Вы же сами господину поручику говорили, что есть лошади, просто вы в долг не хотели отпускать.
Смотритель что-то невнятно пробормотал себе под нос, убирая деньги в небольшую шкатулку, что находилась в ящике конторки, стоявшей близ печки. Он был явно в расстроенных чувствах. Еще бы: получить за раз столько пощечин, к тому же, незаслуженных. А это мужичье еще и свидетелями оказались! Михаил боялся, что смотритель теперь, из вредности, будет тормозить с заменой лошадей, и уже думал, как бы его заставить этого не делать. А впрочем, о чем думать? Всем ведь известно, какой на Руси самый любимый способ ускорять любое дело: взятка. Ну, или мягче – ускоритель действия.
У станционного смотрителя было много обязанностей. Он всегда должен был носить форменную одежду – зеленый кафтан, отвечал за чистоту станции, опрятность лошадей и повозок, должен был следить, чтобы на территории станции никто не шумел и не кричал. А главное, был обязан «все правильные требования всякого проезжающего немедленно исполнять с кротостью и учтивостью, не позволяя себе ни малейшей грубости».
– Предъявите подорожную! – довольно грубо произнес станционный смотритель.
Романов расстегнул зипун и полез в карман за подорожным билетом, написанным рукою самого Пушкина. Подавая документ смотрителю, Михаил одновременно достал и, ничего не говоря, положил на конторку 80 копеек. Смотритель оценил такую щедрость, тут же внес подорожную в свою книгу и крикнул одного из ямщиков:
– Влас! Готовь лошадей!
– Спасибо, господин хороший. А вот чайку бы нам еще с мальчонкой, на дорожку-то. Согреться.
– Сейчас устрою! – уже совершенно спокойным тоном произнес станционный смотритель.
Дальше до самой Луги никаких происшествий с Романовыми не случилось. В Лугу же приехали около полуночи. Как и советовал Пушкин, здесь решили переночевать. Тем более, явно начиналась снежная буря, ветер с силой выхватывал с поверхности снежные частицы и свирепо бросал их в зазевавшихся людишек.
Луга – маленький уездный городок с тысячью жителей в 130 верстах от Петербурга, специально построенный по указанию императрицы Екатерины Второй для размещения почтовой станции на трассе из Петербурга в Москву.
Пару лет назад услугами почтовой станции в Луге воспользовался и Александр Пушкин, подзадержавшийся здесь из-за того, что смотритель в первую очередь обслужил чиновника, стоявшего по чину выше титулярного советника Пушкина в составленной еще Петром «Табели о рангах». По этому поводу у поэта родился даже экспромт-эпиграмма:
- «Есть в России город Луга
- Петербургского округа.
- Хуже не было б сего
- Городишки на примете,
- Если б не было на свете
- Новоржева моего».
Пока Романовы пили чай, выяснилось, что лошади здесь есть только для одной упряжки. А на станции еще до них находились постояльцы, ожидающие своей очереди. Первое, о чем подумал Михаил – как бы здесь не застрять на несколько дней. Тогда вся его задумка не будет стоить и выеденного яйца. Но что же делать?
Станционный смотритель выделил им маленькую комнату с низким потолком, где едва умещались кровать, канапе и один табурет. При этом в комнате было довольно прохладно из-за того, что в окнах были щели. Михаил отбросил одеяло, проверил простыню. Как он и ожидал, она была не первой свежести и чистоты. Спасибо, хотя бы, что не влажная.
– Придется спать в одежде! – Михаил посмотрел на сына.
– Почему, пап?
– Ну ты же видишь, что из окон дует. Поди сюда, подставь ладонь
Вася подошел к окну, подержал ладонь у оконной рамы, кивнул головой и посмотрел на отца.
Чтобы успокоить сына, который уже готов был закапризничать, Михаил улыбнулся, потрепал его по волосам и подмигнул.
– Ничего, сынок! Всего одна ночь. А завтра мы уже будем в Питере. Но там от меня ни на шаг, понял? – Василий кивнул. – И чтобы слушаться. Что я скажу, то и делай.
– Я все понял, пап.
– Ну, вот и хорошо! Ты ложись, а я на пару минут отлучусь.
– Ты куда?
– Да кое с кем переговорить нужно.
– А у тебя разве здесь есть знакомые?
– А разве переговариваться можно только со знакомыми?
Вася помотал головой.
– Ну, вот! Давай ложись. Я ненадолго.
Михаил вышел в зал, но смотрителя нигде не было. Да и вообще зал пустовал: видимо, все уже устроились на ночлег. Тогда он вышел на улицу. И в этот момент заметил, как конюх снял с лошадей сбрую и заводил их в конюшню. Стоп! Значит, прибыл новый ямщик. Михаил повертел головой, стараясь обнаружить прибывшего, но двор был пуст. Неужели уже успел куда-то отойти. Но тут из уборной, стоявшей на задворках, вышел мужик, смачно высморкавшись, прижав переносицу двумя пальцами, большим и указательным, вытер руку о зипун и, слегка покряхтывая, направился к дому. Романов сообразил, что это и есть новоприбывший ямщик, и тут же решительно направился ему наперерез. Мужик был крепкий, плечистый, с огромными ладонями, но и он слегка оторопел, когда увидел, что кто-то преградил ему путь. А Михаил вдруг впал в ступор: как обратиться к мужику? С господами все ясно. Он стал шевелить извилинами, вспоминая все свои познания по этому поводу.
Ямщик не выдержал первый, посмотрел с угрозой на Романова, И, на всякий случай сжав кулаки, грубовато спросил:
– Тебе чего, человече?
Романов даже выдохнул с облегчением. Снял шапку и слегка поклонился.
– Договориться хочу.
– Об чем?
– Твои лошади конюх только что увел в конюшню?
– Ну? – ямщик все еще недоверчиво смотрел на неожиданного собеседника.
– Я тут с сыном на ночь остановился, а мне бы в утрех в Питер надобно, иначе барин шкуру сдерет, ежели не успею за день.
– Хех! А и сдерет! Мне-то чего?
Романов вытянул руку, разжал ладонь, в которую заранее положил пятьдесят копеек. Впрочем, в кромешной тьме ямщик, разумеется, ничего не заметил. Тогда Романов сунул ладонь под кулак ямщика.
– Вот, возьми! Хотелось бы завтра раненько с тобой и уехать. Возьмешь?
Ямщик, наконец, разжал кулаки, взял деньги, приблизил ладонь к лицу, едва ли не на ощупь проверяя, сколько копеек ему вручил незнакомец.
– Пятьдесят копеек, – уточнил Романов. – Договорились?
Он протянул руку ямщику, но тот пожимать ее не торопился.
– Возок чей будет?
– У меня своя кибитка. Барин снарядил.
– Ладно! – ямщик, наконец, пожал руку. – Со смотрителем уже договорился?
– Договорюсь!
– Ну, смотри! А то деньги назад не верну.
Ямщик развернулся и пошел в дом. Романов выдохнул с огромным облегчением. Осталось дело за малым – договориться со станционным смотрителем. Ну, у Михаила уже есть опыт в этом деле. Вернувшись в здание, он тут же направился в комнату станционного смотрителя.
Когда Романов вернулся в гостиничный номер, с удивлением обнаружил, что Василий еще не спит, ворочается с боку на бок. Увидев отца, тихонько позвал.
– Па-ап!
– Ты чего не спишь, Вася? Завтра рано утром уедем и целый день в дороге.
– Мне страшно!
– Отчего же страшно? В этой комнате больше никого нет. Да, это даже не трехзвездная гостиница, но мы и не в двадцать первом веке, и не в столице.
– Кто-то воет.
– Как воет? – удивился отец.
– Страшно. Сам послушай.
Михаил присел на край кровати Василия и стал прислушиваться. И правда, услышал какое-то завывание, но тут же понял, в чем дело:
– Это ветер, сынок. Ты же сам видел, что в окне щели, вот ветер там и гуляет, и воет. Спи!
Он наклонился, поцеловал сына в щеку, посидел возле него несколько минут, держа его ладошку в своей. Вася успокоился и спустя несколько минут уже засопел.
Михаил подошел к канапе, потрогал его, сел, чтобы понять, не развалится ли. Затем снял валенки, подложил под голову шапку и лег. И вскоре впал в состояние, похожее на сон, но внезапно из этого состояния Михаила вырвал жуткий грохот и звон. Это в комнату ворвался ветер, распахнувший прогнившие створки окна и разбивший стекло. Разумеется, спросонья подумалось, что кто-то умышленно выбил окно и готовился напасть на него с сыном. Михаил вскочил, приготовившись отбить атаку кого бы то ни было, для чего схватился за табурет. Впрочем, он быстро убедился, что никто, кроме ветра, нападать на них не собирался. Однако же, нужно было что-то делать с окном, иначе они с сыном до утра околеют. Как ни странно, но этот шум и звон даже не разбудил Василия – он настолько устал за день, что теперь спал, как убитый. И тогда Михаил стащил с Василия одеяло (накрывшийся до самого подбородка своим теплым зипуном, мальчик чувствовал себя довольно комфортно), Михаил, как смог, приладил одеяло на окно. По крайней мере, ветер в комнате перестал чувствовать себя вольготно.
Зато из-за этого всего в соседней комнате проснулся и захныкал маленький ребенок и этот скулеж, сопровождаемый заунывными причитаниями то ли матери, то ли няньки, продолжался едва ли не до самого утра. Тем не менее, Михаил снова лег и попытался заснуть, мучимый то увлекательными сновидениями, то предстоящей страшной явью.
Романовы добрались до Петербурга только к вечеру 13-го числа. Ямщик доставил отца с сыном прямо к дому 72 на набережной Мойки у синего моста, рядом с Мариинским дворцом и очень близко к Сенатской площади (всего одна-две минуты пешком быстрым шагом), где весь последний год жил Кондратий Рылеев с женой и дочерью. Он занимал почти весь первый этаж здания.
Дом принадлежал Российско-Американской компании, где поэт работал правителем канцелярии. Романов вспомнил, что читал об этом доме. Двухэтажное здание в тринадцать окон по фасаду с мезонином построено в конце XVIII века и первым его владельцем был екатерининский вельможа Кашталинский. Однако в 1798 году дом приобрел президент коммерц-коллегии, а затем канцлер Воронцов, после смерти которого в 1805 году дом и купила Российско-Американская компания, созданная в конце XVIII века «для промыслов на американских островах морских и земных зверей и торговли ими».
В 1824–1825 годах дом превратился в штаб-квартиру Северного общества, здесь же останавливались и приезжавшие для объединительных встреч члены Южного общества, в частности, его руководитель полковник Павел Пестель.
Впрочем, Пестель Рылееву не понравился: неплохой психолог, Рылеев сразу заметил в полковнике хитрого честолюбца. К тому же, поэт считал неприличным дело свободы Отечества и водворения порядка начинать беспорядками и кровопролитием, на чем как раз и настаивал Пестель.
Романов встретил Рылеева в парадном, сразу же представился и вручил ему письмо от Пушкина. Кондратий Федорович тут же сломал сургуч, вскрыл конверт и пробежал глазами по строчкам письма, узнав своеобразный почерк Пушкина. Пока Рылеев читал, Романов его рассматривал.
Он был среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом. С первого взгляда вселял в человека как бы предчувствие того обаяния помноженного на редкую силу его характера, которому непроизвольно, но неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения удивительные глаза его горели и точно искрились. Становилось даже жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. В полутьме парадного не слишком была заметна бледность лица практически всего пару дней назад вставшего на ноги заговорщика, а вот его тяжелое дыхание было весьма ощутимо.
9
Утром 13 декабря случилась большая неприятность – стало известно о письме и встрече члена штаба заговорщиков поручика Ростовцева с Николаем Павловичем. Более того, сам Ростовцев «благородно» вручил черновое письмо Рылееву. Рылеев тут же оповестил своих соратников об этом и, стало быть, о том, что великий князь предупрежден о возможном мятеже. Рылеев показал письмо оказавшемуся в тот момент рядом Владимиру Штейнгелю. У того от удивления округлились глаза: как так можно! Ведь ему доверяли абсолютно все члены Северного общества.
– Что вы теперь думаете, неужели действовать? – взволнованно спросил Штейнгель.
– Действовать непременно! – ответил Рылеев. – Ростовцев всего, как видишь, не открыл, а мы сильны, и отлагать не должно. Акция Ростовцева только нам пойдет на пользу.
Бодрость и решимость Рылеева несколько поколебала неуверенность Штейнгеля в успехе переворота.
Все утро у Рылеева ушло на «ростовцевский сюжет». Он был у Трубецкого. Потом поехал к Николаю Бестужеву, старшему из братьев. У него как раз матушка из деревни приехала, а, поскольку они были дружны, то Рылеев и решил заехать, чтобы поздравить Прасковью Михайловну с приездом из деревни, а заодно и переговорить с Николаем, сообщив ему о Ростовцеве.
При этом Рылеев оповестил очень ограниченный круг людей, только самых доверенных лиц.
– Во всяком случае, акция Ростовцева должна лишь укрепить нас в намерении выступить в момент присяги, – убеждал Рылеев братьев Бестужевых.
– Отобедаете с нами, Кондратий Фёдорович? – спросила мать.
– Благодарствуйте, милая Прасковья Михайловна! Не откажусь.
– Кстати, Кондратий, – едва выйдя из-за стола, произнес Николай Бестужев, – Моллер мне сообщил, 14-го его 2-й батальон финляндцев будет нести караул во дворце и в присутственных местах вокруг дворца, в том числе возле Сената. Таким образом, в случае согласия Моллера содействовать нам резиденция Николая и всей августейшей фамилии и Сенат будут под нашим контролем без всякого штурма.
– Отлично! Тебе нужно уговорить Моллера содействовать нам, Николай. Ведь он как начальник караулов, может пропустить во дворец любую воинскую часть. И, наоборот, воспрепятствовать проходу недружественных войск.
– Я попробую, хотя и не гарантирую. Боюсь, что Моллер не согласится.
Между тем вечером, накануне восстания в квартире Рылеева было так же жарко. К этому моменту Кондратий Фёдорович Рылеев уже был признанным лидером заговорщиков. Междуцарствие конца ноября-начала декабря 1825 года, повторное отречение от престола правителя Царства Польского цесаревича Константина Павловича, после смерти бездетного Александра I – старшего среди наследников русского трона, и новая присяга при восшествии на престол непопулярного в войсках императора Николая признаны были заговорщиками удобным случаем для открытого восстания. Чтобы избежать разномыслия, постоянно замедлявшего действия общества, Кондратий Рылеев, князь Евгений Оболенский, Александр Бестужев (второй из четырех братьев Бестужевых) и другие назначили полковника гвардии, дежурного штаб-офицера 4-го пехотного корпуса князя Сергея Петровича Трубецкого диктатором.
План Трубецкого, составленный им совместно с Гавриилом Степановичем Батеньковым, собратом Рылеева по перу, состоял в том, чтобы внушить гвардии сомнение в отречении цесаревича и вести первый отказавшийся от присяги полк к другому полку, увлекая постепенно за собой войска, а потом, собрав их вместе, объявить солдатам, будто бы есть завещание почившего императора – убавить срок службы нижним чинам и что надобно требовать, чтобы завещание это было исполнено, но на одни слова не полагаться, а утвердиться крепко и не расходиться. Таким образом, мятежники были убеждены, что если солдатам честно рассказать о целях восстания, то их никто не поддержит. Трубецкой был уверен, что полки на полки не пойдут, что в России не может возгореться междоусобие и что сам государь не захочет кровопролития и согласится отказаться от самодержавной власти.
Батеньков же мыслил о будущем мироустройстве России (в этом смысле он мнил себя неким Наполеоном, или Цезарем). Он предлагал уничтожить самодержавие, учредив парламент, состоящий из двух палат, причем, члены верхней палаты должны быть назначаемы на всю жизнь (нечто вроде английских пэров). Впоследствии же восстановить монархию, но уже конституционную, для чего предполагалось учредить провинциальные палаты для местного законодательства и обратить военные поселения в народную стражу.
Весь вечер и всю ночь накануне восстания продолжалось последнее заседание членов Северного общества на квартире у Рылеева. Проходило оно шумно и бурливо, все его участники были в каком-то лихорадочно-высоконравственном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения… А особенно прекрасен в этот вечер был Рылеев! Он все еще окончательно не пришел в себя после простуды, поэтому говорил просто, негладко; но, когда он начинал говорить на свою любимую тему, о любви к Родине – лицо его оживлялось, бледность исчезала, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава. Этот человек обладал сильным характером, был бескорыстен, ловок, ревностен, резкий на словах и на письме. Он стремился к избранной им цели со всем увлечением и действовал, не выгадывая для себя каких-либо выгод, а по внутреннему убеждению, что все его действия направлены лишь на пользу для отечества. Типичный образ искреннего революционера.
– Итак, господа, решено! Утром, 14 декабря идем на Сенатскую площадь, – произнес Рылеев. – На какую численность солдат мы можем рассчитывать, Александр Михайлович? – обратился Рылеев к полковнику Булатову, назначенному заместителем диктатора восстания князя Трубецкого, отсутствовавшего по причине ведения переговоров с сенаторами.
– Порядка шести тысяч солдат, – ответил Булатов, командир 12-го егерского полка, герой войны с Наполеоном.
– Мы возлагаем надежды на лейб-гвардии Измайловский, лейб-гвардии Егерский, лейб-гвардии Финляндский, лейб-гвардии Московский, лейб-гвардии Гренадерский полки и Гвардейский Морской экипаж, – уточнил начальник штаба заговорщиков, князь Евгений Петрович Оболенский, старший адъютант в дежурстве пехоты гвардейского корпуса, сын губернатора Тульской губернии.
Оболенский глянул на Александра Якубовича, капитана Нижегородского драгунского полка. Именно ему совместно с лейтенантом Гвардейского экипажа Антоном Арбузовым следовало поднять гвардейский Морской экипаж, затем присоединить к себе Измайловский полк и конно-пионерный эскадрон под командованием Михаила Пущина, брата Ивана.
– На моряков и измайловцев мы возложили задачу занять Зимний дворец и арестовать царскую семью, – добавил полковник Булатов.
Дальше снова слово взял Оболенский:
– Одновременно наши братья Бестужевы, подняв Московский полк, должны привести его к Сенату.
– Я же с гренадерским полком занимаю Петропавловскую крепость. А с Васильевского острова должен подойти Финляндский полк, – заключил Булатов.
Рылеев удовлетворенно кивнул.
– Судьбу царской семьи должно будет решить учредительное собрание: либо мы их вывезем в Америку, либо… – Рылеев посмотрел на Петра Каховского. – Вы знаете, друзья мои, что я сторонник мирного решения конфликта, однако же ради успеха нашего дела… – Рылеев помолчал, медленно прохаживаясь по зале, наконец остановился рядом с Каховским, но взгляд его, казалось, был устремлен куда-то в будущее, глаза загорелись огнем. – Поутру долго обдумывая план нашего предприятия, я находил множество неудобств к счастливому окончанию оного. Более всего страшусь я, если цесаревич Николай не будет схвачен нами, что в таком случае непременно последует междоусобная война. Тут пришло мне на ум, что для избежания междоусобия должно его принести в жертву… – он тут же перевел взгляд на своего соратника. – Как ты смотришь, Каховский, на то, чтобы убить ныне Николая? Это возможно исполнить прямо на площади. А еще лучше проникнуть в Зимний дворец и убить претендента на престол. По моему мнению, это могло бы открыть ход в Зимний дворец.
– Я берусь это сделать, – решительно произнес Каховский.
В этот-то момент и раздался звонок колокольчика в дверь, что, с одной стороны напрягло заговорщиков, с другой даже испугало их: они ведь знали о поступке Ростовцева, сообщившего Николаю о готовящемся заговоре. Но это звонил Михаил Романов, обнимавший озябшего и полусонного сына. На молчаливый удивленный вопрос открывшего дверь Рылеева, Романов, сразу узнавший по портрету поэта, слегка склонил голову, произнес:
– Здравствуйте, Кондратий Фёдорович! У меня для вас рекомендательное письмо от Пушкина.
Ознакомившись с содержанием письма, Рылеев чуть посторонился и сделал приглашающий жест:
– Прошу вас, господин Романов. А это, надо полагать, ваш сын?
– Так точно! Устал с дороги. От Луги на перекладных целый день до Питера добирались.
Рылеев помог гостям раздеться и, перед тем как проводить Михаила в гостиную, предложил:
– С вашего позволения, я препоручу мальца своей супруге Наталье Михайловне?
– Буду премного вам благодарен.
– Натали! – позвал Рылеев.
Проведя Василия на женскую половину дома и коротко объяснив жене, в чем дело, Рылеев, наконец, ввел Романова в круг собравшихся заговорщиков.
– Друзья! Позвольте вам представить Михаила Павловича Романова! – он выдержал небольшую паузу, оценивая реакцию своих друзей, затем тут же уточнил:
– Полного тезку его императорского высочества! – явно послышался легкий одновременный выдох доброго десятка человек, и даже раздался легкий смешок, немного разбавивший тревожную атмосферу собрания. – Прибыл к нам из Михайловского по рекомендации нашего милого друга Пушкина. Причем, Пушкин сообщает, – Рылеев потряс рукой, в которой держал лист, исписанный рукою поэта, – что его, а теперь и наш гость человек весьма осведомленный и имеющий возможность помочь нам успешно завершить задуманное нами дело.
Романов, польщенный такой характеристикой, которую ему дал сам Пушкин, слегка раскраснелся от волнения, поклонился сразу всем и произнес немного дрожащим голосом:
– Приветствую вас, господа декабристы! Готов приложить все свои силы на благое дело освобождения матушки России от ига самодержавия.
Он внимательно рассматривал присутствующих, переводя взгляд с одного на другого, а те были немного шокированы таким обращением – «Декабристы»! А ведь и верно – декабристы. Однако все продолжали молча наблюдать за Романовым в ожидании того, что он им скажет. А Михаил решил дальше не интриговать заговорщиков, понимая, что те и без того находятся в сильном возбуждении накануне восстания и усталости за целый день совещания. Впрочем, и сам Романов устал после такой длинной и ухабистой (от слова «ухаб») дороги.
– Для начала скажу, что Пушкин порывался ехать к вам вместе со мной, и мне стоило большого труда уговорить его не делать этого.
– Это правильно! – кивнули одновременно Пущин и Рылеев.
– Однако это же и затруднит мне объяснение с вами, поскольку Александр Сергеевич почти за сутки общения со мной, уже все понял, а у нас с вами сейчас слишком мало времени, чтобы вдаваться в детали объяснения, кто я такой и зачем прибыл. Посему, прошу вас, господа, просто послушайте меня и доверьтесь рекомендации Пушкина.
Романов на пару секунд замолчал, облизывая губы и набирая в легкие побольше воздуха и одновременно стараясь распознать всех присутствующих, которых прежде видел лишь на портретах. Здесь были Арбузов, Михаил Бестужев, Михаил Пущин, Репин, пришел Александр Бестужев. Приехали Краснокутский и Корнилович с сообщением о часе присяги. А вот «диктатора» Трубецкого не было.
– Я – историк по образованию, окончил Московский университет. И прибыл сюда к вам из будущего, из 2025 года.
– Как такое возможно! – скептически возразил Каховский.
– До подобных сказок даже Пушкин с Жуковским пока не додумались, – хмыкнул Иван Пущин.
– Друзья, давайте все же дослушаем нашего гостя, коль уж за него поручился Пушкин, – остановил прения Рылеев.
Романов благодарно посмотрел на него и продолжил.
– Разумеется, я понимаю, что вам и невдомек, как такое путешествие во времени могло свершиться. Да и сам я еще несколько дней назад (я имею в виду тех дней, в 2025 году) не верил в возможное перемещение. В будущем это явление назовут – телепортация. Но мой шурин, брат моей жены, настоящий гений: он построил машину времени, и я стал первым человеком на земле, который совершил путешествие в прошлое. Но совершил я его не просто так… – Романов вздохнул и выдохнул. – Надеюсь, когда у нас с вами все получится я вам расскажу о том, что происходило в России в конце XIX и в XX веке. Сейчас же важнее то, ради чего вы все здесь (и я с вами тоже) собрались – совершить государственный переворот, точнее, революцию, навсегда избавить Россию от самодержавия. И, если не сделать ее республикой, то хотя бы превратить в конституционную монархию. По примеру той же Британии… Да, зачем Британии. У нас есть пример гораздо ближе – Царство Польское, где вполне соседствует, назовем это так, конституция Польши и царское наместничество Его Высочества Константина Павловича, кому, собственно, уже и присягнули некоторые полки, и каковым обстоятельством вы, господа и желаете воспользоваться.
Романов обратил внимание, что все присутствующие внимательно слушали его, уже не перебивая.
– Единственное, хочу вас огорчить. Даже не столько предательством поручика Ростовцева, сколько трусливым поступком назначенного вами диктатором князя Сергея Петровича, которого, к сожалению, в данный момент нет среди вас.
– Не слишком ли смело вы обвиняете князя Трубецкого? – не выдержал Рылеев. – Он является одним из руководителей Северного общества.
– Прошу прощения, Кондратий Фёдорович. Не хотел обидеть князя и смутить вас, однако же я, повторяю, смотрю на все это с высоты двух столетий. Впрочем, во-первых, вы сами уже завтра сможете убедиться в моей правоте; во-вторых, однако, сей фактор нисколько не помешает вам… нам выполнить задуманное. У нас с вами будет, поверьте мне, несколько возможностей разобраться с царской семьей, арестовать самого Николая. Но… Я бы не хотел, господа, опережать ход событий. Пускай все идет, как предначертано историей. Я же ее лишь слегка подкорректирую в тех моментах, когда это будет наиболее благоприятно для хода восстания, чтобы помочь вам прийти к власти. В принципе, я все сказал. Теперь, если позволите, я просто молча поприсутствую на вашем совещании. Никому из моих современников такое даже и присниться не могло ни в одном прекрасном сне.
– Сделайте одолжение! – после некоторой паузы, во время которой он, да и остальные тоже, осмысливал услышанное, произнес Рылеев.
Романов нашел свободный стул в самом углу большой гостиной и тихонько прошел туда и сел, с улыбкой и дрожащими от радостного волнения губами, наблюдал за происходящим.
– Наша революция, – заговорил Александр Бестужев, – будет подобна революции испанской, не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею без участия народа…
– Но какие меры приняты Верховной Думою для введения предположенной конституции, – спросил Александр Якубович, – кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления?
– До тех пор, пока конституция не примет надлежащей силы, – сказал Бестужев, – Временное правительство будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться хоть десять лет.
– По вашим словам, – возразил Якубович, – для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершена военными, что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правительства? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения оно будет управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу, и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?
Эти вопросы произвели страшное воздействие на Бестужева, негодование изобразилось во всех чертах его лица.
– Как вы можете меня об этом спрашивать? – вскричал он со сверкающими глазами. – Мы, которые убьем, некоторым образом, законного государя, потерпим ли власть похитителей?! Никогда! Никогда!
– Это правда, – вдруг произнес Рылеев с улыбкой сомнения, – но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами, восторжествовал малодушный Октавиан, юноша 18 лет.
После очередного пламенного пассажа Рылеева Михаил Бестужев улыбнулся.
– Чему ты улыбаешься, брат? – удивился Рылеев.
– Да вот вспомнил твою недавнюю поэму «Наливайко». Как ты там в «Исповеди Наливайки» писал:
- Известно мне: погибель ждет
- Того, кто первый восстает
- На утеснителей народа, —
- Судьба меня уж обрекла.
- Но где, скажи, когда была
- Без жертв искуплена свобода?
- Погибну я за край родной, —
- Я это чувствую, я знаю…
- И радостно, отец святой,
- Свой жребий я благословляю!
– Знаешь ли, друг мой, – продолжал Михаил Бестужев, – какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?
– Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? – ответил Рылеев. – Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.
Рылеев на мгновение улыбнулся, но тотчас же лицо его сделалось снова серьезным.
– Я служил Отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и я ушел, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластья. Я желал лучше служить человечеству и избрал звание судьи. Наступил век гражданского мужества – я буду бороться за свободу отечества и счастье народа, я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству.
– Друзья! Осталось только определить время восстания, – заговорил Иван Пущин.
– В Петербурге все перевороты происходили тайно, ночью, – ответил Рылеев. – Вспомните прошлый век и 8°1-й год.
– Я думаю, что и теперь, если начинать здесь, то лучше ночью, – ответил Каховский. – Всеми силами идти ко дворцу, а то смотрите, господа, пока мы соберемся на площадь… Да вы знаете, что и присяга не во всех полках в одно время бывает, а около дворца полк Павловский, батальон Преображенский, да и за Конную гвардию не отвечаю. Я не знаю, что там успел Одоевский, так, чтобы нас всех не перехватили, прежде чем мы соединимся.
Но ему возразил Рылеев:
– Ты думаешь, солдаты выйдут прежде объявления присяги? Надо ждать, пока им ее объявят.
Лидеры общества, разумеется, понимали, что было бы эффективнее ударить внезапно, ночью. Но они трезво сознавали и другое – без официального объявления переприсяги, которая неизбежно потрясет и возбудит солдат, им не поднять полки. Они вынуждены были оставить первый шаг правительству.
После короткой паузы Рылеев продолжил свою мысль:
– Надобно нанести первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию, – Рылеев тут же обратился к Александру Бестужеву:
– Итак, брат твой ли Михаил с ротою, или Арбузов, или Сут-гоф – первый, кто придет на площадь, тотчас отправится ко дворцу.
В этот момент приехал Трубецкой. Отдав распоряжения, снова уехал.
На этом же совещании было решено оповестить о начале выступления Южное общество. Были посланы письма в Москву находившимся там М.Ф. Орлову и С.М. Семенову. Предполагалось, что Степан Михайлович Семенов может возглавить выступление в Москве.
Но уже после полуночи – в ночь с 13 на 14 декабря – к Рылееву приехал Оболенский. Он хотел узнать об окончательных решениях. Застал у Рылеева лишь Пущина и Каховского, а вскоре к ним присоединился Александр Бестужев. После нескольких минут общего разговора Каховский и Пущин надели шинели, чтобы ехать, да и Оболенский не собирался задерживаться, начал прощаться с хозяином квартиры. И уже стоя на крыльце дома, Рылеев подошел к Каховскому и, обняв его, сказал:
– Любезный друг, ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для общества – убей завтра императора.
После все остальные также обняли и поцеловали Каховского, а тот растерянно спросил:
– Каким образом сие мне сделать?
– Надень лейб-гренадерский мундир и во дворце сие исполни, – предложил Оболенский.
– Но сие невозможно, ибо меня в то же мгновение узнают.
– Тогда следует дождаться прихода государя, – произнес Бестужев.
– Но и сие невозможно, ибо вызовет подозрение.
– Ты должен дожидаться царя на Дворцовой площади, чтоб нанести удар, – резюмировал Рылеев.
Александр Бестужев, не одобрял идею цареубийства, поэтому внутренне понимал, что гложет сейчас Каховского. И решил ему помочь. Провожая Каховского, Александр Бестужев шепнул ему:
– Зайдите ко мне утром.
Около шести часов утра Каховский пришел.
– Вас Рылеев посылает на Дворцовую площадь? – спросил Бестужев.
– Да, но мне что-то не хочется.
– И не ходите, это вовсе не нужно.
– Но что скажет Рылеев?
– Я беру это на себя; будьте со всеми на Петровской площади.
Едва Каховский собрался уходить, пришел Якубович и тут же сообщил:
– Друзья, хочу вас поставить в известность, что я отказываюсь от данного мне поручения – взятия дворца, предвидя, что без крови не обойдется…
Якубович играл в свою игру: и нашим, и вашим. Ежели переворот удастся, я с вами, ежели нет – моя хата с краю, я ничего не знаю. А ведь на него возлагались очень большие надежды. Особенно в деле поднятия Гвардейского Морского экипажа.
В ночь с 13 на 14 декабря молодые офицеры Гвардейского Морского экипажа готовились к восстанию со всей серьезностью. Один из двух братьев Беляевых велел принести оселок и точил им саблю для действий поутру. При этом на стоявшем рядом столе лежала пара заряженных пистолетов. Моряки ждали Якубовича, и начали готовиться к выступлению рано – в семь часов утра.
Арбузов вызвал фельдфебеля своей роты Боброва и приказал:
– Объявить солдатам, что за четыре станции за Нарвою стоит 1-я армия и польский корпус и если вы дадите присягу Николаю Павловичу, то они придут и передавят всех.
В это же время ходили по ротам и агитировали братья Беляевы.
В 6-й роте ротный командир лейтенант Бодиско собравшимся вокруг него матросам объяснял:
– В принятии присяги вы должны руководствоваться своею совестью, и я вам ни приказывать, ни советовать не могу.
Квартира Арбузова в казармах Гвардейского экипажа в эти часы превратилась в штаб. Офицеры приходили, обменивались новостями и мнениями, уходили. Причем были здесь не только офицеры Экипажа: с восьми до девяти часов у Арбузова дважды побывали мичман Петр Бестужев и прапорщик Палицын – офицеры связи тайного общества. Они уводили Арбузова в другую комнату, узнавали новости, отдавали распоряжения и тот же час уезжали, говоря, что им надобно быть еще во многих полках.
Весь Гвардейский Морской экипаж повторял слухи о генерале или генералах, которые еще затемно предостерегали часовых от измены первой присяге. Офицеры-декабристы их, естественно, не разубеждали.
В начале десятого часа в Экипаж пришел Николай Бестужев. Он встретился с офицерами-моряками в квартире Арбузова, и то, что он сказал, свидетельствует о подлинных намерениях штаба восстания:
– Кажется, мы все здесь собрались за общим делом, и никто из присутствующих здесь не откажется действовать; откиньте самолюбие, пусть начальник ваш будет Арбузов, ему вы можете ввериться.
Поскольку Арбузов был занят агитацией и подготовкой матросов и некоторых офицеров, Николай Бестужев взял на себя задачу выяснить общую обстановку и связаться с другими полками.
Как только Бестужев ушел от Арбузова, там появился Каховский в синем сюртуке. Его стремительная фигура пронизывает весь этот день. Он приехал в Экипаж от московцев, где Бестужевы и Щепин только начинали действовать. Перед этим он ездил к лейб-гренадерам. Каховский был наэлектризован и энергичен. Он вышел с Арбузовым в другую комнату, спросил, не нужно ли кому кинжал.
– У нас уже есть, – ответил Арбузов.
– Друзья, артиллерия дожидается лишь нашего выходу. Я восхищаюсь, что у нас более всех полков благородно мыслящих и, конечно, тут все мы участвуем в перевороте, хотя, быть может, ожидает нас и смерть. Но лучше умереть, нежели не участвовать в этом!
Потом, поцеловавшись с каждым из офицеров, сказал:
– Прощайте, братья мои, до свидания на площади.
10
12 декабря 1825 года супруга Николая великая княгиня Александра Федоровна впервые ощутила себя императрицей. Она записала в дневнике: «Итак, впервые пишу в этом дневнике как императрица. Мой Николай возвратился и стал передо мною на колени, чтобы первым приветствовать меня как императрицу. Константин не хочет дать манифеста и остается при старом решении, так что манифест должен быть дан Николаем».
Около девяти часов вечера Николаю доложили, что адъютант принес какой-то пакет от командующего гвардейской пехотой генерала от инфантерии Карла Ивановича Бистрома. Николай вскрыл пакет. В нем оказалось личное письмо к великому князю подпоручика лейб-гвардии егерского полка Якова Ростовцева.
Яков Иванович Ростовцев был третьим сыном в обедневшей дворянской семье, и служебная карьера была единственным выходом в его материальной ситуации. Будучи сильнейшим заикой, он не мог быть строевым командиром, но был толковым штабистом и выполнял роль адъютанта генерала Бистрома – командира гвардейской пехоты.
Поскольку доступ во дворец был затруднен и проникнуть туда было тяжело, Ростовцев пошел на хитрость. При входе во дворец, он объявил, что был послан к его высочеству генералом Бистромом со срочным письмом. Про Ростовцева знали, что он состоит в адъютантах Бистрома, поэтому ничего подозрительного его приход не вызвал, и он был допущен в приемную Николая Павловича.
В письме этом Ростовцев давал понять великому князю, что против него существует заговор и что принимать престол в сложившейся ситуации смертельно опасно и для него, Николая, и для всего государства.
Николай в раздумьях вышагивал по своему огромному кабинету. Остановился у окна, выглянул: набережная Невы была пустынна, а сама река спала под плотным слоем гладкого льда. Наконец, принял решение, вызвал адъютанта.
– Что подпоручик Ростовцев? Ушел?
– Никак нет, ваше императорское высочество. Ждет в приемной, – доложил дежуривший при цесаревиче генерал-майор Стрекалов.
– Пригласите его ко мне.
– Слушаюсь!
Щелкнув каблуками, адъютант вышел и через несколько секунд створка высокой двери с позолоченной ручкой отворилась. Вновь появился генерал Стрекалов, а за ним в кабинет вошел невысокий, стройный с пышными усами подпоручик.
