Сводные. Нарушая границы
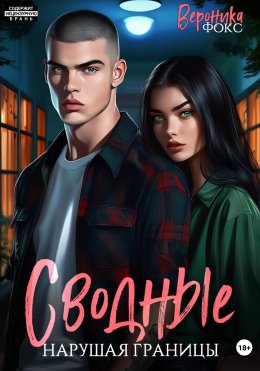
Глава 1. Ганс
Поздняя осень.Ганс Щульц. Мюнхенский университет.
Ещё один дебильный поступок был засчитан в мою копилку практически автоматом. Я уже сбился со счету, сколько раз совершал подобные действия, но, по навязанному мнению общества, в любом из таких происшествий я нарекался как Scheisskerl (м*дак).
– Ну и короче, бам-бац, сделал подсечку, и тот новенький чувак как забьет гол!
Джаред в очередной раз описывал мне захватывающий, по его словам, эпизод из недавнего футбольного матча в любительской лиге. Мы сидели в столовой Мюнхенского университета на обеде, прилипая репейником к общей массе студентов, что пытались друг друга перекричать.
Я вытянул затекшую правую ногу и, облокотившись локтями на край стола, почувствовал облегчение, когда боль в колене утихла.
Буквально в следующую секунду кто-то цепнулся мыском своих сапог о мою лодыжку и с треском шлепнулся на пол. Поднос с едой разлетелся по белому кафелю, половина студентов уже с любопытством рассматривала источник такого шума, и мне не пришлось долго гадать, кто только что ударил лицо в грязь.
Это была Мария-Луиза Шульц.
Моя сводная сестра.
– Ах ты мерзкий говнюк! – прошипела сводная, смотря на меня озлобленным взглядом.
Её ругательства были беспочвенны, впрочем, как и всегда.
С самого детства мы с ней не могли найти общий язык. Это началось с того момента, как она впервые переступила порог нашего дома. С тех пор прошло девятнадцать лет, но наша неприязнь никуда не исчезла. Причина этой взаимной ненависти всегда была очевидна: обычная детская ревность, которая со временем превратилась в привычку.
Я уже было потянулся, чтобы помочь ей встать, но тут же рядом оказались её друзья: Лия, Теодор и Финн. Мне пришлось сделать вид, что не собирался ей помогать, и просто заерзал на стуле.
– Смотри под ноги, – прорычал ей в ответ.
Выбор у меня был невелик: если я начну оправдываться, то никто не поверит. От Ганса Шульца можно ожидать исключительно мерзких поступков, и ни единого слова раскаяния после…
Как же они меня все задолбали!
– Нечего тут ноги расставлять, идиот! Ты что, не заметил, что я иду? – с особой ненавистью процедила сводная, сощурив зелёные глаза.
Финн помог ей подняться, и, когда Мария-Луиза внимательно осмотрела себя, с её губ сорвался сердитый стон разочарования.
– Ты только посмотри что ты натворил!
Лу была блестящей актрисой капризов и разыгрывания ненужных сцен, уж я-то был свидетелем тысячи таких представлений.
– Ты сама виновата, что не смотрела под ноги, – мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы моя интонация прозвучала безразличной к ситуации.
– Скотина! – возмутилась Лу и, взяв с моего подноса тарелку с недоеденным пюре, со всего маху влепила им мне по лицу.
На мгновение я замер, не в силах пошевелиться. Пюре скатилось по моему лицу и упало на темные джинсы. Ярость закипала в крови, подталкивая к тому, чтобы разрушить эту столовую до основания. Я даже сжал кулаки под столом, почувствовав, как напрягаются мышцы на руках.
Резко поднявшись из-за стола, я навис над Марией-Луизой, грозно глядя в её дерзкие зелёные глаза, полные уверенности в себе.
Сводная злилась, пыталась вывести меня из себя, но, я лишь беззвучно наклонился ниже, чтобы та почувствовала страх на кончике языка, прищурился и тихо прошептал:
– Жить надоело, а?
– Пошел ты, – прошипела сводная и, толкнув меня в грудь, с гордостью стала отдаляться от меня дальше, идя по столовой, прихвати с собой свою компашку.
Шоу получилось триумфальным, не хватало только закадрового голоса, который сообщил бы, что Мария-Луиза Шульц выиграла этот батл, и бурных аплодисментов зрителей. Хотя вместо последнего по столовой пронеслась волна уморительного смеха.
– Рот завалил, – указал я пальцем на хилого парня, который снимал меня на видео. – Иначе твой нос превратится в пюре!
Незнакомый студент резко замолчал и убрал телефон, притихнув за столом.
Забрав свои вещи, я отправился в противоположную сторону, пробираясь через толпу зевак, которые так и норовили запечатлеть меня на видео. По пути к выходу мне даже пришлось выбить телефон из рук у одного из них.
– Эй, Ганс! – торопился за мной Джаред, размахивая руками.
В туалете пришлось умыться и очистить джинсы от остатков пюре, которые уже въелись в ткань. Джаред стоял рядом, облокотившись на дверной косяк, и внимательно наблюдал за тем, как я застирываю край флисовой рубашки.
– Ну она и сучка, – промямлил он.
Он не знал, что она моя сводная. Практически никто об этом не знал, кроме парочки человек, в числе которых был Финн, Тео и Лия.
Мы скрывали от окружающих, что приходимся друг другу сводными, потому что ещё в детстве договорились о трех правилах:
Первое правило: никогда не разговаривать друг с другом в стенах школы и университета без необходимости.
Второе правило: домой возвращайтесь по отдельности и ни в коем случае не выходите на остановке рядом с домом.
Третье правило: когда кто-то спрашивал, почему у нас одинаковые фамилии, мы отвечали, что являемся дальними родственниками.
Настолько дальние, что ненавидим друг друга. И это срабатывало.
– Почему ты не ответил ей тем же?
– Я не полнейший Scheisskerl, чтобы так поступать.
Выжав флисовую рубашку в раковине, я поправил ее на себе.
– Ой, да когда тебя это останавливало?
Мы с Джаредом познакомились в сложный период, когда все остальные от меня отвернулись. Он был как преданный пёс, стараясь стать мне другом, и у него это получилось. Вот только я не мог похвалиться такой же дружественной преданностью и ему.
Иногда он вызывал у меня раздражение, а его любовные похождения могли бы стать основой для нескольких успешных эротических романов, которые явно бы стали бестселлерами в Германии. Мне не нравилось вечно слушать его повторяющиеся истории, но и отказываться от него для меня значило, что я просто останусь один.
Меня беспокоило это одиночество, оно выбивало меня из колеи. Поэтому в жизни мне приходилось мириться с некоторыми вещами незамедлительно.
– У меня и так выдался не слишком удачный год, – прошипел я, оглядывая себя в зеркале. Короткая стрижка под «ежик», серые печальные глаза, ровный нос и слегка квадратное лицо. На скуле засохла картофельная крошка, которую я поспешил смахнуть. – Мне еще не хватало истерик этой чокнутой!
– Да брось, чувак, – протяжно произнес последнее слово Джаред. – Устроил бы ей взбучку.
– Я не трогаю девушек.
Фраза вырвалась у меня сгоряча, как будто я защищался. Друг лишь пожал плечами, словно не хотел со мной спорить.
Со сводной мы учились на одной кафедре, просто в разных группах. И я был на грани отчисления из-за плохой успеваемости.
Иногда у нас были спаренные уроки, и тогда приходилось сдерживать язык за зубами, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнее сводной, которая то и дело старалась вывести меня на эмоции.
Иногда мне казалось, что это для неё игра – посмотреть, насколько хватит моего терпения сегодня и как далеко она сможет зайти в своих насмешках.
Оставшаяся пара была физкультурой, которая быстро прошла из-за футболки, в который мы играли. Время пролетело незаметно, и, быстро переодевшись, я направилась на выход. Джареда вызвали к ректору, поэтому я не стал его ждать, потому что через два часа у меня начиналась смена в шиномонтаже, где я подрабатывал, чтобы оплачивать съемную хату.
Забросил вещи на заднее сиденье, уселся, включил оглушительно-дробильную музыку и тронулся с места так резко, что от шин полетели искры и дым. До своей хаты я добрался быстро, принял душ и перекусив, начал собираться на работу.
И здесь меня не взлюбили. Шеф говорил, что я слишком мясистый для такой работы и не смогу нормально передвигаться по шиномонтажу. Пришлось доказывать и ему, что я чего-то стою в жизни. Ему было удобно платить мне не полную ставку, а мне было удобно работать по вечерам. У нас была отличная взаимовыгода, которая нравилась нам обоим.
Когда я был на полпути к шиномонтажу, то в кармане брюк зазвенел телефон. На экране высвечивалось: Мария-Луиза.
Отвечать не торопился. Она слишком редко звонила мне, лишь тогда, когда была в беде и подвезти ее домой. Ей было выгодно держать меня на расстоянии вытянутой руки, а я ничего не мог с собой поделать, потому что обещал отцу принять их в семью.
Я-то их принял, а они меня выгнали.
Я не поднял трубку, поворачивая на повороте. Какой-то идиот развернулся передо мной, куда-то торопясь на своей раздолбанной легковой машине, что я ему даже посигналил.
Сводная вновь позвонила. Она звонила долго, настойчиво и упорно. В моей душе поселилась тревога, которая эхом отдавалась в ушах. Чтобы поскорее избавиться от этого ощущения, мне пришлось ответить на звонок:
– Что тебе нужно? – прошипел я в трубку, а после меня чуть ли не парализовало. Сводная плакала в трубку. И это явно были не наигранные слезы.
– Лу? – переспросил я .
– Ганс, – тихо промямлила она сквозь слезы. – Приезжай домой.
– Что случилось? – сердце замерло в груди, пропустив удар.
– Твой отец скончался.
Я резко затормозил, вжав педаль в пол. Вокруг всё ощущалось так, будто бы мой мир рухнул. Земля ушла из-под ног, не оставив мне никакого выбора.
Левая рука сильно сжала руль от накатывающей боли, которая ядовитой лавой расходилась по венам.
– Ганс… – выла в трубку Мария-Луиза, – приезжай быстрее… Приезжай, пожалуйста…
Ее голос был переполнен грустью и печалью. Это не было похоже на шутку. Она на такое не способна. Даже её эгоизм и самовлюбленность не могли бы стать причиной подобной идеи для розыгрыша
Скорее, такие шутки были бы уместны в моём исполнении, но не в исполнении Марии-Луизы.
Я слишком хорошо знаю Лу…
Кто-то сзади настойчиво сигналил, но все остальные звуки казались мне приглушёнными. Сделал глубокий вдох и ещё раз прокрутил в голове слова Лу, которые никак не хотел принимать. Я смотрел в одну точку, пытаясь собраться с мыслями, но не мог сосредоточиться ни на чём, кроме голоса Марии-Лу, которая всё ещё плакала в трубку.
– Эй, ты чего здесь встал? – Мужчина с явным раздражением стучал мне в стекло. – Ты мешаешь движению, эй!
– Я… – Слова застряли в горле. – Я скоро буду…
– Приезжай быстрее, Ганс… – всплакнула Мария-Лу, и мы разъединили звонок.
– Ты че, глухой что ли? – продолжал яростно стучать в окно мужик.
В ушах возник белый шум, который постепенно заглушал все звуки напрочь. В теле, словно пробуждающийся вулкан, нарастала и вибрировала тёмная пустота.
Дыхание сбилось из-за учащённого пульса, и, кажется, сердце вновь пропустило один удар.
Я почувствовал, как к глазам подступают слёзы, а в душе поднимается что-то забытое и далёкое, чего я не испытывал уже давно.
– Я не буду плакать, – сказал я себе, мотнув головой и облизнув пересохшие губы. – Не буду.
Шумно вобрав воздух носом, посмотрел на мужика, который, как обезьяна, прыгал около моего коня и грозился, что обязательно пожалуется на меня куда-то там.
Но мне было по барабану.
Показав ему средний палец со злостью на лице, я переключил передачу и стартанул с места до ближайшего разворота, где резко, нарушая все дозволенные правила и собирая все штрафы по камерам, развернулся, не пропуская других машин, и погнал дальше.
К Марии-Луизе.
В свой дом, из которого меня когда-то выгнали.
Находясь в оглушительной абстракции, я даже не заметил, как быстро доехал до дома, резко затормозив на парковке. Хотя из Мюнхена в Штарнберг дорога занимала минут сорок, но кажется, я долетел за все двадцать минут.
Отстегнув ремень безопасности и практически пулей вылетев из машины, я со злостью хлопнул дверью. Около дома стояло несколько машин, мигая разноцветными огнями. Перед глазами всё расплывалось, но я старался сохранять спокойствие, не позволяя панике и нарастающему горю овладеть мной.
Полицейская машина, машина скорой помощи и… машина для труповозки.
Сердце вновь пропустило один удар, и ноги сами меня несли ко входу, где дверь была открыта настежь.
Даже не вспомню, когда в последний раз переступал порог этого дома. Всё пытался избежать своего присутствия там, где меня невзлюбили. Но не успел я дойти до порога, как из двери появились люди в белых халатах. Двое крупных мужчин, которые везли на транспортировочной тележке черный пакет, застегнутый до самого верха.
– Отойдите, пожалуйста, – воскликнул один из мужчин, и я машинально сделал шаг назад.
Как в замедленной съёмке, я наблюдал за тем, как безжизненное тело грузят в машину и с треском закрывают дверь. Всё происходящее казалось мне нереальным, словно это была чья-то злая шутка, слишком жестокий розыгрыш.
Я не верил. Не хотел поверить в это, пока знакомый голос не окликнул меня.
– Ганс?
Мария-Луиза стояла передо мной, обхватив себя руками. Ее тушь растеклась, образовывая черные дорожки на щеках. Сводная судорожно хватала ртом воздух, будто ей не хватало кислорода.
Голоса стали доноситься откуда-то из-под земли. Отдалялись и гудели так отдаленно, что улавливал я лишь бешеный стук своего сердца.
Мария-Луиза первой сделала шаг, оставив позади нашу ненависть. Просто кинулась ко мне, крепко обхватив меня за торс, что я машинально раскинул руки и с секунду не понимал, что делать дальше.
В любой другой ситуации мы бы обменялись любезностями с лёгким оттенком сарказма, но сейчас это было ни к чему. Горе, пришедшее в наш дом, было общим.
Я обняв сводную, прижав крепче к груди, а сорвавшийся робкий поцелуй в макушку, возможно, был лишним.
– Га-анс, – ревела Лу, произнося мое имя, хватая шумно воздух ртом. – Га-а-анс…
– Я рядом.
Слова застревали в горле, и с этим ничего нельзя было сделать.
Убаюкивая Лу, я старался абстрагироваться от разговоров, которые исходили от врачей и полиции. Я не хотел слышать то, что они обсуждали, даже краем уха. Сейчас было важно совсем другое…
– Его больше нет, – сквозь слезы бубнила сводная, а я просто слегка раскачивал её из стороны в сторону.
Держался из последних сил, чтобы не пустить слезу.
Старался до последнего скрывать в сердце боль, которая вот-вот проломит рёбра.
Когда я увидел Софию, что была моей мачехой, а для Лу – родной матерью, то сжал крепко губы в ниточку. София плакала. Её глаза стали красными, а в руках она держала платок. Мы встретились с ней взглядами, и я увидел, как она шёпотом произносит моё имя, шевеля губами.
– Пойдём в дом, – предложил сводной, и та согласилась.
Переступить порог дома было сложно. Я всем нутром не хотел этого делать, но мне пришлось.
Ради Лу. Ради Софии. Ради моего покойного отца.
Усадив Лу на диван, я дал ей бумажные платки, которые были на журнальном столике.
Когда полицейские закончили опрос Софии, она безмолвно позвала меня рукой к себе.
У меня и так были проблемы с полицией, я вечно влипал в какую-то дрянь с тех пор, как стал жить отдельно. И вроде бы должен был уже привыкнуть, но никак не получалось.
– Это Ганс Шульц. Родной сын Максимилиана Шульца… – со слезами представила меня София.
– Примите мои соболезнования, – произнёс мужчина в форме, на что я кротко кивнул головой.
– Какова причина смерти? – спросил я.
– Точно мы не знаем, – пожал плечами полицейский. – Медики заключили, что у вашего отца оторвался тромб. Смерть была быстрой, если вы хотите это знать.
Значит, не мучился. Но всё равно горькая новость била палкой по оголенным нервам.
– Спасибо, офицер.
– У меня есть парочка вопросов к вам, не против, если я их задам?
Ненавижу, когда полицейские задают такие вопросы.
– Конечно.
Стараюсь расслабиться, чтобы не показаться подозрительным. Черт знает, о чем он хочет меня спросить. А у меня дофигища того, что не стоило бы знать…
– Мне чисто для протокола, – достает планшет он и переворачивает листок, щелкая автоматической ручкой. – Ну знаете… Эти правила, – улыбнулся он мне, поправив фуражку.
– Конечно, – пробубнил я.
– Так-с… Начнем. Вы приходитесь покойному биологическим сыном?
– Да, конечно. Максимилиан Шульц – мой родной отец.
– Так, хорошо. Ваша биологическая мать умерла или отказалась от вас?
К горлу подпрыгнул ком огорчения. Я кинул взгляд на Софию, которая тактично отошла к Марии-Луизе, чтобы успокоить ее. Еще бы… Столько лет прошло, а она ни разу не заводила об этом разговор. Она не хочет знать, что случилось с моей родной матерью, потому что ей, видимо, стыдно.
– Сэр? – окликает меня полицейский. – Ваша биологическая мать умерла или отказалась от родительских прав?
– Моя мать отказалась от родительских прав, – наконец-то выдыхаю из себя. Ворошить старые раны мне не хотелось бы.
– Почему она отказалась и какие отношения у вас с Софией Шульц?
– Это обязательные вопросы, офицер? – с толикой грусти спрашиваю я.
– Да, сэр, – вздыхает офицер. – Мне тоже не нравится задавать такие вопросы, но, увы, протокол я должен сделать..
– Моя мать отказалась от меня, когда мне было три года.
Вспомнить то, что от меня отказалась родная мать, было сложно. Я старался забыть эту ситуацию, выбросить ее из памяти, как выбросили меня в детстве. Но никак не смог…
Потому что весь тот ужас, который я пережил тогда, был верхушкой айсберга, с пьедестала которого я быстро летел вниз.
– Хорошо. Получается, София Шульц – ваша мачеха?
– Да, моя мачеха. Где-то с пяти лет, а быть может и раньше.
– Какие у вас с ней отношения?
Я украдкой взглянул на Софию, которая успокаивала Марию-Луизу. Максимилиан заменил Лу настоящего отца, о котором она всегда мечтала. Её горе было обоснованным.
– А какие отношения бывают между мачехой и пасынком?
Офицер усмехнулся.
– Разные, сэр.
– Приемлемые. Я давно здесь не живу.
Офицер старательно записывал всё на бумагу.
– И как долго?
– Как достиг возраста совершеннолетия. Я живу в Мюнхене, учусь в Мюнхенском университете и подрабатываю в автомастерской.
Офицер всё записал.
– До того, как умер ваш отец, вы с ним виделись?
– Нет, – вздохнул я. – Мы не виделись пару месяцев.
– Вы знали, что у него проблемы с сердцем?
– Да. Мы только созванивались. Последний раз я набирал ему позавчера.
Офицер поставил точку и, закрыв планшет, грустно выдохнул.
– Сочувствую вашей утрате, сэр.
Я лишь кивнул головой.
Сунув руки в карманы брюк, я проводил взглядом офицера полиции. Мария-Луиза по-прежнему хныкала, но её обнимала за плечи София. Они с кем-то разговаривали, и я решил, что пока что сводная не нуждается в моей поддержке, быстрым шагом поднялся по лестнице на второй этаж.
Ноги сами несли меня в мою комнату. Дойдя до неё, я легонько толкнул дверь вперед, и та, осев на петлях, тихо заскрипела.
Всё было на своих местах: заправленная кровать, письменный стол, открытый шкаф с игрушками. Я провёл рукой по полке, где находились награды за первые места в футболе, когда я был ещё в младшей школе. Разные грамоты и медали.
Взял фотографию в рамке, стёр с неё пыль. На ней мы вместе с отцом стояли на бейсбольном поле. Кепка была мне велика, и я едва ли что-то видел из-под нее, а бита, которую держал в руках, перевешивала своим весом.
Внутри ощущается болезненный спазм, который пульсирует адской лавой по внутренностям. Сколько утекло времени?
Впервые за долгое время я пожалел, что не провёл с отцом больше времени. Не уделял ему внимания и совершенно не думал, что его жизнь вот так вот быстро оборвется.
– Ганс?
Я обернулся. В дверях стояла Мария-Луиза, обхватив себя руками. Я поджал губы и поставил фотографию на место.
– Мне так жаль…
Глубокий вдох и выдох.
– Мне тоже, Лу.
Сводная бросилась в мои объятия и вновь тихонько захныкала, когда я крепко обнял ту. Мы вновь так простояли какое-то время, пока оба не решили, что нужно спуститься и помочь Софии.
Я старался следовать всем указаниям Софии, несмотря на наши небольшие разногласия. Помочь вынести то, собрать это, перебрать это, пока Мария-Луиза пыталась сделать перекус. Но лично мне ни один кусок в горло не лез.
Просто не хотел, поэтому вежливо отказался.
Когда все дела, которые мы могли бы сделать сейчас, были сделаны, я ушел на задний дворик, уселся на ступеньки и затянулся сигаретой.
Воздух был тёплым и наполнялся ароматом приближающегося лета. Задний двор был усеян лепестками цветущей ранней яблони. На дереве все еще был разваленный детский домик, от которого мало что осталось внутри. А в детстве мы любили с Лу залезать в него и играть по ее правилам.
Я всегда уступал ей, несмотря на нашу ненависть.
Во всем.
Дверь на задний двор приоткрылась, и я почувствовал чье-то присутствие.
– Можно сесть?
Мария-Луиза нацепила сверху теплую кофту и переминалась с ноги на ногу.
– Да, – сказал я ей.
Лу уселась рядом. Усталость просматривалась в ее глазах.
– Спасибо, что приехал, – неожиданно произнесла она.
– Разве я мог иначе?
– Мы вроде бы как недолюбливаем друг друга.
Я усмехнулся.
– Вроде бы.
– Прости, если я была с тобой грубой, – сказала Лу.
– Просто забей.
– Нет, Ганс, – ее теплая ладонь легла мне на плечо. – Я правда хочу попросить у тебя прощения, что была грубой с тобой.
Лу была искренна в словах.
– И ты меня прости, – слабо улыбнулся я.
Я тоже был еще тем сорванцом, который отравлял жизнь Лу. Но сейчас мне меньше всего хотелось вспоминать старые обиды.
– А помнишь, как мы строили этот домик? – внезапно спросила Лу, отведя от меня взгляд.
– Угу, – промычал я, делая очередную затяжку.
– Как ты чуть ли не пробил себе палец гвоздем?
– Ну не пробил же!
Лу искренне засмеялась.
– Отец был горд за то, что ты сам построил этот домик.
– Не без твоей помощи, – напомнил я ей.
Это была правда. В профиль Лу улыбалась. Эта улыбка будто бы напоминала, что можно взять тайм-аут во вражде. На какую-то долю секунды отбросить в сторону все предубеждения и поговорить по душам.
– Я только разрушала всё, – грустно выдохнула Лу. С ее лица пропала мягкая улыбка.
– Неправда. Тебе до меня еще далеко.
Мы тихо засмеялись. Лёгкий ветерок, коснувшись наших лиц, принёс с собой тепло.
– А когда пришел Теодор, помнишь, как он чуть ли не подвернул ногу внутри?
– Это потому, что ты разбросала там свои куклы?
Мария-Луиза обернулась, и мы встретились взглядами.
– Ну ты и сам любил их потрепать за волосы!
– Это правда, – улыбнулся я ей и затушил бычок.
Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась София.
– Уже поздно, – выговорила она. София никогда не отличалась мягкостью, напротив, она была жесткой, рассудительной и немного озлобленной на весь мир. – Завтра тяжелый день.
Мы с Лу переглянулись.
– Я пойду.
Сводная хотела что-то сказать в противовес моим словам, но я быстро миновал мачеху и направился на выход. Лу побежала за мной.
На пороге она крепко обняла меня, как вдруг с ее уст сорвалось:
– Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt (Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда о том, чего нам не хватает).
Сводная была права, но я не стал ничего говорить. Просто поджал губы, слабо улыбаясь, и направился к своей тачке.
На сегодня, кажется, мне и без того хватило приключений.
Глава 2. Мария-Луиза
Мюнхенский университет.
Поздняя осень.
– Ну как ты?
Лия крепко обняла меня за плечи, и мне захотелось расплакаться прямо в ее дружеское плечо.
– Разбито, Лэа, – ответила я.
Мне нравилось называть ее не Лия, а Лэа. Казалось, что такая интерпретация имени ей очень подходит.
– А что Ганс? Он приезжал?
– Да, – ответила я на выдохе. Ветер был злючий, колол раскаленные щеки и мне пришлось сильней укутаться в бомбер. – Я ему позвонила…
– И он приехал?
Вместо внятного ответа, я просто мотнула головой.
– Это же его настоящий отец, – промямлила я. – Это мне он был – лучшим отчимом…
Лия ничего не ответила, лишь крепко обняла меня за плечи.
– Сочувствую твоей утрате, Лу.
– Спасибо, – выпалила из себя.
Мы продолжили молча сидеть на лавочке, во внутреннем дворе Мюнхенского университета, наблюдая за кучными тучами, которые плыли по небу.
– Даже не представляю, как так быстро могла оборваться жизнь человека…
Мысли и впрямь у меня были депрессивными.
– Смерть никого не спрашивает, Лу, – с грустью в голосе произнесла Лия. – Эту утрату нужно принять и двигаться дальше.
– Но как? – тихо спросила я.
– Как-то…
Через какое-то мгновение к нам подошел Теодор и Финн. Теодор чмокнул Лию в щеку. Это был высокий и хорошо сложенный парень, со слегка кучерявыми темными волосами и невероятно голубыми глазами. Он был сводным братом Лии, и моим лучшим другом. А Финн…
– Эй, как ты? – спросил Финн у меня, присаживаясь рядом на скамейке.
– Держусь, – пробубнила себе под нос. Его крепкая рука легла на мои плечи, но почему-то я не почувствовала себя в безопасности. С Финном у нас было всё сложно – всегда. Мы то расходились, то вновь сходились.
Финн очень похож на Теодора и является вторым по популярности парнем в Мюнхенском университете. У него волосы цвета горячего шоколада, такие же глубокие и насыщенные карие глаза, ровный нос и тонкие губы.
– Alles wird gut (Всё будет хорошо), – прошептал он и поцеловал меня в макушку.
– Wahrscheinlich… (Наверное), – сорвалось с моих уст.
– Когда похороны? – спросил Теодор, крепко обнимая Лию за плечи двумя руками.
– В это воскресенье, – ответила я. – Пока не знаю время и место… Мы все в шоке.
– Понимаю, – твердо сказал Тео.
Впрочем, остаток времени мы просто просидели так: в тишине, утопая в мужских объятиях.
Когда большой перерыв закончился, у нас был спаренный урок с другими группами, отчего пришлось пройти в самую большую аудиторию университета. Когда я поднималась вместе с Лией, Теодором и Финном, закругляя нашу четверку, то увидела, что с другой стороны идет Ганс, прямо мне навстречу.
Мы всегда садились на разные места, когда были такие уроки. Никто не привязывался к какому-то одному, поэтому, найдя пять мест, мы уселись все в ряд: Лия, Теодор, Финн, я и… Ганс, который сел с краю.
Ганса никто не любил. Его презирали, поэтому для всех было удивительно, что Ганс подсел ко мне, ближе к преподавателю. Хотя Теодор, вроде бы, даже изредка с ним здоровался.
Они до сих пор не смогли забыть старые обиды.
И вообще, никто не верит, что они вновь станут друзьями.
У Финна, конечно, Теодор тоже на первом месте, но в последнее время, как в жизни Тео появилась сводная – Лия, Финн начал общаться с Маркусом более плотнее. Кажется, наша компания стала трещать по швам…
– Все в порядке? – переспросил Финн, видимо заметив грустное выражение моего лица.
– Да, все хорошо.
Финн одарил Ганса каким-то злобным взглядом, хотя они никогда не ссорились между собой. Задирали по-ребячески, прикалывались друг над другом, но какого-то конфликта между ними никогда не было.
Ганс даже выложил тетрадку и ручку на стол, что, несомненно, меня удивило. Я украдкой взглянула на сводного, задержала взгляд чуть дольше, чем должна была. Короткая стрижка, черная футболка и красно-белая рубашка, обтягивающие брюки с карманами, высокие ботинки и подтяжки, которые висели. Ганс любил такой стиль, сколько его помню. Всегда придерживался ему, всегда был верен своим принципам. Но что случилось теперь?
Когда в аудиторию зашел учитель, то все лениво с ним поздоровались. Я плохо слушала материал, который нам давали. Мои мысли были заняты другими делами и большим горем, что обрушилось на наши плечи. В этот момент, когда пришлось записывать в тетрадку очередную тему, Ганс незаметно протянул мне под партой записку.
Его рука дотронулась до талии, и я резко обернулась. В его большой ладони лежал свернутый клочок бумаги. Взяв из его руки клочок смятой бумаги, я развернула ее.
«Hey, wie geht es dir? (Ну как ты, держишься?)»
Я сглотнула горькую слюну и развернув бумажку написала ответ ниже:
«Bemühe mich. Und wie geht's dir?(Стараюсь. А ты как?)»
И передала записку Гансу. Соображать было тяжело, что уж там говорить о сосредоточенности на уроке.
«Ich habe nicht gut geschlafen, aber ich glaube, ich halte durch. (Плохо спал, но вроде бы держусь)»
Это было третье сообщение на клочке бумаги. Хоть за последнее время мы со сводным совершенно не имели общих тем для разговоров, то сейчас, как мне казалось, нам приходилось общаться из-за общего горя. Какими бы говнюками мы оба не были – мы оба нуждались в этом общении.
Прочитав его записку, я обернулась и слабо улыбнулась, сжимая в руке клочок бумаги. На этом наш едва ли милый разговор был закончен. Ганс слабо улыбнулся мне в ответ и отвел взгляд, сгорбившись и слушая учителя.
После пары, как только прозвенел звонок, Ганс пулей вылетел из аудитории. Я даже не успела сообразить, что его встревожило, пока клада в сумку тетрадку и учебник.
– Эй, Лу. Ты какая-то странная сегодня, – промурлыкал на ушко мне Финн.
– Я… Просто еще в шоке, – выдохнув, ответила я.
– Может быть, мне тебя отвезти домой?
– Ты хотел сказать, сопроводить меня домой на моей тачке?
Финн довольно ухмыльнулся.
– Ну, типа того…
Я просто поджала губы и стала выходить из рядов, чтобы ребята тоже смогли выйти.
– О чем переписывались с Гансом?
Вопрос от Финна прозвучал так, будто бы он ревнует меня к сводному.
– Он просто спросил, как я себя чувствую.
– Как благородно с его стороны! – фыркнул мой парень. Лия и Тео шли рядом за ручку и слушали нас.
– Он просто пытается быть вежливым. Не всё время же нам враждовать…
– Наверное, ему тоже тяжело? – спросила Лия, поправив высокий хвост.
– Да, – осознание того, что Гансу намного паршивей, чем мне, чувствовалось горечью на кончике языка. – Ему сложнее, чем мне.
– Ну, он еще хорошо держится, – вставил свои пять копеек Теодор.
– Не знаю, ребят. Я хочу меньше говорить на эту тему…
И до конца учебного дня мы больше не затрагивали ее.
Глава 2.1
Мне было сложно собраться с мыслями. Сложно до такой степени, что голова трещала по швам. Похороны были назначены через два дня и я старалась как можно медленно ехать домой. Видеть печальное выражение лица мамы, которая все равно пыталась держаться бодрячком, мне не хотелось. А еще, меньше всего хотелось мне слышать возгласы Финна, который так и норовился развлечь меня тогда, когда я этого меньше всего хотела.
– Ты домой? – спросил он, когда я подошла к своей машине.
– Да. Домой.
– Я с тобой.
– Нет, Финн, – остановила я его. В его глазах блеснул огонек надежды, что я все же передумаю. – Прости, но мне сейчас нужно побыть одной, – я взялась за ручку двери, но не открыла машину.
Финн, казалось, был расстроен моим решением.
– Я думал, что тебе нужна поддержка.
– Позже, Финн, – пришлось с усилием заставить себя улыбнуться. – Не сейчас…
– Ладно, – пожал он плечами и, обогнув машину, подошел ко мне впритык, а после потянулся, чтобы поцеловать. Я подставила щеку, как бы намекая, что сейчас отказываюсь от чего-то нежного с его стороны. Мне правда было плохо, и хотелось, чтобы Финн не наседал слишком уж сильно. – Позвонить тебе вечером?
– Я сама тебе наберу, – сказала я Финну и, сев в машину, помахала ему.
Парень сунул руки в карманы брюк, поправил лямку от портфеля и зашагал прочь, к машине Теодора, у которой уже ворковали они с Лией.
А я, заведя мотор, стартовала с парковки так резко, что позади шин остался лишь легкий дым. Правда ехала я все равно медленно, практически держа одну и туже скорость. Глаза наливались горькими слезами, а горло будто бы сдавливала чья-то сильная рука.
Мне было грустно от того, что жизнь прекрасного человека может вот-так вот оборваться. По щелчку пальца.
Раз – и его нет.
С такими грустными мыслями я доехала до дому и припарковавшись, еще какое-то мгновение сидела в салоне. Пыталась успокоиться, вытереть слезы, которые градом лились по румяным щекам.
В моменты проблесков сознания я погружалась в воспоминания о самых ярких мгновениях детства, связанных с Гансом. Поразительно, как горе способно оживлять прошлое, которое когда-то казалось самым ужасным событием на свете. Будучи маленькой, я думала, что проводить рождественские выходные со сводным братом – это наихудшее, что могло случиться в моей жизни. Даже самый лучший подарок, который мне дарили родители, не вызывал такого трепета. Признаться самой себе, подарок Ганса всегда был хуже, но он не унывал и никогда не пытался мне навредить.
Он терпеливо сносил все мои выходки и неизменно приходил на помощь, когда я в ней нуждалась. А я вела себя отвратительно, просто по-свински. Ужасно и недостойно младшей сводной сестры, которая постоянно пыталась досадить ему из-за своей эгоистичной натуры. Ганс, несмотря на острые ножи моего характера, всегда был готов подставить свою спину, лишь бы я оставалась невредимой.
Мы не были кровными родственниками, но Ганс всё равно считал меня своей сестрой, хотя на людях и показывал обратное, делая вид, что это самое ужасное событие в его жизни. Это осознание пришло ко мне только сейчас, когда я утопала в горе и захлёбывалась собственной желчью.
Домой я зашла неслышно. Приняла ванну, практически ничего не ела. Мама тихо сидела в комнате и листала старый альбом, на фотоснимках которого мы, как казалось, были самой счастливой семьей.
– Мам? – тихо позвала я ее.
Она подняла свои заплаканные глаза и жестом позвала меня к себе.
– Иди сюда, Маш, – так она называла меня только дома, а на людях, для всех я была либо Лу, либо Марией-Луизой. – Иди сюда моя девочка
Я присела рядом, почувствовав, как мама нежно и крепко обнимает меня за плечи. Эти объятия всегда были для меня символом незыблемой опоры и защиты, словно самая прочная стена, за которой можно укрыться от любых невзгод. На ее коленке был открыт фотоальбом, на котором была старая потертая фотография с мыльницы. Так раньше называли пленочные фотоаппараты, и не знаю, даже до сих пор скажи мне: «Это на мыльницу было сделано!» – как меня мгновенно окутывают старые воспоминания былых лет.
– Помнишь тот день? – спросила она у меня.
Я молча кивнула, стараясь сдержать подступающие слёзы.
На заднем дворе стояли мы с Гансом. Он радостно улыбался, надев свои тонкие солнечные очки и кепку, с той самой довольной и немного резкой улыбкой, которую он всегда дарил, когда был особенно доволен. А рядом с ним стояла я, плача от боли, потому что разодрала коленку. С открытым ртом и слезами на глазах я всё же крепко держала его за руку.
– Гансу подарили очки, о которых он мечтал. А ты так сильно хотела посмотреть на его подарок, что упала со ступеньки, разодрав коленку. Помнишь?
Я чуть ли не заплакала от нахлынувших воспоминаний.
– Мне было пять лет, – добавила я, шмыгнув носом. Теплая рука мамы нежно гладила меня по волосам.
– Да. Ты влезла в кадр, чтоб Ганс подул на твою коленку, пока его фотографировали на солнечном дворе.
Мама перевернула одной рукой лист фотоальбома. Фотографии пестрили забытыми моментами первого класса, первого школьного выезда на кемпинг. Далее шло Рождество, в котором я вновь плакала на фотоснимках, потому что меня напугали Гринчем, отчего я расплакалась еще сильней.
– Вы тут такие радостные, – погладила мама по фотографией, на которой был Максимилиан, сидящий в кресле в новогодней шапочке и больших очках, а по обе стороны от него были мы: я и Ганс.
– Все будет хорошо, мама, – сорвалось с моих уст так внезапно, что я даже подумать не успела, как слезы матери капали на фотоснимки.
– Да, – провыла она, и я крепко обняла ее за шею.
И тогда меня осенила одна идея: глупая, но все равно осуществимая. Время так быстро уходит из-под ног, а в мире столько всего прекрасного, что я хотела бы сделать кое-какие вещи.
Написать свой список «важных» дел, которые должна успеть сделать до своей смерти.
Глава 3. Ганс
Единственным светлым моментом в этот мрачный день для меня было то, что я мог вальяжно развалиться за последней партой, несмотря на то, что всю ночь пахал на шиномонтаже. В ухе звенело, а поясница ныла, напоминая о тяжёлой смене. Правда этот момент просуществовал недолго.
– Мистер Шульц, – произнесла преподавательница, и её тон был настолько требовательным, что мне пришлось с неохотой оторвать голову от парты.
– Да? – откликнулся я.
– Вы посещаете занятия, чтобы спать?
– Бывает, – ответил я скучающе. На самом деле, больше всего мне хотелось просто упасть лицом в подушку и заснуть, и чтобы это длилось как можно дольше – лет двадцать или даже тридцать.
– Мистер Шульц!
Этот голос преподавательницы вызывал у меня наибольшее раздражение. Фрида Майер продолжала буравить меня своими серыми глазами, будто бы пыталась прожечь дыру во мне.
– Я проснулся, – нехотя ответил я, стараясь усесться за партой ровнее.
– Мистер Шульц! Это уже не первый раз, когда вы спите на моих уроках!
– Я же не виноват, что они настолько скучные, что вводят меня в сон?
Фрида Майер, кажется, вскипела от ярости. Ее мировая литература настолько была важна только ей, что порой, ее несло совершенно в другие дебри. Настолько скучные, что даже самые прожорливые историки мира могли бы заскучать в диалоге.
– Мистер Шульц, это моё последнее предупреждение! – Фрида Майер злобно пыхтела через нос, сузив брови. А вся группа молчала, и я ощутил напряжение в воздухе, будто бы единственная помеха в этом помещении был я. – Если вы продолжите в том же духе, то я буду вынуждена обратиться в деканат для обсуждения вашего отчисления.
Отчисления. Все учителя пугают студентов им, но на самом деле, каждому из них пофигу, как ученик усвоил урок. Правильные балы рисуются по шуляку пальца, или за крупную сумму вложенную в обертку из-под шоколадки.
– Простите, Мисс Майер, – расплываться в извинениях было бессмысленно, к тому же, она всё равно после занятий пожалуется в деканат. Этой стерве только и нужно, что жаловаться на всех, кто ей неугоден. Уж лучше бы мужика себе завела, или на крайний случай, купила бы игрушку для взрослых для снятия напряжения.
– Так, на чем остановилась?
Было сложно справится с сонливостью, подпирая лицо рукой. Глаза слипались чаще, чем мадам Майер делала паузы между фразами. И как только пара закончилась, то я первым встал из-за парты, направляясь к выходу.
– Мистер Шульц, – остановила меня преподавательница, дотронувшись до плеча, когда я уже был на полпути за дверью. – Задержитесь.
Мне хотелось побыстрее улизнуть из универа, но пришлось выполнить её просьбу. Она подошла к своему столу и усевшись за него, сложила руки в замок. Я уже заранее знал, что меня будут отчитывать за успеваемость, ведь она была практически на нуле.
Тупым я не был, как считали всё окружающие. Просто в какой-то момент я потерял внимание к некоторым предметам.
– Мистер Шульц. У вас очень плохие баллы за тесты.
– Я знаю.
– Ещё пару контрольных тестов с низким баллом, и вы вылетите из университета так быстро, что не успеете сказать слово «мама».
Дальше я её не слушал. Просто кивал головой, как болванчик, чтобы она побыстрее отстала от меня. В голове свистел ветер, как в трубе, отчего голова начинала постепенно трещать по швам. После того, как она отсчитала меня, я направился на выход. Но и там меня поджидала подлость. Деканша позвала меня в свой кабинет, и я сразу же почувствовал, что дело пахнет дрянью.
– Я опять в чём-то провинился?
– Вроде бы никаких инцидентов, с вашим именем, до меня не доходили, – поправила она очки, усаживаясь за свой чистый идеальный стол. Перед ней лежала папка с моими документами, и тут было два варианта: отчисление или ещё какая-то дрянь, которую на меня повесят.
– Тогда зачем вызвали?
– Я хотела бы поговорить о вашей успеваемости, Мистер Шульц, – её голос звучал как нож, разрезающий воздух. Она открыла папку, и я увидел свои баллы, аккуратно выстроенные в ряд, как солдаты на параде. Красные буквы, словно кровь, выделялись на белом фоне.
– Ваши результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего, – продолжила она, глядя на меня поверх очков. Её взгляд был холодным, как лёд, но я уже давно перестал чувствовать его остроту.
Я сидел, сгорбившись в кресле, и смотрел куда-то в сторону, за её плечо, где на стене висела картина с изображением какого-то важного университетского события. Люди на ней улыбались, но их улыбки казались мне фальшивыми, как маски. Как и все эти групповые фото на память. Всё это ложь.
– Мистер Шульц, вы меня слушаете? – её голос стал резче, но я лишь кивнул, не в силах заставить себя сосредоточиться на её словах.
– Да, – пробормотал я.
– Вы понимаете, что ваше поведение и результаты неприемлемы для нашего университета? – она говорила что-то о дисциплине, о требованиях, о репутации, но её слова растворялись в тумане, который окутал мои мысли.
– Я понимаю, – на самом деле, я не понимал ничего. Ни её слов, ни того, почему я всё ещё здесь, в этом кабинете, в этом мире.
– Если вы не улучшите свои результаты, мы будем вынуждены рассмотреть вопрос о вашем отчислении, – её голос звучал как приговор, но для меня это уже не имело значения.
– Хорошо, – ответил я, чувствуя, как что-то внутри меня сжимается. Она посмотрела на меня с подозрением, как будто ожидала, что я начну оправдываться, что обязательно подтяну оценки, что не заставлю её красеть на комиссия и никоем образом не подорву имидж университета. Но это была бы откровенная ложь, которая бы её имела смысла. Я просто сидел, смотря в пустоту, и думал о том, как отец всегда говорил, что главное – не сдаваться.
– Мистер Шульц, – её голос стал мягче, но я не мог понять, было ли это искренне или просто ещё одна попытка достучаться до меня. – У вас есть потенциал. Но вы должны взять себя в руки.
Я кивнул, но в голове был только один вопрос: «Зачем я это делаю?»
– Спасибо, – сказал я, вставая.
Мои ноги были как ватные, усталость валила меня с ног, но я сделал шаг к двери.
– Мистер Шульц, – окликнула она. – Если вам нужна помощь, вы можете обратиться к нам.
Её лицо было серьёзным. Зачем ей нянчится с таким, как я?
Но я просто поправил рюкзак на плече и вышел из кабинета, оставив её сидеть за её идеально чистым столом.
Ближе к вечеру, когда я дремал на диване, уткнувшись лицом в подушку, зазвонил телефон. Звонок пробился сквозь полусон, как назойливый жужжащий шмель. Я протянул руку, нащупал аппарат и, не глядя, поднёс его к уху.
– Да? – пробормотал я, голосом хриплым от сна.
– Halo, – произнесла Лу.
Ее голос звучал как всегда – мягко, но с лёгкой ноткой беспокойства.
– Что-то случилось? – я приподнялся на локте, пытаясь стряхнуть с себя остатки дремоты.
Лу последние дни звонила, а не писала, как обычно. Это было странно. Она всегда предпочитала сообщения – короткие, лаконичные, без лишних слов. А я никак не мог привыкнуть к этому, хотя понимал, что привыкать тут не к чему.
– Нет, Ганс, – она выдохнула, и я услышал, как её дыхание слегка дрогнуло. Я сел, потирая щеку ладонью, словно пытаясь разбудить себя. – Позвонила, чтобы сказать, что похоронная церемония начнётся в десять утра. На кладбище Friedwälder.
Тяжёлое и неловкое молчание повисло в воздухе. Я знал, что должен что-то сказать, но слова застряли где-то в горле, как комок, который невозможно проглотить. Откашлявшись, я наконец выдавил:
– Спасибо, что сказала.
– Не за что, Ганс.
Лу произнесла это шёпотом, а потом, повесила трубку первой. И я ещё несколько секунд сидел с телефоном в руке, словно ожидая, что она добавит что-то ещё. Но в трубке была только густая и безжизненная тишина.
Я опустил телефон на диван и закрыл глаза.
Friedwälder.
Лес покоя.
Название звучало как что-то из сказки – тихое, уединённое место, где деревья шепчутся с ветром, а земля хранит память о тех, кто ушёл. Но для меня это было просто место, где я должен был сказать последнее «прощай».
Я встал и подошёл к окну. Закат уже окрашивал небо в тёплые оттенки оранжевого и розового, но я не видел красоты. Всё, что я чувствовал, – это пустота, которая разливалась внутри, как холодная вода, заполняя каждый уголок.
Послезавтра.
Послезавтра я должен буду стоять там, среди деревьев, и слушать слова, которые не вернут его. Послезавтра я должен буду смотреть на гроб, зная, что он больше никогда не улыбнётся, не похлопает меня по плечу, не скажет: «Всё будет хорошо, сынок».
Я сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони.
– Пап, – прошептал я в пустоту комнаты, но ответа не было. Только тишина, которая звучала громче любого слова.
Я остался у окна, пока последние лучи солнца не исчезли за горизонтом, и тьма не окутала всё вокруг. Завтра будет новый день, но для меня он уже казался таким же пустым, как и этот.
Глава 3.1
В ночь перед похоронами я чувствовал себя ужасно. Ворочался в кровати, никак не мог найти правильное положение. Казалось, что все внутренности болят, их что-то сдавливает под прессом.
Встав без будильника около шести утра, я решил выйти на пробежку. Бегал я часто, практически каждое утро, но в последнюю неделю забросил это дело. Нацепив спортивный костюм и взяв бутылку воды, побежал в ближайший сквер. Надел наушники и включил зубодробительную музыку, чтобы сосредоточиться и отбросить тяжёлые мысли. Но получалось у меня это, мягко говоря, очень плохо.
Ветер был холодным, он бил в лицо, словно пытаясь вырвать из меня последние остатки спокойствия. Каждый шаг по асфальту отдавался в висках, будто я бежал не по земле, а по собственной памяти, где каждая трещина на дороге напоминала о чем-то давно забытом. Музыка в наушниках гремела, но она не заглушала голосов, которые крутились в голове. Я бежал, пока ноги не стали ватными, а дыхание – прерывистым. Остановился у старого дуба, оперевшись руками о колени.
Казалось, что весь мир уходит из-под ног.
Отец всегда был против моих побегов из дома. Даже сейчас я чувствую, что пытаюсь убежать от самого себя. Просто трусил, чтобы посмотреть своему страху в лицо, чтобы раз и навсегда побороть его.
Тучи стали сгущаться над Мюнхеном и мне пришлось бежать обратно, чтобы не попасть под дождь.
Вернувшись домой, я принял душ, надел черный костюм и галстук, который отец подарил мне на совершеннолетие. Он был немного тесноват, но я не стал его менять. Он был слишком дорог мне, хотя я и старался не показывать свою привязанность к нему на людях. Перед выходом, я взглянул на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрело бледное лицо, с темными кругами под глазами, будто бы я сам был на грани смерти. Коротко стриженные волосы, втянутые щеки, а пустые серые глаза казались безжизненными.
– Na ja, Alter. Siehst ja mies aus. (Н-да, старик. Выглядишь паршиво), – прохрипел я, потирая щеку.
Дорога на кладбище заняла около часа. Я ехал на своей машине, которую отец подарил на шестандатилетие. Она скрипела на каждом повороте, будто жалуясь на свою судьбу. Ее нужно было уже заменить, но я никак не мог этого сделать. Мне казалось, что если я разберу ее на части, то я предам своего отца, который вложил немало усилий, чтобы она появилась у меня.
Хотя, кого я обманываю?
Эта тачка несколько лет гнила в гараже, а после, отец просто ее отремонтировал, подарив мне. Марии-Луизе, к слову, купили новую, с гламурным розовым бантом. И я решил, что если будет будет возможность заменить тачку, то я это сделаю при первой возможности. Я даже не включил радио, отдав предпочтение тишине. Но даже в этой тишине было слишком шумно.
Время до кладбища было мучительным. И как только я въехал на территорию, и завернул в церкви. Там, у её подножия, стояла Мария с Софией, а так же Лия, Теодор и Фин. Других людей я не узнавал, наверное, это были друзья с работы. Припарковав тачку, я ещё с секунду сидел в салоне, а после, вышел. Взял цветы, которые были в багажнике, и с треском закрыв его, направился ко всем.
Когда Мария-Луиза меня увидела, то в её глазах мелькнул огонек облегчения, будто бы она была рада меня видеть. Лу стояла затянутая в чёрное платье, слишком строгое для её хрупких плеч.
– Halo, – сказал я всем.
– Halo, – первой ответила Лу.
Теодор одарил меня не особо добрым взглядом, хотя после того, как я его спас, не ждал от него слов благодарности. Пришлось первым протянуть ему руку. Тео не стал противиться и протянул её в ответ, а вот Фин смотрел на меня так, будто бы я тут был лишним. С ним тоже, ради приличия, пришлось поздороваться.
– Сочувствую утрате, старик, – сказал Тео.
Его слова были лишь знаком приличия. В любой другой ситуации, Теодор бы промолчал, или съязвил ли чего-то лишнего. Он до сих пор не мог меня простить.
– Ганс, это очень грустно..
Лия, девушка Теодора, на которую я положил глаз полгода назад, обняла меня. Я не стал противиться и делать вид, что мне по-барабану на всё это, ведь это были похороны моего отца.
– Сочувствую тебе.
– Danke (Спасибо), – ответил я.
Теодор по-прежнему буравил меня злобным взглядом. Я даже видел, как в его венах закипает кровь от того, что Лия обнимает меня. Но к Лии я ничего не чувствовал.
Полгода назад, когда Лия появилась в жизни этой компашки, я думал, что отыграюсь. Тогда я не знал, что она – сводная, точнее, нареченная сводная Теодора. Их родители, как и наши с Марией-Луизой, решили пожениться. Вот только в нашем случае, мы были детьми и пережили эту новость менее болезненно, чем Теодор и Лия.
Их ненависть пестрила ярким водопадом, и при каждой возможно, Теодор пытался всем показать, насколько сильно она сломала его жизнь. А потом, в какой-то момент они поняли, что это не ненависть, а самая настоящая любовь. Тогда я решил подкатить к Лии, но Теодор взбесился и разбил мне нос, отправив на больничную койку, хотя и я оставил на его лице отличные фингалы. Я сбился со счету, сколько раз мы с Теодором дрались, хотя раньше мы были друзьями не разлей вода.
Эти воспоминания я хранил глубоко внутри себя. Даже как-то дал себе слово, что ни в коем-случае, никогда не открою их вновь.
Следом я поздоровался с несколькими рослыми мужчинами в костюмах, которые также выразили свое соболезнование.
Стоя среди тех, кто раньше был мне семьёй и друзьями я чувствовал себя чужим. Я понимал, что мне здесь не место, но я хотел проводить отца. Это был моим долгом. И желанием.
Все общались между собой, что-то обсуждали. Лу и София всплакнули, отчего Финн и Лия сразу же успокаивали их. А я стоял в стороне, будто бы всё то, что происходит сегодня меня не касается. Так и стоял с букетом красных роз, ожидая, когда начнется церемония погребения.
Когда началось «прощание», то все замирали около деревянного гроба на долю секунды, а после, отходили. Сначала София, потом Лу, далее Лия, Фин и Теодор, следом друзья с работы. И в конце, как будто я был брошенным ребёнком, подошёл я.
Я даже не знал, что нужно готовить. Язык прилип к небу, и я не смог произнести ни единого слова. Но мысленно я просил прощения у отца за то, что так мало провел времени с ним. Следом гроб понесли в печь, и началось сжигание. Сколько оно длилось, я не знал, потому что все начали расходиться.
Я замер у края печи, сжимая в руках последний букет красных роз, будто вырванных из грудины. Бросил его на черный металл, где уже гнили венки с фальшивыми соболезнованиями. Окно крематория, огромное и слепое, поглощало свет. В отражении мелькали силуэты чужих людей, но огня внутри не было – лишь пепельная тьма, в которой растворилось всё: его смех, наши рыбалки на рассвете, запах табака на старой куртке…
– Ганс?
Голос Марии-Луизы вонзился в спину лезвием. Я обернулся, ощущая, как ноги вязнут в смоле. Она стояла, прижимая к груди черную шаль – призрак в кружевах траура. Ее волосы рассыпались пеплом по плечам.
Мы похожи, подумал я.
– Ja? – хрипло выдохнул, нащупав и сжимая в кармане фотографию отца. Снимок был старый – до того, как они появились в нашем доме.
– Ты поедешь к нам… домой на поминки? – она сделала паузу перед словом «домой», будто пробуя его на язык. Я почувствовал, как сжимается желудок. За ее спиной София бросала косые взгляды, точно такие же, как Фин и Теодор. Они так и ждали, чтобы я ответил «нет».
– Я буду там лишним, – прошептал, но фраза сорвалась в кашель. Горло сдавило воспоминанием: дверной звонок в три ночи, чемодан на мокром асфальте, ее тень за шторой второго этажа.
Лу тогда не вышла.
Не попрощалась.
Она шагнула ближе, и запах ее духов – горький миндаль с ноткой ладана – смешался с запахом тления от печи. Ее пальцы вцепились в мою ладонь, холодные как ключи от склепа. Я автоматически сжал их, и вдруг – вспышка: мы дети, я тащу ее из пруда, она кашляет водой, цепляясь ногтями в мою рубашку. Тот же ледяной ужас в ладонях.
– Пожалуйста, – ее губы дрожали, будто она говорила сквозь стекло аквариума.
Обычно я бы огрызнулся. Развернулся бы к выходу и ушел молча.
Лу и я – как два кремня, высекающие огонь даже при мимолётном соприкосновении. Искра раздора вспыхивает между нами стремительнее, чем загораются звёзды в сумеречном небе. Её язвительные шутки о моей «идеальной» семье, моё раздражение от её вечного сарказма…
Но сегодня всё иначе. Смерть стёрла границы, оставив лишь зыбкий пепел между нами.
Сегодня я жаждал тишины – той густой, ватной тишины, что хоронит под собой даже эхо былых обид. Губы уже складывались для холодного «нет», но…
– Мне мне нужен…
Она замолчала, но её глаза завершили фразу за неё. Они были зелёными, как у отца, всегда полные уверенности, но сейчас они казались расплавленными, как воск на поминальной свече. В них отражался немой крик, наполненный одиночеством и виной.
Губы произнесли «да» прежде, чем разум успел воспротивиться. Лу вздохнула, и её ресницы слегка дрогнули – возможно, это была благодарность. За наше молчаливое перемирие. За то, что сегодня мы проводили в последний путь двух отцов: её – который променял кровь на любовь, и моего – который предпочёл чужую дочь своему сыну.
Мы стояли, связанные не кровью, а болью, которая наконец нашла выход – через трещину в стене, которую возвели мы сами между друг другом. Печь вздохнула, поглощая гроб. Лу не отпускала мою руку, а я, вопреки всему, не хотел, чтобы она это делала.
– Тогда.. встретимся дома?
– Ja, – ответил я поспешно, когда Лу отпустила мою руку.
Её след на моей коже горел, словно клеймо. Я смотрел, как она исчезает в толпе, но не мог пошевелиться.
Возможно, сегодня её боль – это всё, что мне осталось в наследство от отца.
Глава 3.2
Дом стоял как немой страж на фоне свинцового неба, его кирпичные стены, обвитые плющом, казались темнее, чем в памяти. Я припарковался у тротуара, пальцы сжали руль до побеления.
Три года.
Три года запах лаванды из палисадника не щекотал ноздри, три года я не слышал скрипа калитки, который отец так и не починил. Теперь этот звук разрезал тишину, будто ножом по старому шраму.
В прихожей витал тяжелый аромат гвоздик и воска – смерть пахла неестественной чистотой. Голоса в гостиной переплетались в густой гул. София, застывшая в черном кружевном платье, кивнула с порога, ее взгляд скользнул по мне, как по чужому. Мария-Луиза стояла у буфета, обхватив бокал, словно якорь. Ее темные волосы, собранные в беспорядочный пучок, чернели под люстрой – единственное бездонное пятно в этой монохромной реальности.
– Ты опоздал на час, – шепнул Финн, ее парень, проходя мимо меня с подносом канапе. Его голос прозвучал как шипение проколотой шины.
Никто не был рад моему появлению на пороге. Казалось, даже сам дом был против моего появления.
Поминки текли вязко, словно патока. Старшие коллеги отца, чьи имена я не хотел запоминать, жевали анекдоты о его щедрости, офисные байки, приправляя всё это фальшивыми вздохами.
Один из них обратился ко мне, делая глоток вина.
– Ганс, а ты что планируешь делать дальше?
Я пожал плечами.
– Пока попытаюсь не вылететь из университета, а дальше посмотрим.
– Максимилиан всегда был человеком ответственным, – продолжил мужчина, его голос звучал как холодный ветер, пронизывающий до костей. Он был средних лет, с сединой, пробивающейся в его аккуратной бороде, и подтянутым телом, словно выточенным из камня. Казалось, он был вторым по значимости в компании, конечно, после моего отца. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, скользнул по мне, будто пытаясь найти слабое место. – Интересно, в кого ты такой? – произнес он, и в его голосе звучало не столько любопытство, сколько презрение.
– Наверное, в свою мать, – прохрипел Теодор, откашлявшись.
Я взглянул на него с яростью, которая бурлила во мне, словно лава, готовая вот-вот вырваться наружу. В воздухе разливалось напряжение, плотное, как смог, и я чувствовал, как леденеют кончики пальцев.
Казалось, что сегодня весь мир ополчился против меня.
Никто не имел права осуждать мою мать за то, что она когда-то отказалась от своих родительских прав, оставив меня одного. Никто не имел права осуждать меня за то, что я вырос таким – жестким и колючим, зная, что любое прикосновение может быть ударом в спину.
Но они всё равно пытались задеть меня, надеясь, что это поможет мне стать лучше.
Каждое их слово и осуждающий взгляд лишь укрепляли стену, которую я возводил вокруг себя на протяжении многих лет. Они думали, что смогут сломить меня, пробить мою броню, ошиблись.
Я стал тем, кем они хотели меня видеть – холодным, расчетливым и безжалостным. И в этом их заслуга.
– Повтори?
– Я хочу сказать, что ты похож на свою мать, – Теодор произнёс это так спокойно, так уверенно, будто просто констатировал факт. Его слова, словно нож, вонзились в самое сердце, и я почувствовал, как внутри всё сжимается. – Такой же безответственный и несерьёзный во всём
Мы все были на грани. Нервы натянуты, как струны, готовые лопнуть от малейшего прикосновения. У каждого из нас были свои демоны, свои причины для того, чтобы срываться. Но Теодор… Он перешёл черту. Ту самую, которую я всегда старался обходить, даже в самых жестоких спорах.
Я отшатнулся, будто его слова были не просто звуками, а физическим ударом. Локоть задел вазу с хризантемами, и она упала, разбившись о паркет. Стекло рассыпалось, как звёзды, упавшие с неба, – красиво и безнадёжно.
– Всё, успокоились, – кто-то из мужчин попытался вмешаться, но его голос был далёк, как эхо из другого мира. Мне было плевать.
– Да что ты вообще знаешь о том, как расти без матери? – вырвалось у меня. Голос звучал хрипло, будто я кричал, хотя я даже не заметил, когда начал повышать тон.
Теодор лукаво улыбнулся, отвернувшись. Он знал, что такое материнская любовь. Он знал, как это – быть обнятым, быть нужным, быть любимым. А я… Я знал только пустоту.
Пустоту, которая осталась после неё. Пустоту, которую я носил в себе, как открытую рану, которую никто не мог зашить.
– Ты думаешь, это смешно? – я развернулся к нему, чувствуя, как гнев поднимается из глубины, как лава, готовая всё сжечь на своём пути. – Ты думаешь, это делает тебя лучше? Ты знаешь, каково это – каждый день видеть её черты в зеркале? Каждый день ненавидеть себя за то, что ты всё больше становишься похож на человека, который бросил тебя, как ненужную вещь?
– Не делай из этого драму, старина. Твой отец бы не оценил твоего стремления стать похожей на мать, которой было насрать на ее же ребенка.
Я не смог сдержаться и ударил Теодора, мой кулак с силой врезался ему в челюсть, и парень отлетел на стол.
Послышался женский крик и звон разбитой посуды.
Я задыхался, в ушах стучало: «Беги, беги, беги. Тебе здесь не место».
Финн и другие мужчины стали разнимать нас, но мы настолько сильно вцепились друг в друга, что не могли отступить.
– Хватит! Ганс! – громко крикнула София, и я остановился.
Рука сжимала за ворот рубашки Теодора. В его глазах мерцала усмешка, будто бы он этого и хотел, чтобы я сорвался на глазах у всех.
Из носа текла тонкая струйка крови.
Что ж. Ему это удалось.
Я отпустил Теодора, усевшись на свой стул.
– Я не позволю, – произнесла София, едва сдерживая слёзы, – чтобы ты, Ганс, превратил поминки Максимилиана в цирковое представление!
Во взглядах гостей было презрение. Я говорил Марии-Луизе, что буду лишним. Что мне не место в этом доме, рядом с этими людьми. И кажется, что я ошибся на счет того, что нерушимая граница стены дала трещину.
– Простите, – всё, что смог сказать, встав из-за стола.
Глава 3.3
– Ганс! – голос Марии-Луизы прозвучал за моей спиной, словно тонкая нить, пытающаяся удержать меня. Но я не обернулся.
Я шел вперед, шаг за шагом, к своей комнате, к тому, что осталось от меня в этом доме. Фотографии, кубки, пыльные воспоминания – всё, что могло стать моим спасательным кругом в этом море равнодушия. – Ганс, постой! – ее голос дрогнул.
– Я говорил тебе, что здесь я буду лишним, – вырвалось у меня, хрипло и резко.
Я ворвался в комнату, словно ураган, сметающий все на своем пути. Мария-Луиза замерла на пороге, будто не решаясь переступить черту. Ее глаза, полные печали, смотрели на меня, но я не мог позволить себе остановиться. Я рылся в ящиках, швыряя вещи в поисках портфеля или хоть чего-то, что могло бы стать вместилищем для моего прошлого.
– Ганс, мы все на грани, – ее голос был мягким, как шелк, но я знал, что это лишь маска, прикрывающая усталость и раздражение. – Не злись…
Но как не злиться? Я был чужим здесь. Они терпели меня только из уважения к Максимилиану, а теперь, когда его не было, я стал никем. Пустым местом.
Я нашел старую спортивную сумку, потрепанную временем, и начал бросать в нее все, что попадалось под руку. Фотографии, кубки, мелочи, которые когда-то что-то значили. Некоторые вещи с глухим стуком падали на паркет, другие исчезали в сумке, словно поглощаемые бездной. Спиной я чувствовал ее взгляд, тяжелый и печальный, будто она видела, как я разрушаю последние мосты между нами.
Удивительно. Как быстро все рушится. Как легко превратить жизнь в хаос, когда ты больше не веришь в то, что что-то имеет значение.
– Теодор заслужил это, – ее голос снова донесся до меня, но на этот раз в нем была нотка отчаяния. – Ему не следовало давить на тебя.
– Ты пришла защищать его?
– Нет, – твердо ответила Лу и наконец-то перешагнула порог комнаты. – Я никого не защищаю, Ганс. Я просто хочу, чтобы…
Я обернулся и встретился с Лу взглядом. Что она хотела от меня? Чтобы я остался? Терпел все нападки со стороны тех, к кому я пытался до сегодняшнего дня хранить хоть капельку уважения?
– Что ты хочешь?
– Чтобы всё было как раньше.
– Не будет как раньше, Лу. И ты это знаешь.
Сводная замолчала. Я не смог долго смотреть в ее глаза, потому что знал, что поддамся ей. Соглашусь не со всеми ее словами, но отчасти все равно ей уступлю.
А я этого не хотел. С меня хватит быть грушей для битья и жилеткой для слез. Продолжил собирать вещи, как ни в чем не бывало.
– Ганс…
– Что еще, Лу? – ответ был наполнен злостью, но я не специально.
Мне правда сейчас было паршиво. И я знал, что сил на успокоение Лу у меня не хватит. Она высасывала из меня радость, как дементор из гребаного Гарри Поттера. А мне и самому бы хотелось, хотя бы на долю секунды, почувствовать себя счастливым, а не удрученным.
– Просто знай, что я хотела бы стать с тобой друзьями.
– Ты правда веришь в то, что говоришь?
Лу не совсем, но больше уверенней, чем нет, кивнула.
– Я понимаю, что сейчас не время…
– Сейчас ой как не время, Лу. Я зол, – фыркнул в ответ и перешел к шкафу. Там где-то были крутые бейсболки, и я хотел их забрать с собой.
– Подумай над этим, – проронила сводная, как бы давая мне понять, что она хочет разрушить стену между нами. Перенести границы ненависти в прошлое. Попробовать что-то новое.
Это меня и пугало.
Я остановился, подумав, но мысли путались. Обернулся, но Лу уже ушла, оставив меня одного.
Думаю, сегодня я тоже перегнул палку, чуть ли не откинув Лу от себя. Как прежде уже не будет, мы повзрослели. Но для чего Лу хотела со мной сблизиться? Что ей бы это дало? Ничего, только больший контроль надо мной.
Последняя молния сумки щелкнула с тихим приговором. Я замер на пороге, будто коридор внезапно стал пропастью. Сквозь приоткрытую дверь в комнату Лу просочился знакомый шлейф – жасмин, растерзанный горьковатым миндалем. Лу любила все напитки с миндалем, и даже миндальное молоко, от которого меня воротит до сих пор. Не помню, как ступня переступила запретную черту – будто невидимые нити впились в запястья, ведя меня сквозь ароматный туман.
Комната дышала застывшим временем. Те же обои с выцветшими ромашками, где мы когда-то углем рисовали драконов. Трещина на потолке, похожая на карту забытого королевства. Даже плюшевый лис у окна все так же подмигивал стеклянным глазом.
Я всегда питал к ней слабость, подсознательно, конечно. Я мирился с тем, что она моя сводная. Моя малая. Та, которую хотелось защищать. Быть для нее примерным братом.
Все это я прятал глубоко в сердце, и не дай бог Лу об этом узнала бы…
А потом я смирился. Смирился с тем, что я ей не нужен.
Я провел пальцами по бархатистой пыли на комоде – здесь, под слоем старых школьных тетрадей, мы когда-то прятали «секретные» записки. Вдруг ладонь наткнулась на шероховатый уголок.
Список.
Бумага пахла ее духами. Буквы выскакивали строчкой муравьев, танцующих макабр: «Список дел, который я, Мария-Луиза, должна сделать до смерти». Горло сжалось, будто кто-то запустил в него ледяную гальку. Пункты мелькали, как вспышки камеры, – «татуировка», «горка высотой с Эйфелеву башню», а между ними…
Я
«Не забывать поздравлять…», «Подарить то, что он давно хотел…». Каждое слово прожигало пергамент, превращаясь в дымчатые кольца памяти.
Вот она, семилетняя, спит, прижав ко лбу «Хроники Нарнии», а я осторожно вынимаю книгу из цепких пальчиков.
Вот она, протягивает мне миндальное печенье с виноватой улыбкой: «Я же знаю, ты ненавидишь, но вдруг…»
Рука дрожала, превращая листок в шелестящий лист осеннего клена.
Шестнадцать упоминаний.
Шестнадцать гвоздей в крышке гроба, где я похоронил надежду.
Внезапно за спиной хрустнула половица.
– Ганс?
Голос обжег сильнее, чем спирт на порезах. Обернувшись, я машинально прижал список к груди – глупый жест, будто пытаясь спрятать собственное сердце. Лу стояла в дверях, закусив нижнюю губу. В ее глазах метались осколки – страх, надежда, стыд, что-то еще…
– Это… – начал я, но язык прилип к нёбу. Вместо слов протянул ей бумагу, будто разряженный пистолет.
Она не взяла. Глаза цвета незрелой сливы вдруг наполнились тем блеском, который я помнил с тех самых ночей в шалаше, когда мы загадывали желания на падающие звезды и клялись найти волшебный шкаф.
– Ты прочитал пункт про примирение, – не спрашивая, констатировала она. Пальцы сжали ткань черного платья до побеления костяшек. – Я… не хотела, чтобы ты его увидел. Ну.. список.
– Но оставила его на самом видном месте, зная, что я его увижу, ведь так?
Лу промолчала. Ее губы дрогнули, будто пытались поймать невидимую нить между нами – ту самую, что когда-то связывала наши пальцы в детской клятве. Сейчас на миг она была похожа на ту девчонку из шалаша на заднем дворе: растрепанной, упрямой, вечно жующей миндальные конфеты из кармана пижамы.
– Мне было страшно, – выдохнула она, наконец. – Будто если я скажу это вслух, ты… исчезнешь. Как тогда, когда собрал вещи и ушел из дома.
Сердце упало куда-то в сапог, набитый зимним снегом. Я сделал шаг, и пол скрипнул, словно предупреждая.
Ее дыхание смешалось с моим – сладковатый миндаль против горького кофе.
– Лу, мы… – голос предательски сломался. Руки сами потянулись к ней, но движение вышло резким, будто я пытался поймать падающую вазу. Ладонь шлепнулась ей на плечо, пальцы вцепились в тонкую ткань платья. СУмка с грохотом упала на пол. Сводная вздрогнула, но не отстранилась
– Мы уже не дети, – прошептала она, и в этом «мы» прозвучало что-то опасное, как вспышка молнии за окном.
Потом всё смешалось. Её ладони уперлись мне в грудь – не отталкивая, а будто проверяя, настоящий ли я. Лоб коснулся моего подбородка. Запах жасмина ударил в виски, и я, споткнувшись о собственные разбитые мечты, прижал её к комоду.
Старый лис с окна упал с глухим стуком, но мы уже не слышали ничего.
Потому что губы Лу вонзились в мои.
Глава 3.4
Поцелуй возник сам – нежданный, как внезапн
