Сказки ПРО Пушкина
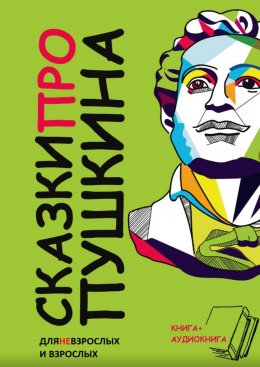
Авторы: Шарова Александра, Филиппова Надежда, Баскакова Инна, Аболишина Елена, Вострикова Марина, Крамская Наталья, Лебедева Любовь, Монахова Людмила, Павлов Евгений, Репина Елена, Савинов Кирилл, Сосновских Виктория, Стрелков Евгений, Сухотерин Дмитрий, Сущенко Лариса, Ткачёва Антонина, Травкина Виктория, Белчес Екатерина, Георгиевская Елена, Голенко Маргарита, Голышкова Елена, Кандричев Александр, Кирсанова Елена, Кудрявцева Юлия, Кучерова Наталья, Паршина Светлана, Тихонова Ольга, Фильцова Анна
© Александра Шарова, 2024
© Надежда Филиппова, 2024
© Инна Баскакова, 2024
© Елена Аболишина, 2024
© Марина Вострикова, 2024
© Наталья Крамская, 2024
© Любовь Лебедева, 2024
© Людмила Монахова, 2024
© Евгений Павлов, 2024
© Елена Репина, 2024
© Кирилл Савинов, 2024
© Виктория Сосновских, 2024
© Евгений Стрелков, 2024
© Дмитрий Сухотерин, 2024
© Лариса Сущенко, 2024
© Антонина Ткачёва, 2024
© Виктория Травкина, 2024
© Екатерина Белчес, 2024
© Елена Георгиевская, 2024
© Маргарита Голенко, 2024
© Елена Голышкова, 2024
© Александр Кандричев, 2024
© Елена Кирсанова, 2024
© Юлия Кудрявцева, 2024
© Наталья Кучерова, 2024
© Светлана Паршина, 2024
© Ольга Тихонова, 2024
© Анна Фильцова, 2024
ISBN 978-5-0062-2875-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Предисловие для тех, кто НИКОГДА не читает предисловий
Вы открыли книжку «Сказки ПРО Пушкина». У нее нет одного автора, под этой обложкой сказки, которые написали профессиональные литераторы, экскурсоводы, работники библиотек, пенсионеры и даже подростки, которые приняли участие и победили в литературном конкурсе «Сказки ПРО Пушкина».
Конкурс не накладывал на фантазию авторов никаких ограничений. Главное, чтобы в истории действовал сам Александр Сергеевич, герои его произведений, или использовались пушкинские сюжеты. А жанры и литературные формы могли быть самые разные. Вот и получились у авторов лирические стихотворения, фантастические рассказы и почти научные изыскания.
Может, это кощунство? Конечно, нет!
Пушкин потому и считается классиком, что к нему обращается каждое новое поколение, порождая новые интерпретации. Зощенко позволил себе написать шестую повесть Белкина, а Брюсов – закончить за Александра Сергеевича поэтический цикл «Египетские ночи».
Почему же и мы не можем себе этого позволить?
В 1912 году поэты-футуристы Алексей Крученых, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк в своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» писали: «Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности».
А мы не позволим сбросить Пушкина с «Парохода Современности»!
И это даже не потому, что мы ему многим обязаны. Тургенев сказал: «Пушкину одному пришлось исполнить две работы, в других странах разделённые целым столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу».
Мы не забудем Пушкина потому, что он был такой сложный и разный, он сумел так рассказать о том, что нас волнует и сейчас, что и теперь он для нас не памятник и не название улицы. Он живой!
И мы берем его с собой в самое главное путешествие каждого человека – путешествие по жизни.
Орден СЛОВА
Надежда Филиппова
Владимир Иванович Даль по долгу службы приехал в Нижний Новгород в 1849 году. Он занял пост управляющего нижегородской Удельной конторой, где ему приходилось ежедневно иметь дело с десятками людей, решая их имущественные вопросы.
Работа всей его жизни – «Словарь живого великорусского языка» продолжалась непрерывно. В Нижнем Новгороде автор продвинулся в составлении словаря до буквы «П».
Говорят, в Петербурге для тайных обществ – раздолье. Густые невские туманы, дома-муравейники, тёмные дворы, чёрные лестницы, плащи-кинжалы, казаки-разбойники. Смешно. Владимир Иванович всё это почитал вздором, развлечением для профанов – впору только сущеглупым юнцам да скучающим вельможам. Он же ни к тем, ни к другим касательства не имел и рядиться в графа Калиостро был решительно не намерен. Ежели возглавляешь не опереточную масонскую ложу, а Орден, то о конспирации по долгу службы знаешь поболее, чем всё Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии в полном составе. Ни к чему из себя шутов гороховых строить. Так что штаб-квартиру Ордена Владимир Иванович спрятал по всем законам тайной науки – на самом виду.
Ведь что такое Нижний Новгород? От силы три месяца в году, пока шумит знаменитая на весь мир Ярмарка, Нижний ещё смотрится большим городом. Шум, гам, праздношатающиеся толпы, извозчики ломят втридорога, паршивую комнатёнку с тараканами сдают по цене квартиры с прислугой, да и ту не найдёшь.
Но только подуют ветра осенние, и морок рассеивается. Пустеют улицы и пристани, тишина опускается на заросшие лопухами дворы. Купчина вешает замок на ворота и просиживает часами за самоваром. Одни только обывательские свиньи, пущенные в безлюдный ярмарочный городок на выпас, шумят и резвятся. И всякому ясно – никакой не город это, а большая деревня, где чистой публике только и остаётся, что французские романы выписывать да живые картины на журфиксах представлять, чтобы окончательно не спятить от скуки.
И кто заподозрит, что из эдакой глуши Владимир Иванович управляет самым могущественным в России тайным Орденом? Да никто.
Тихо было у Владимира Ивановича в Удельной конторе, так тихо, что слышно даже, как шуршит сухой снежок по стёклам, как ругается на другой стороне Большой Печёрской улицы чёрными словами какой-то мужик. Профан, невежа – столько слов, да ни одного путного. Владимир Иванович поморщился. Не так следует обращаться со Словом, совсем не так.
Братья и сёстры по Ордену чинно сидели на жёстких стульях, отхлёбывали из стаканов крепко заваренный пунцовый чай, беседовали вполголоса о неважном, ждали знака. Чем хорошо управлять Удельной конторой? Можно кого хочешь у себя принимать, никто и не заметит. Затеряются тайные гости в череде посетителей. Шутка ли, сорок тысяч государственных крестьян – и все на попечении Владимира Ивановича. Случись какое несчастье или разлад – к нему спешат. А бывает, просто за советом или за лекарством заглянут. К кому им ещё идти? Нижегородским обывателям то казалось смешно – право слово, чудак-человек этот господин Даль. Другой бы на его месте как сыр в масле катался. А этот, извольте видеть, мало того, что несносно честный – даже самой ничтожной мзды не берёт, – так ещё и носится с этим мужичьём, как дурень с писаной торбой. Ещё и больницу для них выхлопотал. Чудит, милые мои, ах, чудит!
Но Владимир Иванович не чудил. Он ничего не делал зря. Интерес его к людям был искренний, неподдельный. Нет материала нужнее и благороднее человеческого. Нижегородское отделение Ордена Слова он сформировал сам, и люди у него были как на подбор, один к одному.
Первым нашёл он брата Кузьму. Это был драгоценный самородок, вобравший в себя всё лучшее, что только может быть в крестьянском сословии. Огромного роста, тучный, густобородый брат Кузьма был из потомственных ямщиков. Предки его возили государеву почту ещё при Алексее Михайловиче. Из поколения в поколение передавали они Слово, без которого на их опасной, беспокойной службе недолго было и сгинуть. То была не бессмысленная грязная матерщина, вроде слышанной давеча, о нет! То было Слово боевое, могущественное и грозное. Кузьма одним малым загибом возвращал на место разболтавшуюся колёсную втулку, двумя – смирял взбесившегося коня, а полной тирадой мог смести с дороги волчью стаю или шайку разбойников.
Сестра Елизавета была ему полной противоположностью – бледная, сухопарая, до срока увядшая, ещё не старая годами, но старая дева по жизненному жребию. Состояла она воспитательницей при дочерях купца Тимофеева, а в свободное время оказывала доброхотную помощь в женском отделении Мартыновской больницы. Барышням в провинции не хватает образования, зато в избытке у них беспорядочного чтения, преимущественно стихов и романов. Но сестра Елизавета вынесла из книг куда больше, чем слезливые благоглупости и мечты о графе с чёрными усами и большим состоянием. Любила она поэзию, любила самоотверженно, но не сентиментально. Из множества рифмованных строк безошибочно выделяла те, что содержали Слово, и использовала их хладнокровно и бесстрашно. Из сонма воинов Слова Владимир Иванович ставил её выше всех. Одним только «буря мглою небо кроет» она могла погрузить операционного больного в глубочайший сон, подобный наркотическому. С помощью «я вас любил, любовь ещё быть может» купировала эпилептические припадки. А прошлым летом совершила истинный подвиг, остановив в одиночку (Владимир Иванович был тогда в отъезде) набиравшую силу эпидемию холеры. Для этого она без перерыва десять часов кряду читала «Клеветникам России», после чего сама попала на больничную койку в состоянии сильнейшего нервного и физического истощения.
Брат Николай, благообразный, похожий на святого князя Бориса-страстотерпца с дореформенных икон, был из раскольничьей семьи и, как положено староверу, большой дока по части старинных книг и рукописей. Но Слово он обрёл не в житиях святых и не в писаниях Аввакума, а трудах покойного своего тёзки, Николая Гоголя. Тут совесть Владимира Ивановича была не вполне спокойна. Взял грех на душу, отказал брату Александру, когда тот просил – возьми Гоголя в Орден, он из наших, Слово чувствует всей душой. Может, согласился бы тогда Владимир Иванович – и не поглотила бы Гоголя тьма, отстояли бы его братья и сёстры. Но нельзя, нельзя было его в Орден допускать. Уже тогда провидел в нём Владимир Иванович ростки безумия. А безумец, вооружённый Словом, похуже будет всех казней египетских. Хорошо, в последний миг успели посланцы Ордена спалить в печи написанное Гоголем незадолго до кончины – иначе не выстоять бы России… Один брат мельком глянул – и сгорел потом, как свечка, в три дня не стало человека – сначала душа умертвилась, а за ней и всё остальное…
За Словом брат Николай нырял в гоголевскую прозу, как ловец жемчуга в море, полное кровожадных акул. Но собранные им драгоценные зёрна сияли ярче звёзд небесных. Умягчение злых сердец, пробуждение совести, возвращение в разум – всё мог брат Николай. Чтением «Вечеров на хуторе близ Диканьки» отвращал он от пьянства целые деревни, а однажды «Старосветскими помещиками» сумел даже воззвать к милосердию губернского прокурора, надворного советника Андрея Ивановича Котляревского, что сродни было библейскому чуду.
Последней к Ордену присоединилась сестра Ираида, вопленица из села Безводное. Сестру Ираиду Владимир Иванович уважал безмерно, но и боялся тоже. Да, он, Великий магистр Ордена Слова – боялся. Сестра Ираида была человек в определённых кругах широко известный. Сельскийьлюд, да и городское купечество наперебой звали её «во́пить» на похоронах и свадьбах, согласно старорусскому обычаю. Неважно, был то плач по невесте, выдаваемой замуж, или по мужу, убитому в дальней стороне, – стоило этой сухонькой, темнолицей старушке отрыть рот, как раздавался стон, полный невыразимой тоски, столь древней, что перед ней оставалось только склониться и отступить. Страшна была сила этого горестного женского вопля. Владимир Иванович ясно отдавал себе отчёт в том, что ни из глубины веков идущее Слово сестры Ираиды, ни природный её дар он контролировать и направлять не в силах. Но и оставить без присмотра не мог. В конце концов, если бы не Ираида, тогда ещё молодая, крепкая женщина, скинули бы в двадцать пятом году заговорщики государя-императора Николая Павловича и погрузили бы страну в кровавый хаос похуже пугачёвщины…
Владимир Иванович отставил в сторону свой стакан чаю, едва пригубленный. Это был сигнал к началу собрания. Взгляды всех членов Ордена обратились на Великого магистра.
– Вначале было Слово, – провозгласил Владимир Иванович. – И мир будет стоять, пока Слово звучит.
– Слово звучит, – откликнулся Орден.
– Вот уж восемнадцать лет, как нет с нами брата Александра, – Владимир Иванович вздохнул тяжело. – Был он неутомимый кузнец Слова. Без его наследия не выстоять бы нам в эти смутные дни. Вооружил нас, воздвиг крепкие стены, укрыл нас своим покровом. Мог бы и себя спасти, да не захотел…
– Всё гордыня барская, – пробасил Кузьма. – Да он одной своей епиграмой мог того прыща хранцузского, как комара, пристукнуть. Нет, вишь, из лепажу ему стрельнуть приспичило…
– Не смейте его осуждать! – выкрикнула сестра Елизавета. – Он поступил, как человек чести! Брат Александр не пожелал использовать Слово в личных целях и…
– Довольно, братья и сёстры, – остановил их Владимир Иванович, и спорщики сразу умолкли. – Не нам судить брата Александра. Арсенал, что он нам оставил, не имеет цены.
– На нём мы только и держимся, – скорбно подтвердила сестра Елизавета, поджав губы.
– Позвольте не согласиться, – напирая на «о», возразил брат Николай, – ежели взять сочинения господина Гоголя…
– Отставить! – по-военному резко оборвал их Владимир Иванович. И уже мягче добавил:
– Как я уже сказал, наследие брата Александра бесценно. Но, как и всё, созданное человеком, оно не вечно. Пока могущество его Слова только растёт, и так будет ещё долго. Но и его люди забудут. Нет, не забудут. Хуже – будут повторять, но без цели и смысла, как дурак, которого заставили Богу молиться. Дети станут учить его, как «Отче наш» – и проговаривать строки, души в них не вкладывая. Выйдет одно пустое попугайничанье. Именем его назовут улицы, по которым ему и ходить-то было бы зазорно, а лицо его наладятся рисовать на коробках с конфектами. И тогда стены, им возведённые, падут, и меч, им выкованный, превратится в прах… Через сто лет, много – через двести, потомки наши останутся безоружны…
– Так что же им, сирым, делать? Одними матюками Отечество оборонять, как при царе Горохе? – жалобно спросил брат Кузьма.
– Нет, на одних матюках долго не продержатся, – согласился Владимир Иванович. – Сами знаете, каков мой крест, труд мой многолетний, которому не вижу пока конца. По крупице собираю силу Слова в «Толковый словарь живого великорусского языка». Из этого арсенала всякий, кто не лишён дара Слова, сможет брать… Продержатся. А там, приведет Господь, и новое солнце русской словесности народится. Может, уже народилось – пробует сейчас своё перо какой-нибудь талантливый юноша…
– Не может быть второго Солнца, самое большее, на что можно надеяться – луна, – ревниво фыркнула сестра Елизавета, обожательница брата Александра. – Сами видите, в какую тьму погружено наше общество. Напишет вам какой-нибудь спившийся картёжник про душегуба с топором под мышкой, а вы скажете – ах, какое великое Слово…
– Да где ж вы, барынька, видели, чтоб топор под мышкой носили? – съязвил Кузьма. – За поясом носят топор-то.
– Не время ссориться, братья и сёстры, – сурово остановил их Владимир Иванович. – В Чёрном море коварный осман угрожает русскому флоту. Отечество наше в опасности. Наш долг – помочь русскому оружию. И помните – у противника тоже есть Слово. Но наше Слово – крепче! Давайте вместе, братья и сёстры. Готовы? Начали!
– «Ой да на чистом поле горюшко садилося, да само тут злодейство восхвалялося», – вывела сестра Ираида. У Владимира Ивановича похолодело в затылке – как всегда от страшной стихийной силы, заключённой в этом заунывном старушечьем вопле.
– «Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава», – вступил брат Николай.
– «Гляжу, как безумный, на чёрную шаль, и хладную душу терзает печаль», – подхватила сестра Елизавета.
– …! …! …! – словно гвозди заколачивал крепкие слова Кузьма.
– «ЕРИХОНИТЬСЯ – то же что хорохориться, ерепениться, важничать, ломаться, упрямиться», – нараспев начал Владимир Иванович.
Невообразимо далеко от Нижнего Новгорода адмирал Павел Степанович Нахимов вглядывался сквозь сплошную пелену дождя в очертания турецкого берега.
А был ли Пушкин?..
- Кирилл Савинов
- Писать про Пушкина так странно
- И несказанно тяжело.
- Ведь все поэты непрестанно
- Равнение держат на него.
- Судьба поэта – лишь мгновение,
- В котором осени печаль,
- Любовь и робкие сомнения,
- Манящая дороги даль.
- Среди бессонницы полночной
- К заре далёкой по пути
- У Пушкина рождались строчки,
- Чтобы в бессмертие уйти.
- Когда-то раньше мне казалось,
- Писал он просто, без затей,
- Но у поэта получалось
- Глаголом жечь сердца людей.
- Среди его стихов и прозы
- Такой фантазии простор —
- На очевидные вопросы
- Ответы ищут до сих пор.
- К примеру, чеховская Маша
- Одно всё время говорит:
- «Где это Лукоморье ваше?
- И где зелёный дуб стоит?»
- В Москву, к мечте своей стремится,
- Ирина с Ольгой вторят в том.
- А три сестры – как три девицы,
- Что пряли тихо под окном.
- Стихи ложились на бумагу,
- Сквозь пустоту и полумрак.
- В тетрадки Юрия Живаго
- Записывал их Пастернак.
- О пушкинском стихосложении
- Немало проведя бесед,
- Искал в поэзии спасения
- Несчастный доктор много лет.
- Придумал Пушкин чудо-остров
- Под странным именем Буян,
- Добраться до него не просто,
- Да будь он трижды окаян.
- Богатырей не видно в латах,
- Гвидон не правит им давно,
- Однако Леонид Филатов
- Про остров вспомнил всё равно.
- Его Федот-стрелец отважный,
- В моря отправленный ходить
- Царём своим, нашёл однажды
- Там То, чего не может быть.
- Семья приезжая в столице,
- Гуляя в полдень по Тверской,
- На фоне Пушкина стремится
- Запечатлеть себя с Москвой.
- Не для забавы, не для славы,
- Из памяти чтоб не стереть.
- И будет песня Окуджавы
- На фоне Пушкина звенеть.
- А среди опер лучших самых
- Никак без пушкинских стихов:
- «Онегин», «Пиковая дама»,
- «Дубровский» или «Годунов».
- И рукоплещут залы снова.
- Чайковский, Мусоргский, Кюи
- Связали музыку и слово,
- Чтоб легче мы понять могли
- Всю силу русского поэта,
- Всю ширь родного языка,
- Так солнце пушкинского света
- Нас согревает сквозь века.
- …Погода лето вдаль уносит,
- И близок хлад ненастных дней.
- Приходит болдинская осень
- И вдохновение вместе с ней.
- Считают годы нам кукушки,
- Стихов полно, не перечесть.
- Но на вопрос: «А был ли Пушкин?»
- Ответит каждый: «Был и есть!»
Болдинская трагедия
Елена Репина
Она пришла к нему под утро.
Лёгкая, свежая, воздушная.
– Как ты тут без меня? – насмешливо спросила она, скользнув под одеяло к нему на грудь.
Он чуть не задохнулся от счастья. Он обожал эти моменты – когда она приходила. Она это делала всегда внезапно, и ВСЕГДА после этого начиналось ЕГО время.
Он вскочил, быстро умылся, оделся, позавтракал и вновь устроился на диване… теперь уже с пером и пачкой бумаги.
– Я ждал тебя! Я жду тебя каждый миг своей жизни! – восторженно шептал он, и образы, нестройно роящиеся в голове, стали обретать черты и формы.
Она, смеясь, осыпала его этим сверкающим фонтаном. Он ловил их брызги – иногда в наспех сделанном наброске, иногда в строке – пытаясь зафиксировать эти видения на бумаге, чтобы они вновь не улетели в другой мир. Иногда образы из его головы перетекали на бумагу, иногда его пером водила она, и он всегда жаждал именно этих моментов. Такие рифмы получались лучше всего!
…
Потрудились они на славу. Уставшие и счастливые – Он и Она – разметались на диване, и начался самый сложный разговор в его жизни. Он знал, что этого не избежать.
– Говорят, ты собираешься жениться, – нарочито равнодушно спросила она. Даже не спросила, а проговорила, как факт но сомнительного содержания.
– Ты просто её не видела! Она божественна! Она красавица! Она – первая красавица, я – первый поэт, мы будем прекрасной парой! – стал сбивчиво оправдываться он в ответ.
– Красавица! – слишком громко, даже несколько вульгарно расхохоталась она в ответ. – «Гений чистой красоты»! Да ты так про каждую говорил! Жениться-то зачем?
– Тут другое, – упрямо опустив голову, сказал он. Разговор приобрёл направление, из которого пути назад нет.
– Вот что скажу тебе, мой дорогой, – её голос стал похож на сталь. Он разрезал воздух так беспощадно, что ему страшно было дышать. – Ты – поэт, и ОБЯЗАН служить Музе. Выбирай – или Я, или Она.
Он молчал. Так, в размолвке, они и заснули.
Когда первый луч солнца упал на подушку, она проснулась и засмотрелась на его лицо. Как она любила играть его кудрями, любила смотреть, как вспыхивает творческий огонёк в его ганнибаловских глазах.
– Я помогу тебе сделать правильный выбор, – прошептала одними губами она, нежно водя кончиком пальца по смуглой коже его лица. – Я дам нам… Три месяца. Три месяца мы будем вместе – только Ты и Я. Я договорюсь с Роком. Я покажу тебе, на что я способна. На что МЫ способны! Такого в твоей жизни не было никогда! Я осыплю тебя такими дарами, что ты поймёшь, что мы созданы друг для друга! И ты передумаешь!
Утром он выглядел несколько поникшим, виноватым, но ничего не говорил.
Блестящая, сияющая, она сидела напротив за столом и улыбалась. Разговор начала она:
– Я хочу сделать тебе подарок!
– Подарок? – он с любопытством смотрел в её прекрасное лицо.
– Да. Ты будешь писать… ПРОЗУ!
– Я?! Прозу?! Я – великий поэт России?! Я не смогу! – с возмущением отодвинул он от себя пачку бумаги.
– Сможешь! Ну, если волнуешься, напишешь, что это не твои повести, а чьи-то ещё, – соблазняюще улыбнулась она.
– Чьи?! – непонимающе смотрел на неё Поэт.
– Ну, скажем, Белкина!
…
Три месяца они были вместе и дни и ночи напролёт предавались творческой страсти. Муза не оставляла поэта ни на миг. Карантин, который устроил Рок, сводил на нет все его попытки уехать из Болдина. Он снова и снова возвращался от кордонов к ней и писал так, как никогда до этого не писал. Он ликовал и упивался их страстью, Муза – надеялась. Она верила, что эти три месяца позволят ему сделать правильный выбор.
…
Он не оценил её порыв. Страсть к первой красавице оказалась сильнее. Страсть или Гордыня? Он так и представлял, какие у всех будут лица, когда они войдут в бальный зал. Он – и Она! И ничего, что она выше ростом.
Поэт вернулся в Москву, женился, стал жить в Санкт-Петербурге, но семейная жизнь и денежные хлопоты всё больше и больше затягивали его в суету жизни, разлучая их – его и Музу.
«Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мной начатую, и которая доставит мне деньги, в коих я имею нужду», – писал он 30 июля 1833 года управляющему III Отделением А. Н. Мордвинову.
Так он объяснил всем, почему через три года ему снова надо быть в Болдино. И если первое затворничество в Болдино в 1830 году – на три месяца – случилось против его воли, то второго – в 1833 – он искал сам.
– Муза, я вернулся! Где ты?! Я мечтал о Тебе! Я страдал – ужасно! Я всё бросил к чертям и приехал, чтобы мы были вдвоём! Только ты и я! – он кинул плащ и цилиндр прямо у входа и бросился по комнатам искать её.
Она сидела у окна, поникшая, несчастная. «Словно чахоточная дева», – пронеслось в его голове, а сердце сжалось. Как он мог так с ней поступить? Поэт приник к её ногам, положил голову на колени и исступлённо бормотал, целуя нежные руки: «Я всё исправлю! Я буду жить здесь и писать, писать! Мы будем вместе! Я буду служить тебе неустанно! Я перееду в Болдино! Навсегда!»
Она слабой, словно безвольная веточка, рукой гладила так любимые ею упругие кудри, всматривалась в его лицо. Как много боли и отчаяния там залегло! В скорбно проявившейся сеточке морщин возле глаз она прочла обо всех бедах, связанных с закладыванием и перезакладыванием имения, поиском денег для выездов столь дорогой супруги, о многочисленных иждивенцах и отсутствии времени, необходимого для творчества.
– Бедный ты мой! – прижала его голову к своей груди Муза. – Я помогу Тебе!
И они снова были вместе. Они снова поддались безумству творческой страсти. Он огромными кубками пил счастье, но нотка горечи присутствовала, как неотвратимая разлука. Полтора месяца в Болдин снова стали для Поэта одним из самых продуктивных периодов его творчества. Но это было уже не то, что три года назад, когда был он волен и свободен.
…
В третий раз он приехал к ней через год.
– Где ты? – снова бросился он по комнатам усадьбы. Везде шёл ремонт. Он в отчаянии ходил по дому и нигде не мог найти её.
Она оказалась в вотчинной конторе. Туда на время ремонта перенесли его диван. Её хрупкое, почти детское тельце лежало, свернувшись комочком. Сердце Поэта не просто содрогнулось, оно остановилось от предчувствия беды.
Он обливал слезами её невесомые, прозрачные руки, клялся в любви и верности, но она почти не слышала. Лёгкая улыбка тронула её губы, когда его губы приникли к её безвольной кисти.
– Я дождалась! – печально сказала Она и… исчезла…
…
Шёл январь 1837… Поэт сидел у камина, и искорки огня отражались в его глазах демоническим светом. Он даже не повернул голову, когда его гость вошёл.
– Я ждал вас, Жорж! Вы должны помочь мне, – сказал Поэт и повернул уставшее, истерзанное муками лицо к вошедшему.
Когда он изложил свою просьбу, руки гостя мелко затряслись, глаза стали безумны.
– Почему я должен на это пойти?
– Мне больше не к кому обратиться… Муза больше не приходит ко мне, а без неё Поэту жизнь не нужна…
– А Натали?
– Царь позаботится о ней и детях лучше, чем это способен сделать поэт, от которого отвернулась муза, – с горечью отвечал Поэт.
– Но почему я?!
– Вы – мой свояк. Вы заступитесь за честь семьи! Ни к кому из друзей я не могу обратиться: свет не поверит! А с вами… я уже всех подготовил. Ни у кого – даже у потомков – не должно быть никаких сомнений!
– А как мне жить после этого? Убийцей поэта? Меня же будут проклинать все!
– Жорж… Это ваш долг… я разрешаю рассказать об этом только вашей супруге – сестре Натали. Она поймёт.
Семнадцать по пять и две по одной
Александра Шарова
– …И в офисе наших конкурентов, – с плохо скрываемым торжеством возвестил Николай Сергеевич, – прямо сейчас проходит обыск и изъятие документов!
По залу заседаний прошуршал вздох изумления, приправленный плохо скрываемым злорадством. А директор рекламного агентства продолжал:
– Уж не знаю, что они там учудили, но к нам сегодня обратился их крупнейший заказчик – известный химический холдинг, у которого в связи с этой пренеприятной историей (многозначительная улыбка) горят сроки запуска рекламной кампании нового репеллента РСПД-23/8. Что за смех? Не вижу повода! Всего лишь «Репеллент системного пролонгированного действия версия 8 от 2023 г.». Вы что, хотите им посоветовать прямо под такой торговой маркой запускаться? В нашей стране даже сами знаете что называют «Тюльпан» и «Гиацинт». Хотя, честно говоря, запах от этого репеллента такой, что его можно было бы Министерству обороны поставлять, если бы не Конвенция о запрещении химического оружия. Конечно, заказчик готов доплатить за срочность, если мы берёмся выполнить работу за одну неделю. Два дня на товарный знак и идею рекламного ролика, четыре дня на съёмки. Время на ТВ у них заранее проплачено, обратной дороги нет. Это вызов. Работаем не так, как вы, коллеги, привыкли – тянуть резину и клиента измором брать. Тут нужна идея, которая зайдёт с первого раза. Предварительная встреча с заказчиком и обсуждение вариантов завтра в девять утра. – Общий вздох ужаса и негодования. – От себя добавлю: тот, чьё предложение будет завтра одобрено, получит премию в сто тысяч рублей.
– … Нет, лучше круглый трёхъярусный из бисквита с кремом, ягодами, глазурью и мастикой. И в бело-лавандовых тонах.
Димон грустно вздохнул. Ему, честно говоря, вообще было всё равно, какой торт Наташка выберет на свадьбу. Ему бы и медовик в коробке из соседнего SPARa вполне зашёл. И денег жалко на всю эту ерунду, на костюм, который он никогда больше в жизни не наденет, и на свадебное платье. И на дурацкие цветочки-бантики. На все эти англосаксонские заморочки, глубоко чуждые русской душе выходца из славного города Кулебаки. Лучше бы расписались по-тихому да съездили потом вдвоём куда-нибудь, не на Канары или Мальдивы, конечно, но хоть в Турцию или в Крым. Но денег и на свадьбу, и на поездку всё равно не хватало.
– Эх, – вернулись его грустные мысли к работе, – придумать бы до завтра что-нибудь такое про мух и комаров!..
…По грунтовой дороге между только-только начинающих зеленеть берёз неспешно поскрипывала немолодая двуколка. На козлах солидно и вольготно разместил свой необъятный зад местный мужик. На фоне его серого потрёпанного зипуна из грубого сукна, свежей зелени березняка и удивительного голубого для средней полосы неба особенной чернотой выделялась господская крылатка и абсолютно неуместный в глубинке немытой России цилиндр. Но он, этот цилиндр, был очень нужен. В сочетании с бакенбардами именно он обозначал всем известный профиль солнца русской словесности. Барин ёрзал на жёстком сиденье и беспрерывно махал руками, как будто совершая магические пассы и стараясь наложить заклятье на ужас Тверской губернии – гудящее облако твёрдых и крупных, как семечки, комаров. Как поклонники после рок-концерта (до которого ещё двести лет) пытаются хоть прикоснуться к кумиру, хоть ниточку от его костюма оторвать, комары пытались испить кровушки поэта. Наверное, чтобы детям и внукам потом рассказывать:
– Не поверите, кого только мне в жизни кусать не привелось!
Мужик с сочувствием оглянулся через плечо. Зипун, лапти с обмотками и борода до глаз защищали его от родной природы почти как скафандр космонавта за бортом МКС.
– Что, барин, заели? – спросил он довольно равнодушно. – На вот, ослобонись!
И протянул (наезд камеры) белый флакончик с хорошо знакомой зрителям чёрной завитушкой подписи и профилем, выполненным одним штрихом гусиного пера. «Репеллент Александр Пушкин». На фоне молодой зеленеющей листвы побежали по экрану знакомые строки:
Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
– …Да, Дмитрий, примите поздравления. Честно говоря, не ожидал. Хорошая работа. А учитывая, что эта тема в следующем году, к 225-летию Пушкина, станет модной, и заказчик это сразу сообразил, начинаю думать, что мы мало с него запросили.
Николай Сергеевич думал уже о другом – где и как снимать будет. Кого позвать на роль ямщика, а кого на Пушкина? Пореченков с Хабенским?
А дальше… С таким их креативом, как РСПД-23/8, работы с этим гигантом химиндустрии хватит агентству на всю жизнь.
…На журнальном столике лежали семнадцать бумажек по пять тысяч и две по одной.
«Конечно, – думал Димон, – когда они СЕБЕ премии платят, наверное, подоходный 13% не вычитают. Да ладно, и так хорошо. Просто как с неба деньги упали! Вот говорят, что в школе много лишнего учить заставляют, а только как догадаешься, что лишнее? Будет теперь у Наташки и платье это дурацкое с бантиками и фатой, и торт трёхъярусный, и родственники с подругами в ресторане (год копили!), да ещё и свадебное путешествие!»
Давно у них друг от друга не было секретов. Какие тут секреты, когда уже целый год два провинциала, не то чтобы собравшиеся покорить столицу, но в надежде на другую, лучшую, яркую и суетную жизнь, съехались в однушку в Люберцах. Пусть совсем маленькое, пусть выходящее окнами на глухую стену огромного торгового центра, но первое в жизни «своё» жилье. В котором делать они могут всё, что сами захотят. Как говорила мама Димона о счастливом времени в шестидесятых, когда семья перебралась из полуподвальной коммуналки в свою первую отдельную хрущёвскую панельку – «Хоть голым по квартире ходи»! Никто им не указ. Это сегодня он один случайно – Наташка на родину подалась, подружек и родственников на свадьбу приглашать. А у него образовался свободный вечер, чтобы о жизни подумать.
«Нет, не скажу до загса. Пусть это ей будет сюрпризом. Отмучаюсь на свадьбе, вот тут и будет нам настоящий праздник – проводим гостей и пойдём в агентство выбирать путёвки. Море, солнце, и мы вдвоём!» – он ведь свою Наташку по-настоящему любит. В Москве таких не найдёшь – как раз из тех, которых, как в народе говорят, находят не в хороводе, а в огороде. Да и где эти огороды в столице? Вот и знакомятся люди в сети, в офисах или того хуже – на дискотеках. А они в очереди познакомились, когда временную прописку оформляли. Он сразу понял – вот такая ему и нужна, среди суетной столичной жизни поддержка и опора. Простая, надёжная, честная, на всю жизнь! Ну, залетело немного дури в голову с этой свадьбой, лимузином и голубями, но природная практичность и провинциальная душевная чистота всё равно своё возьмут.
Приятные мысли утянули тихо в сон, которому не могли помешать ни синтетические сполохи реклам соседнего торгового центра, ни винегрет звуков от роликов Tik-Tok и YouTube из-за стен соседних квартир. Последнее, на что они смотрели, снимая комнату, была звукоизоляция. А первое, конечно, цена.
Разбудило Димона среди жаркой июльской ночи деликатное прикосновение к ноге, торчащей из-под простыни. Кошки в доме не водилось, и осознав, что в комнате он не один, менеджер по рекламе и любящий жених подскочил на кровати.
В ногах у него сидел… Нет! Этого не может быть! В ногах у него сидел и грустно улыбался сам Александр Сергеевич, не по погоде одетый во фрак и цилиндр. Та самая крылатка была небрежно наброшена на спинку стула, на которой с вечера развалились ношенные домашние джинсы хозяина квартиры.
– Ну что, Дмитрий, – спросил с укоризной в голосе поэт, – и не стыдно Вам? Ну право слово, чем я лично перед Вами провинился? Ничем, кажется. Вы вот даже за «У лукоморья дуб зелёный» высший балл получили в детстве в лицее своём провинциальном. Я бы, честно говоря, вас за это поношение с репеллентом непременно на дуэль вызвал, но моё нынешнее бестелесное состояние, сами понимаете, мне этого сделать не позволяет. Сижу на Вашем ложе уже битый час и наблюдаю, как Вы спите сном праведника и совесть за то, что в корыстных целях воспользовались именем совершенно неповинного человека, Вас, как вижу, не мучает. Ну, найдите в себе силы, сударь, посмотрите мне в глаза и объяснитесь.
Посмотреть в глаза? Да у Димона дыхание от ужаса перехватило, а слова вообще застряли где-то глубоко-глубоко в горле. И хотя тень поэта не проявляла враждебности, жуть накатила такая, что и мысли в голове боялись шевельнуться.
– Что же мне с Вами делать? – продолжала размышлять вслух тень великого поэта. – Ну, сделанного не воротишь. Этот химический гигант со своими горящими сроками (поэт мимоходом показал неплохое знание деталей устройства современного мира) на попятную, конечно, не пойдёт. Но лично Вы? Ваша бессмертная душа? С ней-то что будет? Так и хочется, сударь, наложить на Вас епитимью. Например, каждую ночь буду вам сниться. Нет, это не годится – времени у меня хоть и целая вечность, но тратить его на начинающего менеджера по рекламе не хочется. Или вот – могу на год заставить Вас говорить только моими стихами. Это будет презабавно. Да, конечно! Только не теми стихами, что я за всю жизнь написал – с моим словарным запасом в 21 тысячу слов вы бы, пожалуй, и приспособились. А только теми стихами, что помните прямо сейчас из курса литературы лицея номер три города (прости, Господи!) Кулебаки.
Хоть Димон и не мог шелохнуться от ужаса пред лицом солнца русской словесности, мысли в его голове стали понемногу оживать.
Из школьного курса?
– Мой дядя самых честных правил…
– Я вам пишу, чего же боле…
– Златая цепь на дубе том…
– Я памятник себе воздвиг нерукотворный…
И, наконец, совершенно не применимое в двадцать первом веке:
– Жил был поп,
Толоконный лоб.
Пошёл поп по базару,
Посмотреть кой-какого товару…
Сердце его сжалось от ужаса.
Нет! Не выживу. На одну Наташкину зарплату не протянем. Меня ведь даже в дворники теперь не возьмут!
Превозмогая немоту, с трудом подбирая слова и выталкивая их из судорожно перехваченного горла, Димон по-бабьи запричитал:
– Пощадите, милостивый государь! Не погубите меня и невесту мою. – Не по злобе – по глупости поступил! И денег мне этих не нужно!
Тут слабой трясущейся рукой герой наш смёл с прикроватной тумбочки на пол семнадцать бумажек по пять тысяч и две по одной.
– Не оставьте без пропитания. Без сотовой связи не оставьте, она ведь не даровая нынче, – сгинет от горя и неизвестности мать моя в Кулебаках-городе! Ведь я сын её единственный! Невесту мою Наталью пожалейте – безвинная душа из-за моей корысти пострадает!
Димон совсем уже настроился в лучших традициях плакальщиц на похоронах всё длить и длить свои завывания, вполне в народном и одновременно неожиданно современном стиле, но Пушкин остановил его нетерпеливым взмахом руки.
– Наталья? Невеста? Без денег, говорите? – На лицо поэта как будто набежала тучка. – А доход-то у Вас, сударь, есть? Деревенька какая-нибудь? Душ сколько?
– Какая деревенька? Дача на 6 соток, а душа одна, и та моя.
– Ладно, – вздохнул поэт. – Жаль мне Вас, Дмитрий, хоть и стоило бы проучить хорошенько. Так и быть, живите со своей Натальей. Только деньги Николаю Сергеевичу верните. Если брать не будет – хоть на паперти нищим раздайте. Ах да… с этим сейчас плохо. Ладно. Купите ценных бумаг – это нынче всё равно, что выкинуть. И помните – доброго моего имени больше не марайте. Да и с остальными классиками поаккуратнее. Среди нас и не такие отходчивые как я встречаются. А теперь спа-а-а-а-ать!
…В 6:30 по звуку будильника Димон раскрыл глаза.
– Ой, ну приснится же такое!
Но радость от нежданного богатства в душе всё равно померкла, да и семнадцать бумажек по пять тысяч и две по одной, несмотря на раннюю безветренную июньскую жару, почему-то не лежали на тумбочке, как вчера, а были в беспорядке раскиданы по всей комнате.
– Неужели было? Или почудилось? Как хорошо, что Наташке сказать не успел, с облегчением вспомнил он. Хоть бы знак какой увидеть – было – не было?
За окном, на ярко подсвеченной летним солнцем глухой стене соседнего торгового центра невозможно было не заметить выделяющийся неброскими цветами осеннего леса среди иностранных (или притворяющихся иностранными) брендов обуви и косметики билборд «Трёхдневные туры Москва – Большое Болдино. Путешествия по пушкинским местам».
Пушкин ушёл к другой
Виктория Сосновских
Юность, помноженная на весну, – пора прекрасная и одновременно безрассудная. Это подтвердит каждый, кто прожил на земле не менее четверти века. И даже приведёт доказательства, состоящие большей частью из засушенных между страниц своей жизни сердечных заноз, а возможно, даже осколков.
В моём четырёхтомнике (детство, юность, молодость, зрелость) тоже найдётся немало таких трофеев. А уж второй том полон историй, которые охотно подтвердят: юность – это время самых ярких впечатлений, смелых планов и несбыточных надежд.
Это вторая и очень важная ступенька опыта. Через неё порой хочется перемахнуть на скаку. Но такой акробатический этюд заканчивается разбитым лбом. Ну или сердцем. Эта история будет посвящена первой разновидности травмы.
Перенесёмся ненадолго в прошлый век. Кто-то сделает это с удовольствием (ностальгию никто не отменял). Кто-то со вздохом. И, возможно, на этом всё и закончится. Но я продолжу для тех, кого не пугает и не разочаровывает слово «девяностые».
Итак, шла весна 1999 года. Май. Мне недавно исполнилось семнадцать. Время, когда тело сидит за партой, а мысли находятся за окном. Когда учитель обнаруживает, что ты его уже не слышишь, и делает замечание твоей легкомысленности. Когда солнце с особенным жаром и старательностью пробивается сквозь оконное стекло, и ты радуешься, что сидишь на среднем ряду, потому что не нужно закрывать лицо тетрадкой. Но в это же время сама природа отвечает твоей юности свежестью изумрудной зелени, едва пробившейся через земляную корку и жёсткие почки деревьев. Это единство и взаимопонимание с природой не дают тебе ни единого шанса остаться дома тёплым субботним вечером. Тем самым вечером, когда следует взять себя в руки и сесть за письменный стол…
В старших классах я полюбила писать сочинения и делала это вполне успешно. Учительница была мной довольна. Часто зачитывала мои творческие размышления перед одноклассниками. И однажды попросила меня совсем немного потрудиться – просто переписать уже готовое моё сочинение по «Капитанской дочке» Пушкина, чтобы отправить его на конкурс. Для этого мне был дан тёплый майский вечер. Разве это справедливо?!
Напомню, что мне семнадцать. И я с замиранием сердца жду знакомый рёв мотоцикла за окном. Я не слышала его ровно две недели. Потому что обладатель железного коня – студент, и уже целый учебный год мы можем видеться с ним только два субботних вечера в месяц. Я сижу на подоконнике рядом со своим письменным столом. И уже представляю, как красиво будут развеваться мои волосы на ветру. И в этот момент в моей голове вовсе не останется места для Пушкина…
Стоит ещё заметить, что 90-е годы были вовсе не жирными в финансовом отношении. И грешным делом я подумала: а нужно ли тратить своё время на эту писанину, чтоб потом получить очередную коробку цветных карандашей? Мой опыт участия в конкурсах показывал, что столько цветных карандашей одному человеку просто не нужно. И я решила пожертвовать воображаемым трофеем. И впервые так жестоко обманула ожидания своей учительницы.
Но время шло своим чередом. Учебный год закончился. Позади остались все тревоги и волнения, связанные с оценками в аттестате.
И вот наконец-то выпускной! Нарядный актовый зал встречает вчерашних школьников, родителей, учителей. Песни и стихи о любви к школе периодически чередуются с выступлениями педагогов и чествованиями лучших учеников.
Посреди праздника на сцену неожиданно выходит директор местного банка. Она рассказывает, что во время учебного года проходил районный конкурс сочинений по произведениям Александра Сергеевича Пушкина и приглашает для награждения девочку из параллельного класса. На сцену поднимается медалистка Таня, известная своими математическими способностями. И на моих глазах Таню чествуют как победителя районного конкурса сочинений! Банкирша торжественно объявляет, что дарит победительнице полное собрание сочинений Пушкина! Перед моим взором как в тумане проносится картина: счастливая Таня стоит в растерянности посреди сцены, а несколько ребят выносят к её ногам вязанки из книг – прекрасное издание в твёрдом переплёте. Кажется, более двадцати томов.
Хочется произнести: «Занавес!» Вроде бы больше сказать нечего. Пушкин ушёл к другой. Но позвольте добавить ещё несколько строк.
Вскоре на сцену приглашают и меня. Благодарят, что весь учебный год я трудилась редактором школьной стенгазеты. И дарят огромную коробку цветных карандашей.
Нет, весь я не умру…
Александра Шарова
Родственники и коллеги, которых набралось на удивление много, тихо стояли вокруг гроба, поставленного на кладбищенские табуретки с алюминиевыми, как в советской столовой шестидесятых годов, ножками. Все, поёживаясь под жёстким ноябрьским ветром, думали хором:
– Скорее бы это закончилось.
Кэрролловская Алиса, случись ей побывать на похоронах члена Союза писателей и Союза журналистов, обладателя множества литературных премий и участника неисчислимого количества телепередач о судьбах российской литературы Семёна Иванова, уже никогда бы не усомнилась в том, что «думать хором» возможно. Вот и думали, и терпели из последних сил неизбежный поздней осенью промозглый холод. Один выступавший сменял другого, и не было им конца. Как и любое постковидное офлайн-событие в остро-конкурентной писательской среде, даже похороны неизбежно превращались в самопрезентацию. И никто не мог отказать себе в удовольствии отметить в своём выступлении, скорбно но мечтательно устремив взор в неприятное и безрадостное небо:
– Однажды мы с моим другом писателем Ивановым…
Во-первых, присутствующие представители прессы тебя отметят «был и выступал», напишут об этом в постах и репортажах, а потом и сотрётся в людской памяти, что Иванов был не ТОТ САМЫЙ, который «Золото бунта» и «Сердце Пармы», а какой-то другой. Кто же в наше время обращает внимание на такую мелочь, как инициалы?
А во-вторых, каждый член Союза писателей и каждый член Союза журналистов испытывал острое чувство счастья, что не он сейчас лежит на белой подушке с пошленькими кружавчиками. И что не его сейчас заколотят, опустят, засыплют и забудут навсегда. То, что процедура была совершена чинно и обстоятельно, а родственники были избавлены от трат на похоронную мишуру и поминальный обед, давало надежду, что и его собственные похороны будут достойными и, дай Бог, ещё не скорыми.
Да, кстати, и не без обнадёживающих новостей – ещё одно место в планах издательств освободилось. У нас не пропадёт – много нынче пишущей братии на Руси.
Не холодно было, пожалуй, лишь одному участнику событий – самому Иванову. Он, конечно, как бывший пионер, комсомолец, а потом (правда, недолго) и член КПСС, ни в какую загробную жизнь не верил. А верил он в прижизненный успех и немного в свою удачливость и чутьё на денежные темы и проекты. Но как бывший марксист не мог не признать, что против «реальности, данной нам в ощущениях» не попрёшь – Иванов всё слышал и даже, казалось, немного видел через неплотно сомкнутые веки.
Вот литературный редактор из издательства «Азбука – Аттикус». Всё, кажется, чинно, но какой-то непотребно нарядный галстучек нацепил. Не скорбит, сволочь! Ничего, ещё полежишь на моем месте. А вот внучатая племянница Фенечка, полностью Ефросинья. Папаша – сестрин сынок, мелкий столичный чиновник, так всей душой впитал тренд на русское-разрусское, что даже дочку не пожалел. Ишь ты, Ефросинья конопатая! В джинсах на похороны припёрлась, как на дискотеку, прячется за народ и в телефон пялится. Правильно я её в завещании не помянул вместе с её папашей.
Конечно, Иванов ещё из институтского курса всемирной литературы прекрасно помнил, что многие вполне серьёзные писатели подозревали, что за гробом всё не заканчивается. Сам Пушкин как-то неоднозначно высказывался, что, мол, «весь я не умру»… Но особенно пугал рассказ Достоевского «Бобок». Что же теперь, всю бесконечную НЕ-жизнь тут лежать и с соседями по могилкам сплетничать?
Иванов, насколько мог, не привлекая внимания скорбных провожающих, скосил взгляд на соседние могилы – справа на кресте фотография неприятной старухи. Степанова Елена Александровна (1924—2025 гг.). Пожила, старая перечница! Слева тоже старуха, но шрифт мелковат и фото только недавно прилеплено к серому неказистому параллелепипеду прямо скотчем.
– Новопреставленная, – всплыло архаичное слово в памяти Иванова. – Не повезло с компанией!
Но вышло всё не по Достоевскому, а вроде как по Пушкину. Как и обещано было в анонсах книг серии «Жизнь после смерти», а дальше анонсов Иванов про это ничего не читал, его вдруг стало затягивать в белый туннель. Причём явственно чувствовалось, что его неважные сосуды, желудок-предатель, постоянно последнее время напоминавший о себе, и больные колени остаются здесь, на кладбище. А отфильтрованная смертью часть ЕГО САМОГО, то есть того, что в нём и было по-настоящему Семёном Ивановым, тащит необъяснимая сила чёрт или бог его знает куда. Но точно в такое место, где не спросят с него ни паспорта, ни членского билета Союза писателей, ни кредитной истории. Потому что и так о нём ВСЕ знают. И от этого полегчало на душе. Чего бояться? В принципе, неплохую, не подлую жизнь прожил Иванов. Может, не помогал сирым и убогим, не жертвовал литературные премии на дома престарелых, но и зла особенного не делал. Тоже ведь заслуга – не каждому удаётся.
Что-то в этом мире, новом для нашего героя, с расстояниями было не совсем так. Хлопнул глазами, а уже где-то далеко-далеко. Не во Владивостоке, куда девять часов лететь, и не на Кубе, куда ездили в прошлом году представлять современную российскую литературу и чуть живые из самолёта выползали. Нет, это «далеко» было вообще не во времени и даже не в пространстве. Просто БЫЛО. И в этом не-месте и не-времени перед Ивановым маячила знакомая фигура Ольги, немолодой женщины из-под Рязани, приходившей убирать его квартиру один раз в неделю. Ольга была человеком такой непредставимой для российских писателей востребованности, что случись в квартиру Иванова неожиданный визит коллег или родственников, приходилось неделю терпеть груду грязной посуды до её следующего визита и наблюдать, как непредсказуемо ведут себя на немытых тарелках остатки продуктов. Некоторые, казалось, вообще отказываются портиться, и эта подозрительная нетленность наталкивала на мысли о непростых и, возможно, полукриминальных путях попадания продуктов на прилавки супермаркетов.
Наверное, никому так, как спокойной, скрупулёзно честной, надёжной и абсолютно предсказуемой Ольге, не обрадовался бы больше наш недавно упокоившийся герой:
– Оленька, а вы-то как здесь? Тоже умерли?
– Что вы, что вы, Семён Николаевич – прозвучал приятный, но какой-то не совсем настоящий голос, – я не Ольга. Я – привратная сущность. То есть состоящая при вратах Нового, как вы говорите, «загробного», мира, в котором вам теперь предстоит пребывать. По нашей доброй традиции, для облегчения адаптации вновь прибывших, принимаю форму человека, которому переселенец в наш мир доверяет больше других. Впрочем, это дело вкуса. Хотите, могу предстать в образе вашего друга поэта-песенника Степановского или, например, Данте. Вы ведь литератор, вам это должно польстить?
– Нет-нет, большое спасибо. Мне вполне комфортно. А подскажите, пожалуйста, это рай, ад или чистилище?
– Бог с вами! Рай, ад – всё это выдумки и суеверия. Впрочем, ваш вопрос по рейтингу входит в десятку самых часто задаваемых вторых вопросов.
– ?
– Хотите про первый спросить? Первый – «…, а вы-то как здесь? Тоже умерли?». Но не смущайтесь. Здесь от вас никто оригинальности требовать не будет. Мы, знаете ли, за время существования жизни на земле, за последние четыре миллиарда лет, всякого насмотрелись и без оригинальностей или, как нынче модно говорить, без «креатива», вполне обойдёмся.
– Четыре миллиарда? Это что, трилобиты, динозавры и мамонты тоже здесь? – изумился Иванов.
– Конечно, а почему вы думаете, что человек – венец творения? Соображает он, возможно, и лучше, чем вышеупомянутый трилобит, но вреда от него природе, а особенно подлости в межвидовых отношениях неизмеримо больше. Более того, здесь у нас и неодушевлённые, так сказать, объекты располагаются. Вот, например, можете почитать манускрипты и рукописи, погибшие в пожарах. Или посмотреть на все марки автомобилей, которые когда-либо выпускались. Причём, хоть в конвейерном варианте сборки, хоть в ручном.
Иванов потрясённо молчал, пытаясь осознать новый концепт Вселенной, напоминавший ему более всего Аристотелевы «субстанции», как он запомнил это из курса философии. Кандидатскую написать он не собрался, а минимум по философии сдать успел, и после него образовался в голове писателя настоящий винегрет, а ещё впечатление, что маялись никому не нужной заумью люди не только в двадцать первом веке.
– А как со знаменитыми личностями?
– Ну, этой проблемы не существует. Все тут. Благо в нашем мире языкового барьера нет. Наш единый всеми понимаемый язык мешает, конечно, восприятию литературных достоинств произведений каждого отдельного автора на языке оригинала, но этими мелкими неудобствами приходится пренебречь.
– И Фёдор Достоевский?
– И Фёдор Достоевский.
– И Пушкин?
– Ну конечно же, и Пушкин.
– А чем же они у вас тут занимаются? Беседуют друг с другом?
– Уважаемый новоприбывший. Это австралопитеки могут рядом друг с другом находиться целую вечность, без вреда для их недоразвитых умственных процессов. Спать да есть. А люди, имеющие склонность к думанию и, особенно, к литературному труду, за пару сотен лет так друг другу надоедают, что всерьёз начинают искать, чем бы заняться.
– И чем же? Пишут?
– С этим сложно. Для вдохновения, как бы это помягче выразиться, нужно пополнение чувственного опыта, жизненные конфликты, кипение страстей… Так сказать, взлёты и падения духа. Любят ваши земные писатели, за исключением авторов дамских романов, конечно, чтобы всё было «между жизнью и смертью». А у нас с этим «между», сами понимаете… В общем, музы в нашем стерильном воздухе не летают.
Вот и находят себе необременительные занятия, каждый на свой вкус. Чужие писания читают и перечитывают, до чего при жизни руки не доходили. Ну и, конечно, те, которые после их перехода в лучший из миров были написаны. На музыкальных инструментах всех эпох и народов играть учатся – на двести-триста лет хватает. Им, истинным творцам, здесь непросто приходится – новая реальность не способствует интеллектуальному труду. Сытые все и бессмертные. Впрочем, вы не переживайте – вас лично эта проблема истинных творцов не коснётся.
– А можно с кем-нибудь из них лично познакомиться?
– Это уж, батенька, вы сами. Наши полномочия заканчиваются на обеспечении мероприятий по бесконечному жизнеобеспечению (простите за тавтологию) вверенной нам бесконечной территории. Впрочем, рекомендую начать с Пушкина. Он, видите ли, при жизни самый беспокойный был, да и тут его угомон не берёт. Вот придумал себе забаву. В 2024 году был его очередной юбилей. Ну, не то, чтобы настоящий. Не 100, не 250 и не 500 лет, а всего-то 225. Но там у вас на Земле, видимо, в этот год был дефицит настоящих юбилеев. Вот и наплодили столько пушкинских сувениров, что, если бы не наши безразмерные возможности хранения, ими бы просто всё было засыпано, буквально всё! Вот и взялся Александр Сергеевич каталоги мерча составлять. Немало развлекается, рассматривая свои изображения на значках и футболках, сумках-шоперах и магнитиках. Да ещё других писателей баламутит – на своеобразную дуэль вызывает – кого из них самым нелепым образом изобразили. Почти настоящая дуэль. Зачинщик, вызываемый да двое секундантов. Вот четыре бессмертные души и при деле. Год-другой не маются от тоски.
– А женщины? Пушкин очень женщинами интересовался.
– Ну, уважаемый, вы переходите грань. Наше существование бестелесное и почти бесконфликтное, извините, никому не до дам. Даже самим дамам. В одночасье перестают беспокоиться о морщинах и целлюлитах. Только похваляются друг перед другом, сколько раньше в месяц оставляли у косметологов да в спа-салонах.
Ну, собственно, заговорился я с вами. Будем считать, что первоначальный вводный инструктаж мы осилили. Распишитесь здесь в журнальчике. Вот вам карта-путеводитель – и вперёд.
Иванов вздохнул, огляделся и пошёл искать Пушкина. Кажется, как и на земле в своём времени, Пушкин и здесь оставался самым живым, а значит, самой-самой лучшей для него компанией.
Толпа родственников и коллег с облегчением покидала кладбище. Что печалиться? Хорошо пожил Иванов, да и помер легко. Нам бы так. Никому из них и в голову не приходило, что новая, настоящая и теперь уже не омрачённая простатитом и прогрессирующей близорукостью, вечным поиском модных тем и болезненными амбициями жизнь Иванова, в компании не только известных литераторов, но и вообще ВСЕХ когда-либо живших людей и животных, и ВСЕХ когда-либо существовавших на Земле вещей только сегодня началась по-настоящему.
Сон Пушкина
Инна Баскакова
Вот уже которую ночь ему снился один и тот же сон.
Стояла поздняя осень. На промёрзлую землю, сбитую в комья, выпал первый тонкий слой снега. Вечерело. Кибитка, влекомая ладной тройкой лошадей, на хорошем ходу приближалась к Арзамасу. Позади три месяца Болдинского затворничества, а впереди – любимая Натали… Вдруг кони резко остановились. Кибитку наклонило по инерции и сильно толкнуло. Александр Сергеевич, задремавший было под монотонное покачивание, резко завалился вперёд, и на него посыпались приготовленные заботливыми руками дворовых узелки с дорожной снедью, которые едва успел поймать дядька Никита, примостившийся рядом с барином.
Раздался недовольный густой бас ямщика: «Тпру! Стой, не балуй! А ну, пошла отсюда!» В ответ послышался странный смех.
– Что там ещё? – пробормотал не совсем проснувшийся Александр Сергеевич. – Никита, поди разберись, отчего стоим?
Вернувшийся через минуту дядька развёл руками:
– Барин Ляксандр Сергеич, не взыщите, Вас требуют! Пытались сами справиться – нет мощи никакой.
Да что же такое?! Выбравшись из-под полога кибитки, Пушкин увидел такую картину: кони в упряжке стояли как вкопанные. Они перебирали копытами, роняли розовую пену изо рта, вздували на могучих шеях жилы, выворачивали глаза – и… не двигались с места! Поэт обошёл упряжь и узрел причину остановки. Прямо посреди дороги расположилась пожилая цыганка. Живописно завернутая в цветные тряпки и платки, припахнутая сверху ветхим зипуном, она, посмеиваясь, держала перед собой маленькую смуглую руку ладонью вперёд. На ладони красовалась татуировка в виде глаза. Цыганка лукаво щурилась, скалила прокуренные зубы и тараторила скороговоркой:
– Ай, барин, позолоти ручку, всю правду расскажу, яхонтовый мой! Всё вижу, всё знаю, всё ведаю! Вижу, под венец идёшь ты, соколик мой, идёшь и сам не ведаешь, что творишь! – Цыганка многозначительно замолчала.
– Никита, – позвал поэт, – дай гадалке рубль и поехали!
– Рубль! – ахнул дядька. – Да за какие же это заслуги? Целый рубль серебряный!
– Делай, что велено, не рассуждай!
Сокрушаясь, дядька Никита достал рубль и засеменил к гадалке, но та отказалась принять деньги из рук слуги.
– Нет, только сам, сам, соколик мой, подай мне монету! Или останетесь здесь, кони дальше не пойдут!
Не споря с полусумасшедшей старухой, Пушкин протянул ей рубль. Она жадно вцепилась в деньги и подняла на него свои странные, казавшиеся прозрачными, глаза с тонким чёрным хищным зрачком. Нос у неё вытянулся, морщины проступили явственнее, и каким-то очень знакомым, скрипучим голосом она произнесла: «Смерть свою ты примешь от белого человека, белой лошади, на белом снегу. И невеста твоя в белом совсем не та, к которой ты так рвёшься сегодня!»
Поэт вспомнил, как давным-давно, весёлым беззаботным юношей он со своими лицейскими друзьями отправился в Петербурге к прорицательнице госпоже Кирхгоф узнать будущее, подразнить судьбу. После гадания на кофейной гуще именно таким скрипучим голосом она предрекла поэту, кроме всего прочего, принять смерть «от белой головы»… И вот здесь, вдали от блистательного Петербурга, в забытом богом медвежьем углу – в Арзамасе, через столько лет – опять, почти те же слова! И тот же голос!
– Но горю твоему можно помочь, – доверительно заскрипела старуха. – Вот кольцо заговорённое, в древних водах омытое, у восточных магов взятое – оно развеет злые чары, как только ты наденешь его на безымянный палец левой руки своей возлюбленной!
И цыганка ловко натянула поэту на мизинец чёрное, матово поблёскивавшее агатовое кольцо.
Пушкин открыл глаза. Приснится же такое!
Опочивальня была залита светом. Сквозь белоснежную кисею занавесок солнце чертило квадраты на наборном паркетном полу. Он повернул голову. Рядом на кружевных взбитых подушках Пушкин увидел прелестный профиль прекрасной, нежной, обожаемой Натали. Нагнувшись, он поцеловал тёплый завиток на щеке любимой, она улыбнулась во сне. Пушкин вспомнил – его свадьба была вчера, он был счастлив!
Поэт протянул руку к хрустальному стакану с водой, стоявшему на прикроватном столике, и что-то звякнуло о стекло. Он поднёс руку к глазам – на мизинце чернело кольцо из агата. Так это был не сон?! Пушкин брезгливо сорвал подарок цыганки и швырнул его на пол. Ударившись об пол, кольцо рассыпалось на мириады чёрных осколков в пыль… Жизнь продолжалась…
О пользе нежити и сказках Пушкина
Марина Вострикова
Мельчает народишко. Никакого уважения к нам, жителям потустороннего мира, не стало. Раньше у нас дел было невпроворот. Чуть что у кого не заладилось – к нечистому за помощью обращались: чёрт, возьми. Если кто-то что-то не понял, возмущались: чёрт знает что, чёрт ногу сломит, чёрт разберёт… Коли с собеседником поссорился, его же, болезного, на исправление посылали по известному адресу – к дьяволу. А сегодня подорожную только «на» или «в» детородные органы выписывают. И всё мимо нас.
Скучно
Раньше-то у людей был целый свод правил общения с нами. Пока зеваешь сладко – открытый рот перекрести, вход шишу крестом перекрой. Чихнёт кто или сам чихнёшь – здоровья пожелай. Чтобы гости непрошеные не сглазили, над дверью пучок чертополоха повесь, под порогом семена льна рассыпь. Если придётся мимо болота, чащобы или заброшенной церкви пробираться, так в кармане кукиш держи – так и быть, тебя уж не тронем. А пуще всего жители Нави матерной брани терпеть не могли, потому как она нами к молитве святой приравнивалась и полное презрение к нам выказывала.
Обидно
А ведь всего лет двести назад, я тогда ещё бесёнком был, переживала наша братия золотые времена. Полное уважение к колдунам, чародеям, чертям, ведьмам, домовым, оборотням, русалкам, мертвецам сам Александр Сергеевич Пушкин выказывал! Сколько он стихов, поэм, повестей, романов и драм о нас написал!
Что значит: «я вру»?! А вот «Бесы»! Читай:
- Бесконечны, безобразны,
- В мутной месяца игре
- Закружились бесы разны,
- Будто листья в ноябре…
- Сколько их! куда их гонят?
- Что так жалобно поют?
- Домового ли хоронят,
- Ведьму ль замуж выдают?
Ну точно, как на наших свадьбах: жёлтый свет, запах серы, метель, визги…
Весело
А вот это. Что за прелесть! «Утопленника» узнаёте?
- Из-за туч луна катится —
- Что же? голый перед ним:
- С бороды вода струится,
- Взор открыт и недвижим,
- Все в нем страшно онемело,
- Опустились руки вниз,
- И в распухнувшее тело
- Раки черные впились…
«Русалка», конечно, выглядит поприятнее:
- …легка, как тень ночная,
- Бела, как ранний снег холмов,
- Выходит женщина нагая
- И молча села у брегов.
Забавно
А сколько нашего брата «живёт» в «Руслане и Людмиле»! Волшебник Черномор, кудесник Финн, колдунья Наина, ко всему прочему, говорящая голова витязя, живая и мёртвая вода… Не обходится без чертовщинки и в «Сказке о золотом петушке». Кто же может устоять против чар Шамаханской царицы? Мудрый звездочёт-скопец – и тот попал в её магические сети.
Занятно
Но «в своей тарелке» я себя чувствую только в «Сказке о попе и работнике его Балде». С удовольствием вспоминаю дни своего детства. Ах, каким же я был наивным сто девяносто лет назад! Где и когда могла родиться эта история? Только в Большом Болдине, в дни эпидемии холеры, 13 сентября 1830 года. После ссоры с будущей тёщей прошло чуть больше двух недель. Кто знает, может, Александр Сергеевич отчасти наделил попадью повадками Натальи Ивановны Гончаровой (Загряжской). Дед мой, Чёрт старый, тоже хорош! Бросил меня, как в топку, в сраженье с хитроумным Балдой. Я и море вокруг обеги, и лошадь на плечах снеси, и камень за тучку забрось. Понял я тогда, насколько коварны бывают русские мужики. А деду за мою немощь пришлось-таки расплатиться – отдал оброк попу. Впрочем, тот по жадности и воспользоваться им не успел, потому как с чертями связался.
Поучительно
Нет, зря людишки не берут нас в расчёт. Мы, как гвоздь в ботинке, как хлебные крошки на простыне, как комар в палатке, как кофейное пятно на белой блузке, не даём расслабиться и учим предвидеть последствия любых деяний на три шага вперёд. Так что не торопитесь, граждане, списывать нежить с баланса жизни.
Еда давно минувших дней, застолья старины глубокой, а также хитин, лигнин и целлюлоза в произведениях А. С. Пушкина
Еда давно минувших дней, застолья старины глубокой, а также хитин, лигнин и целлюлоза в произведениях А. С. Пушкина
Виктория Травкина
Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела – всё съела
И вновь улетела.
Коллежский секретарь А. С. Пушкин
(из отчёта М. С. Воронцову)
В моём литературно-гастрономическом эссе речь пойдёт о еде, приготовленной на «литературной кухне» величайшего мастера слова – Александра Сергеевича Пушкина. Да простит мне читающий мир вольное переложение известной фразы из поэмы «Руслан и Людмила», написанной, как известно, юношей двадцати лет отроду, но это как ни крути – хит, а судьба хитов – ремейки.
Касаемо настолько лаконично описанных, а на деле совсем не лаконичных движений саранчи, вызвавшей в 1824—1825 годах голод в Малороссии, Крыму и Херсонской области, так, по всей видимости, двадцатипятилетнего Александра сия ситуация не особо волновала, хоть и был он государственным чиновником. Либо он, по некоторым сведениям, там вообще не был, либо был настолько прозорлив в понимании того, что любая людская борьба с «летающими челюстями» будет проиграна. Но уж точно вряд ли он мог представить, что по истечении двухсот лет насекомые будут возведены в ранг супер-фуда или еды будущего. Хотя, если мы посмотрим в библейские тексты, то увидим, что употреблять саранчу и кузнечиков в пищу Библия разрешает, но, по всей видимости, голодающим российским крестьянам начала XIX века такое в голову не приходило. Времена, однако, меняются.
Но самое интересное, что с тех самых пор насекомые всегда присутствуют в сочинениях писателя и, можно сказать, идут рука об руку с его творчеством и личностью. Не так давно, а именно в 2020 году, нашествие саранчи вызвало на родине чернокожего предка Александра Сергеевича – Абрама Петровича Ганнибала, в Эфиопии, ужасающий голод миллионов людей. Что же касается России, то с появлением у граждан обилия экзотических питомцев появилась потребность в натуральном корме. Любые рекламные газеты пестрят объявлениями о продаже живой, мороженой, сушёной и вакуумированной перелётной саранчи. Однако налёт этого крупного кузнечика не перестаёт считаться стихийным бедствием и в нашем XXI веке.
Во времена Александра Сергеевича, конечно, никто о таком использовании саранчи и не подозревал, и даже не помышлял, по крайней мере, в пределах России-матушки. А если уважаемый читатель сего опуса подзабыл, в чем сходство саранчи и, к примеру, маринованных опяточек или масляток, так любимых нами «на закусочку, да под водочку», так это не беда, нужно просто открыть учебник биологии для пятого класса. Именно там мы и найдём, что оболочки клеток грибов состоят из хитина, прямо как крылья и панцирь саранчи. А деревья и всякая растительность состоят из лигнина и целлюлозы и успешно потребляются в пищу этими самыми грибами и насекомыми. Биологический ликбез на этом позволю себе закончить и перейду к результатам исследования творчества Александра Сергеевича.
Стоит отметить, что, например, в той же сказке А. С. Пушкина «О царе Салтане…» насекомые, панцирь которых состоит из хитина, упоминаются несколько раз. Аналогично этому в сказке столько же отсылок к застольям или пирам. Начиная практически с первых строк, автор отсылает нас к мечтам о пире «на весь крещёный мир», что впоследствии свяжет мечтательницу с профессией поварихи. Что же касается остальных застольных упоминаний, то гостей (то есть купцов определённой гильдии) кормят, поят и развлекают рассказами. Причём эти застолья происходят регулярно по прибытии на места торговли. Что же касается упоминаний хитинсодержащих насекомых, то их три: это комар, впившийся в правый глаз мечтательницы-поварихи; муха, севшая на левый глаз мечтательницы-ткачихи и шмель, ужаливший в нос Бабариху (тут видны познания автора в биологии, потому что шмель после укуса не теряет жало, поэтому насекомое не умирает, как если бы это была пчела или оса).
И все изрядно поевшие и выпившие гости, конечно, не в состоянии поймать летающих насекомых, что говорит об обильности застолий и возлияний.
Прямой отсылки к меню сказочных пиров автор не даёт, поэтому сказочный «пир на весь крещёный мир» каждый может себе представлять по-разному, но необходимо понимать, что практически каждый второй день крещёного мира являлся постным. Мяса и птицы на столе быть не могло, а вот рыбы, икры, грибов, пирогов, различных каш, квасов, солений, мочений и всякой другой всячины было в изобилии. Кстати, если мы посмотрим мультфильмы советского периода, созданные по сказкам А. С. Пушкина, то увидим простые на вид яства, но в красивой праздничной посуде. Например, по сказке «О царе Салтане…» снято два мультфильма: первый 1943 года – черно-белый, а второй 1983 года – цветной. Причём один и тот же авторский текст в мультфильмах подаётся совершенно по-разному, что просто замечательно, и нужно обязательно посмотреть оба мультфильма, чтобы почувствовать разницу в сорок лет. При просмотре мультфильмов желательно запастись сушёными кузнечиками, чтобы и ваш организм мог насладиться новой супер-едой.
