Скарфинг. Книга первая
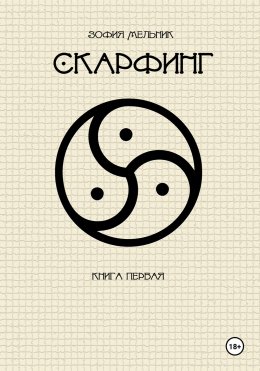
Полезно записывать сны.
Мирче Элиаде
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Науму снится, что на слушанье по их делу верховная судья явилась в чем мать родила. Из одежды на барышне только золоченая цепь с судейским знаком. И этот знак в виде гербового щита с василиском лежит между ее полных тяжелых грудей. Судья уже не молода, но еще хороша собой. У нее миловидное холеное лицо, накрашенные свеклой полные губы, витые кольцами каштановые волосы и белые, как сахар округлые плечи.
– Я, верховная судья Великой Тартарии, рассмотрев все обстоятельства дела, – голос судьи раскатистым эхом отдается от купольного свода палаты. – Приговариваю братьев Чижовых к пожизненному рабству. После оглашения приговора бить обоих кнутом…
Наум оглядывается по сторонам и видит, что судья не одна явилась на слушанье голышом. И секретарь, и писец, и палач, и жандармы, словом, все, кто присутствует в судебной палате – не потрудились прикрыть свою наготу, и сами этого словно не замечают. Разве что у палача на ногах сандалии в римском стиле на шнуровке. И только Наум и Гелий одеты в залатанные и испачканные маслом заводские комбинезоны. Братья Чижовы слушают приговор, стоя на коленях на истертом мозаичном полу. Их руки и ноги закованы в кандальные браслеты.
– Ох, – вздыхает Гелий, услыхав про порку кнутом, и зябко поводит плечами.
Невысокий и худенький, с копной русых, выгоревших на солнце волос, Гелий кажется мальчишкой рядом с широкоплечим и угрюмым Наумом.
– Дадут десять кнутов, – шепчет Наум. – Ничего, братишка, ничего…
– Тяжко? – спрашивает Гелий, глядя на старшего брата с тревогой.
– Ну-у-у, – тянет Наум. – Ты кляп покрепче закуси. Будет легче терпеть.
Прежде Наума били кнутом лишь раз, когда поймали пьяным на Прямском взвозе. Кнут это тебе ни ремень и ни розги. Даже удар в полсилы рассекает кожу, и больно так, что хочется кричать в голос. Сам Наум порки не страшится, ему горько думать, что кнута отведает младший брат.
– Ты погляди на нее, такая всю шкуру спустит, – шепчет Гелий.
Братья Чижовы молча смотрят на палача. Дюжая девица с короткой шеей и широкими, как у самца плечами прохаживается возле стойки и жует смолку. На стойке Наум видит плети из сыромятной кожи и конского волоса. Есть там арапник и кнут из коровьей кожи, который еще называют арабской плетью, и тонкий и длинный шамберьер с гибкой рукоятью. На широком и смуглом лице палача застыло скучливое выражение. У девицы раскосые карие глаза и иссиня-черные волосы, собранные в конский хвост.
– Наума Чижова, как зачинщика отправить на Ферму, – продолжает зачитывать приговор верховная судья. – Гелия отдать в услужение. Согласно традиции, государственная лотерея…
– А вот это худо, братишка, – говорит Наум, потому что это и впрямь, куда хуже, чем порка кнутом.
– Нас разлучат, – растерянно шепчет Гелий. – Ох, беда!
Секретарь – невзрачная испуганная барышня с острыми ключицами направляется к подиуму. На подиуме установлен отлитый из стекла лотерейный барабан. Внутри барабана лежат, матово поблескивая, шары из слоновой кости. Всего две сотни шаров. На каждом вырезана фамилия старинного тартарского рода. Барышня робко оглядывается на судью, потом берется за ручку и принимается раскручивать лотерейный барабан. Когда ручка уходит на самый верх, секретарю приходится подниматься на цыпочки.
– Гелька, ты не дрейфь, – шепчет Наум. – Я все одно сбегу.
– Угу. А как оно на Ферме?
– А леший его знает. Я столько небылиц слышал… Братишка, ты меня прости, что так все обернулось.
– Ты это брось! Я не маленький. Знал, на что шел.
– Эх, если бы не Тайная канцелярия, – вздыхает Наум. – Ума не приложу, откуда они узнали!
– Помянешь, черта… Ты погляди, вон там, на последнем ряду!
Взгляд Наума скользит по пустым, расположенным амфитеатром, трибунам. На самом верху, возле прохода он видит высокую девицу в черном латексном комбинезоне и маске. Агент Тайной канцелярии сидит неподвижно, откинувшись на спинку скамьи. Глаза агента спрятаны за стеклянными линзами, а прорезь для рта закрывает проволочная сетка. Это девица похожа на манекен, на гигантского муравья, на коллективную галлюцинацию.
– Это ничего, что у нас сперва не вышло, – шепчет Гелий, с опаской поглядывая на агента. – Попробуем еще раз.
Лотерейный барабан вертится все быстрее, внутри со стуком перекатываются и подпрыгивают костяные шары. Лицо у секретаря становится розовым от усердия. Наконец, один из шаров вылетает через круглую прорезь и скатывается вниз по изогнутому желобу. Барышня передает его судье.
Верховная судья держит лотерейный шар в воздетой вверх холеной белой руке.
– Муниципальный раб Гелий Чижов переходит в собственность…
Близоруко прищурясь она читает вырезанную на костяном шаре глаголицу,
– Семейству… семейству Брошель-Вышеславцевых.
– Брошель-Вышеславцевы, – повторяет Наум, старясь крепко-накрепко запомнить эту двойную аристократическую фамилию, – Брошель-Вышеславцевы, Брошель-Вышеславцевы…
Жандармы поднимают его на ноги и ведут к позорному столбу. Наум оглядывается.
– Я тебя выручу, Гелька! Я вернусь, слышишь! – обещает он младшему брату.
Палач уже натянула на руки перчатки и сняла со стойки кнут. Девица недобро улыбается, глядя на Наума, а потом делает быстрое и какое-то округлое движение рукой. По сплетенному из сыромятных полос кнуту пробегает волна, и его кончик щелкает, будто выстрел.
Жандармы подводят Наума к установленному на массивном крестообразном основании позорному столбу. Сверху на столбе закреплены деревянные колодки с прорезями для шеи и запястий, снабженные шарниром и запором. Наум стаскивает лямки, расстегивает пуговицы и стряхивает с ног комбинезон. Оставшись в исподнем, он подходит к столбу. Почувствовав, чей-то пристальный и словно бы липкий взгляд, Наум поднимает голову и видит, как верховная судья беззастенчиво разглядывает его мускулистое, плотно сбитое тело. Лицо судьи кажется отрешенным, но её темные, подведенные углем глаза, азартно блестят.
Наум невесело усмехается. Он пристраивает запястья и шею в прорези в колодке и принимается разглядывать державного василиска, выложенного черной смальтой на полу судебной палаты.
Одна из жандармов захлопывает и запирает колодку. Шарнир пронзительно скрипит, а запор лязгает так громко, что Наум просыпается…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Над сценой, изображая луну, висит на бечевке круглая газоразрядная колба. В золоченой клетке, держась обеими руками за прутья, стоит девица в блузке из белого шелка и розовых шароварах. Её лицо скрыто чадрой.
– Кто ты такая? И зачем тебя держат в клетке? – спрашивает другая актриса в полосатом халате и туфлях с загнутыми мысами.
Эта актриса играет принца Орхана, проникшего в гарем. Чтобы она хоть немного походила на самца, гример наклеил актрисе небольшую черную бородку.
– Мое имя Михрима, – отвечает девица в розовых шароварах. – И я вовсе не пленница. Если тебе дорога жизнь не пытайся открыть мою клетку. Садись и слушай.
Актриса с фальшивой бородой садится на подмостки возле клетки, скрестив ноги.
– Сейчас ты видишь меня одетой и в чадре. Это для того, чтобы тебя не ослепил блеск моей красоты. Если ты готов, я позволю тебе осмотреть самые опасные и соблазнительные части моего тела.
– Я готов, о Михрима.
Михрима снимает блузку и прижимается своей тяжелой белой грудью к золоченым прутьям решетки.
– Смотри же, это – луны, это плоды граната…
– Вся эта пьеса какой-то нелепый напыщенный вздор, – ворчит Варвара Альбрехт.
– Вовсе нет, – обижается София Павловна. – На самом деле это страшно смешно! А сколько здесь пикантных и совершенно непристойных сцен! В финале пьесы Михрима должна задушить героя шелковым шнуром. Но Орхан топит её в бассейне, наполненном ртутью, и сбегает из гарема с придворной прачкой…
– А по мне одно кривляние, – Варвара зевает и прикрывает ладонью рот. – Вот эта актриса, которая играет принца, она же совсем не похожа на самца. Все видят, что это женщина, которой просто наклеили бороду! Я не могу взять в толк, почему самцы не могут играть в театре? Им же разрешили сидеть на галерке?
София Павловна ненароком оглядывается. Зрительный зал освещает лишь льющийся со сцены свет фальшивой луны.
В партере занята от силы половина мест. Зато на галерки яблоку негде упасть. София Павловна видит, как бледными пятнами светятся в полутьме лица самцов – простолюдинов, поденщиков, дворовой челяди и рабочих с механического завода, пришедших на вечернее представление.
– А как по мне твои груди похожи на слепых щенят, нуждающихся в ласке, – говорит Орхан, сидя по-турецки на сцене и покачиваясь взад-вперед.
– Обольщение это хитрость, которую используют слабые, чтобы покорить сильных. Сильные всегда стремятся выплеснуть свою силу в нежность и стать слабыми,– продолжает Михрима, – Теперь взгляни на мои ягодицы. Они также похожи на луну. Они бледные и светящиеся, и подобно луне могут свести мужчину с ума.
Она поворачивается к Орхану спиной и, расстегнув кушак, спускает шаровары.
София Павловна хочет сказать подруге, что та ничего не понимает в театре. Она наклоняется к Варваре, и тут замечает, что сквозь хвойный запах смолки, которую жует художница, пробивается сладковатая сивушная нотка.
– От тебя разит самогоном, – шепчет София Павловна на ухо Варваре.
– Быть этого не может! – смеется художница.
– Ну, смотри, Варенька! Тебя уже пороли у позорного столба, года не прошло…
– Типун тебе на язык, – Варвара лезет в холщовую сумку и достает украдкой бутылку из толстого стекла.
В бутылке плещется мутный самогон.
– По глотку, чтобы немного взбодрится, – предлагает Варвара Альбрехт и широко улыбается щербатым ртом и вытаскивает из горлышка деревянную пробку.
Про Варвару нельзя сказать, что она красавица. У неё узкое худое лицо, нос с горбинкой и большая щербина между верхних резцов. Желтые, как солома волосы, пострижены совсем коротко и топорщатся на макушке. Это невысокая худощавая девица с узкими бедрами и длинными руками. Пальцы у нее тоже длинные, тонкие и такие гибкие, что, кажется, будто суставов в каждом пальце больше чем следует. Если присмотреться, то на лице Варвары, на ее смуглой от загара шее или руках всегда можно заметить пятнышки не до конца оттертой краски – огненную киноварь, желтую солнечную охру, изумрудную зелень кобальта или цинковые белила. Варвара Альбрехт – художница, она живет на съемной квартире неподалеку от трамвайного парка, на самой окраине Тобола.
– Ты с ума сошла! А ну, спрячь немедленно! – сделав большие глаза, шепчет София Павловна, а сама берет из рук художницы бутылку с самогоном.
– Я помню, раньше ты ни черта не боялась. Чем-чем, а поркой тебя точно было не напугать.
– Я стала осторожнее. Глупо самой нарываться на выволочку.
– Куда вы подевали мою Софи? – вопрошает Варвара, подняв свои большие навыкате глаза к темному своду зрительского зала.
Запах сивушных масел щекочет Софии Павловне ноздри. Она жмурится и, задержав дыхание, делает хороший глоток из горлышка. На лице барышни появляется страдальческая гримаса, будто её вот-вот стошнит. Она осторожно выдыхает.
– Ух, какой крепкий! – София Павловна вытирает выступившие на глазах слезы.
– Возьми-ка, – говорит Варвара и протягивает подруге завернутую в фантик смолку.
Художница тоже отхлебывает самогона из горлышка. Потом прячет бутылку обратно в суму. Откинувшись на спинку кресла, она смотрит на сцену блестящими глазами.
А на сцене, повернувшись к Орхану спиной, Михрима вертит большой белой задницей. Орхан украдкой задирает халат и принимается лихорадочно мастурбировать. У Орхана, вернее у актрисы, которая его играет, вместо настоящего пениса – фаллос, вырезанный из слоновой кости. Фаллос крепится к паху актрисы кожаными ремешками телесного цвета.
– Я расскажу тебе об астральном невольнике, обращенной в рабство задницей женщины. И о горькой тайне её черной бездны, – говорит нараспев Михрима.
Она переступает с ноги на ногу, и её массивные ягодицы, то поднимаются, то опускаются, мерцая в фальшивом лунном свете.
София Павловна разворачивает бумажный фантик и принимается жевать вязкую смолу. Рот наполняется выкусом кедровой хвои, пчелиного воска и прополиса.
– Я её нашла, – говорит Варвара, все так же глядя на сцену.
София Павловна растерянно кивает, потом перестает жевать смолку и немного испуганно смотрит на подругу.
– Нашла?
– Да. У меня есть карта. Я тебе покажу.
– Ты пьяна.
Художница тихо смеется.
– Сестренка, я прожила в Нижнем посаде все лето. Я оделась, как простолюдин, остригла волосы… Ты посмотри на меня. У меня же нет ни сисек, ни задницы! Я написала чертову уйму картин. Я пила самогон с грязными, бородатыми самцами и ходила драться стенка на стенку. Я по неделям не мылась…
– Ужас какой! У меня, наверное, никогда не хватило бы духу…
– У меня появилось много друзей, – говорит, наклонившись к самому уху Софии Павловны, художница.
Её горячий и влажный шепоток пахнет кедровой смолой и самогоном.
– Я писали портреты, рисовала шаржи. Самцы любят, чтобы картинки были яркими и гротескными. Чтобы можно было поржать, сидя у костра… И вот однажды, я им все рассказала… Рассказала, что у меня была падучая.
Заметив непонимающий взгляд Софии Павловны, художница объясняет,
– Ну, мерцающая эпилепсия по-нашему. Самцы называют это падучей. Это, наверное, потому что когда случается приступ, ты падаешь на землю…
– Разве у самцов бывает эпилепсия? – удивляется София Павловна. – У них же слишком примитивно устроено мышление, да и сам мозг самца больше похож на мозг коровы…
– Брось, подруга, – кривится Варвара. – Ты же не дурочка, чтобы в такое верить. Что с тобой стало?
– Я живу под одной крышей с жандармом. Мне, знаешь ли, приходится день за днем изживать из себя крамолу.
– Да уж, твоя сестрица не подарок, – соглашается Варвара. – Знаешь, что меня чрезвычайно удивило – в Нижнем посаде к падучей относятся совсем не так, как здесь.
– А как? – с интересом спрашивает София Павловна.
– С благоговением. С религиозным трепетом. Как-то так… Словом, надо мной никто не смеялся… А я стала жаловаться, как тошно мне жить. Сказала, что с ума схожу от тоски.
– Мы все сходим с ума от этой тоски, – замечает София Павловна.
Варвара Альбрехт криво улыбается и снова показывает подруге щербину между зубов.
– Знаешь, мне удается забыться, только, когда я пишу картины или напиваюсь в хлам.
– А ты счастливая, Варенька.
– Я не стану тебе всего рассказывать, – говорит, подумав немного художница. – Все равно ты мне не поверишь, да и времени жаль…
Стоя в золоченой клетке Михрима оборачивается и видит, как Орхан, задрав халат, бесстыдно мастурбирует. Она испуганно вскрикивает. И в ту же минуту светильник, изображающий луну, мигает несколько раз и гаснет. Сцена погружается в кромешную темноту. Раздается свирепый и жуткий голос другой женщины, не Михримы.
– Горе мужчине, который не выдержал испытание. Пускай остается во тьме и бесчестии пленником своей похоти!
Половинки бархатного занавеса сходятся и скрывают от зрителей темную сцену. Под потолком вспыхивает люстра со множеством светильников и хрустальных подвесок, похожая на застывший сверкающий водопад. Барышни в нарядных сарафанах и вечерних платьях поднимаются с кресел и, переговариваясь в полголоса и обмахиваясь веерами, выходят из зала. Подруги остаются сидеть на своих местах.
– Вот, взгляни, – говорит художница и протягивает Софии Павловне сложенный лист вощеной бумаги.
София разворачивает бумагу и видит карту городской застройки, нарисованную свинцовым карандашом.
– Это – Кремль, – говорит Варвара и тычет в карту длинным пальцем. – Вот Прямский взвоз… Вот Большая Ильинская, а здесь – Спасская…
– Если это Ильинская, то вот он – драматический театр. Значит, мы сейчас здесь… А эта что за метка?
Неподалеку от театра в переулке София Павловна видит нарисованной красной охрой треугольник. Цвет охры такой яркий, что ей кажется, будто треугольник светится на полупрозрачном листе вощеной бумаги.
– Это – то самое место.
– Не может быть, чтобы было так просто, – качает головой София Павловна.
– Здесь недалеко, – шепчет ей на ухо художница. – Сходим и сами посмотрим?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Покуда подруги смотрели спектакль, в Тоболе уже стемнело. Вдоль улицы стоят тонкие изогнутые столбы фонарей с пузатыми колбами. Неживой белый свет ложится на усыпанную палой листвой мостовую и бежит ручейком по трамвайным рельсам. Уличные фонари не соединены между собой проводами. Вместо этого на каждом столбе установлены U-образные навершия с горизонтально закрепленными реками. На рейках расположены конденсаторы эфирного поля – по форме и размеру схожие куриными яйцами, с запаянной внутри ртутной смесью и медным сердечникам. Нижний загиб U-образного элемента служит для того, чтобы само навершие не превратилось в короткозамкнутый виток в центре эфирного облака. Плотности такого облака достаточно, чтобы зажечь фонарную колбу с газом, которая крепится на единственном проводнике к столбу. Уличные фонари запитываются от ближайшей станции генерации. Возмущение эфирного облака с одной стороны цепи почти мгновенно передается на другой конец посредством продольных колебаний.
Барышни ходко идут вниз по Большой Ильинской, все дальше удаляясь от Кремля.
– Ты была самой настоящей сучкой. Маленькой дрянью, безумной и озлобленной на весь мир, – вспоминает Варвара. – Наверное, дня не проходило, чтобы тебе хорошенько не доставалось.
– Меня драли, как сидорову козу, – смеется София Павловна. – Знаешь, подруга, когда тебя стегают прутом, как-то забываешь, что все вокруг сплошная иллюзия. Мир становится чертовски реальным.
– Ты ведь не сдалась, Софи?
– Не думаю, что я сдалась.
В синем, украшенном вышивкой, сарафане, сложив за спиной руки, София Павловна молча шагает по мостовой. Свет фонаря выхватывает из темноты ее бледное усыпанное веснушками лицо.
Мимо подруг со стеклянным звоном проезжает поздний трамвай.
– Ты видишь кого-нибудь из наших?
– Я стараюсь видеться со всеми, – отвечает София Павловна. – И я замечаю, как понемногу мы все теряем надежду.
– Нынешней ночью всё изменится, – обещает художница. – Теперь мы знаем, где эта чертова дверь.
Она останавливается на углу и, не таясь, потому что час уже поздний и на улице ни души, достает из холщовой сумы бутылку и прикладывается к горлышку. Неподалеку, посреди маленькой треугольной площади стоит позорный столб с колодками, и София Павловна, глядя на него, зябко поводит плечами. Пьянство в Великой Тартарии вне закона. За пьянство публично порют плетьми. Но Варваре Альбрехт как будто нет до этого дела. А ведь в начале прошлого лета она стояла возле такого вот позорного столба, и плеть впивалась в ее худенькие плечи и гуляла по ее узкой белой спине.
Художница вытирает ладонью губы и протягивает бутылку Софии Павловне.
– Ты что-то совсем раскисла, сестренка.
София Павловна воровато оглядывается по сторонам. Барышни остановились неподалеку от здания генерации атмосферного электричества, притулившегося промеж особняков. Похожие на огромные луковицы купола темнеют в усыпанном звездами небе. Низкий, едва слышный гул плывет по улице, а в узких, как бойницы окошках станции ярко горит свет. Вдоль по Большой Ильинской от здания к зданию бежит, опираясь на чугунные опоры, магистраль пневматической почты.
София Павловна делает изрядный глоток самогона и возвращает бутылку художнице.
– Варенька, у тебя же выставка! – спохватывается София Павловна. – А я тебя даже не поздравила, не расспросила… Ты меня прости!
– Да мы как-то про другое говорили, – немного смущенно отвечает Варвара.
– Это на Кузнечной заставе, верно? – спрашивает София Павловна. – Я непременно приду. Пускай, я и не очень понимаю в живописи… Я так за тебя рада, Варя, если бы ты только знала!
– Да ну её, эту выставку, – хмурится Варвара. – Если бы не были нужны деньги до зарезу… Я сегодня закончила одну картину. Долго провозилась, стоит сказать… Знаешь, я подумала, это как-то несправедливо.
– Ты о чем?
– Ведь кроме нас есть и другие. Вот я и захотела, оставить им подсказку. След из хлебных кошек.
– Дельная мысль, – соглашается София Павловна.
– А как это сделать?
– Я уже все сделала, подруга. Я спрятала карту на самом виду, – смеется Варвара и София Павловна понимает, что художница пьянее, чем кажется. – Но не все так просто, им все же придется поломать голову… Есть такой старый фокус с зеркалами…
София Павловна останавливается под фонарем и, прищурив глаза, всматривается в карту.
– Я не могу понять, где этот переулок…
Порыв ветра едва не вырывает у нее из рук лист вощеной бумаги. По мостовой летит рыжая опаль. Ветер раскачивает, стоящие вдоль улицы старые клены.
– Мы должны повернуть с Ильинской. Это где-то здесь… Вот только никакого переулка я не вижу.
Варвара, заглядывает подруге через плечо.
– Смотри, на карте обозначена станция генерации. А вот и переулок…
Барышни оборачиваются и смотрят, на стоящее неподалеку, увенчанное куполами здание станции, а потом снова на карту.
– Ничего, не понимаю, – признается, наконец, София Павловна.
Художница отбирает у подруги лист вощеной бумаги и решительно шагает по мостовой, мимо позорного столба с колодками, мимо будки сапожника. Свет в будке не горит, окошки закрыты ставнями, дверь заперта на замок. За будкой в полутьме виднеется деревянная решетка, увитая пожелтелым и пожухлым плющом. Решетка тянется от станции генерации до следующего дома, стоящего на Большой Ильинской.
Дойдя до этого самого дома, Варвара Альбрехт останавливается и задумчиво разглядывает лепные маски грифонов над темными окнами.
– Странно это, – замечает София Павловна. – Будто целый переулок пропал.
Художница с досадой смотрит на подругу, потом её взгляд скользит в сторону…
– Слепая дура, вот кто я такая – смеется Варвара, ее большие навыкате глаза возбужденно блестят.
Она проходит мимо ничего не понимающей Софии Павловны, мимо будки с опущенными ставнями, останавливается возле решетки и принимается срывать с деревянных реек высохший и пожелтелый плющ.
– Его спрятали, – говорит художница. – Спрятали целый переулок. Вот, посмотри сама.
София Павловна подходит ближе.
– Странное дело, я, наверное, сотню раз проходила по этому самому месту…
– Ты помнишь, много лет назад в Тоболе была эпидемию оспы?
– Матушка мне рассказывала. Я тогда была совсем маленькая.
– Говорят, от оспы много людей поумирало. Столица опустела. Улицы, на которых больше никто больше не жил называли карантинными. И проход на такие улицы закрывали. А уже потом на новых картах карантинные улицы перестали рисовать, словно их и не было вовсе.
Варвара идет вдоль решетки, покуда та не упирается в каменную стену здания.
– Подсоби-ка, сестренка! – просит она Софию Павловну.
Вдвоем барышни немного сдвигают в сторону, сколоченную из реек решетку, и бочком пролезают в образовавшийся проход.
В карантинном переулке темно. Сквозь облачную дымку, затянувшую небо, сочится лунный свет и худо-бедно освещает нежилые дома, стоящие по обеим сторонам. Гнутые фонарные столбы похожи на мертвые деревья, промеж булыжников мостовой там и сям торчат пучки пожелтелой травы. Софии Павловне кажется, что она попала в другой город. Ей сложно поверить, что стоит лишь шагнуть за решетку, и сразу попадешь в освещенную огнями столицу, где по улицам катят самодвижущие повозки и трамваи, и нарядные дамы, посмотрев вечерний спектакль в театре, расходятся по домам.
– Раньше этот переулок назывался Аптекарским, – замечает художница, прочитав вывеску на одном из домов.
– Нет, я не верю, – качает головой София Павловна. – Ничего мы там не найдем.
– Знаешь, я всегда представляла, что это будет самая обычная с виду дверь. Но ведь такого не может быть?
– Откуда мне знать, – София Павловна ежится и обнимает себя рукам за плечи. – Когда я об этом думаю, мне становится не по себе, все внутри сжимается.
Барышни идут рядышком по темному безлюдному переулку, спрятанному в самой сердце столицы.
– Я тебе говорила, что у меня две сестры? – спрашивает София Павловна.
– Нет, ты рассказывала только про Евдокию. Я помню, она дознаватель в жандармерии. И это она упекла тебя в Заведение.
– Я самая младшая. Евдокия – это средняя сестра, а старшая у нас – Ида, – рассказывает София Павловна. – Ида Павловна Брошель-Вышеславцева, член географического общества. Ты не могла про неё не слышать. Это она ходила в Индию и поднималась в стратосферу на вимане.
– Ты же знаешь, сестренка, я существо асоциальное. Газет не читаю, новостями не интересуюсь. А почему ты про это заговорила?
– Ида одна из нас, – говорит София Павловна. – Она сама мне об этом сказала, прежде чем уйти в экспедицию. Ну, не то, чтобы сказала, намекнула.
– Однако, семейка у тебя, – усмехается Варвара. – Нет, по мне лучше быть сиротой.
– Вот то самое здание, – замечает София Павловна, останавливаясь посреди переулка. – Или нет?
Варвара останавливается рядом и сверяется с картой.
– Ну, да. Кажется, здесь.
София Павловна недоверчиво разглядывает сложенное из белого камня двухэтажное здание. Все окна закрыты ставнями. Козырек парадного подъезда поддерживают сдвоенные колонны. Промеж колонн видны высокие массивные двери, обитыми листами меди. Из-за облаков выглядывает луна, и её призрачный свет ложится на бурую от ржавчины кованую вывеску, установленную на крыше подъезда.
– ТЕАТР КУКОЛ, – с удивлением читает вывеску София Павловна.
– А я и не знала, что в Тоболе был кукольный театр, – замечает художница.
Она оглядывается по сторонам, еще раз сморит на карту, потом складывает лист вощеной бумаги и протягивает Софии Павловне.
– Возьми, пускай будет у тебя.
Варвара быстро поднимается по ступеням и берется за дверную ручку. В переулке стоит такая вязкая и густая тишина, что на Софию Павловну наваливается беспричинный страх. В этой тишине она слышит, как часто колотится ее сердце. Все вокруг кажется ей жутким, полным зловещего смыла – плывущая в облачной пелене луна, запертые ставни на окнах и даже истлевшая ветошь, лежащая на ступенях подъезда…
Взявшись за ручку обеими руками, Варвара Альбрехт то толкает, то тянет дверь на себя. Потом наваливается на неё плечом.
– Заперто, – говорит художница, – Вот же ёшкин кот!
Но тут дверь неожиданно подается и медленно распахивается вовнутрь. Проржавевшие петли истошно и жутко скрипят.
Барышни заходят в темный холл и останавливаются, не зная, куда идти дальше.
– Кажется, там горит свет, – говорит София Павловна шепотом.
– Сама вижу, – отвечает Варвара.
Вытянув руки, она осторожно идет вперед.
– Здесь какая-то чертова колонна, – предупреждает она подругу.
София Павловна, нащупав колонну, обходит ее стороной. Теперь она видит, что свет льется в холл из приоткрытых дверей в зрительный зал. Подруги молча переглядываются. Варвара Альбрехт решительно распахивает обе створки и останавливается на пороге. София Павловна выглядывает из-за ее плеча.
– Ну что еще за напасть… – шепчет Варвара.
– А зачем все эти звезды и кометы из фольги? – спрашивает София Павловна. – Это уж как-то слишком… Может, это чей-то розыгрыш?
– Мне не смешно.
Варвара Альбрехт достает из холщевой сумы бутыль с самогоном и, вытащив пробку, делает глоток из горлышка. Глядя на сцену, залитую ярким светом софита, София Павловна начинает нервно хихикает и никак не может остановиться.
– Нет, это не розыгрыш, – говорит медленно художница. – Просто сперва испытываешь растерянность и страх, потому, что ждала чего-то совсем другого… Вот, держи.
Варвара передает подруге бутылку.
– Спасибо, Варенька, – говорит София Павловна и тоже делает глоток самогона.
Её зубы стучат по стеклянному горлышку…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Ключ с лязгом поворачивается в замке, и дверь камеры распахивается. Открыв глаза, Наум видит двух тюремщиц.
Женщины похожи друг на дружку, будто родные сестры. Обе невысокие, как говорится, в теле, с неприветливыми широкими лицами. Одеты тюремщицы в униформу – черные рубахи с вышитыми желтой нитью солярными символами, короткие черные юбки и ботинки с квадратными мысами.
Покуда тюремщицы надевают на него кандалы, Наум стоит, пошатываясь со сна, и смотрит за окно. Саднит исхлестанная кнутом спина, но боль уже не такая яркая и мучительная, как вчера после порки…
В коридоре тюремного замка стоит сумрак. Короткая кандальная цепь звякает при каждом шаге. Наум шаркает ногами по каменным плитам, а сам разглядывает мясистые голени тюремщицы и ямочки под её коленками. Толстые ляжки женщины трутся при ходьбе одна о другую. Член Наума наливается кровью и распрямляется в штанах комбинезона.
Коридор упирается в запертые двустворчатые двери. Возле дверей дежурит охранница с электрическим разрядником. Взглянув на сопроводительную грамоту, охранница отодвигает засов, распахивает одну из створок, и Наума выводят во внутренний дворик. Час еще ранний, и солнце только-только поднялось над зубчатыми стенами кремля. Посреди двора стоит потрепанный маломерный виман, похожий на невысокую толстую башенку. Широкая со скругленными углами дверь сдвинута в сторону, и на борт вимана можно подняться по дощатому трапу. Возле трапа смолит папироску барышня-пилот в мешковатых брезентовых штанах и летной куртке. Увидав, что самца уже ведут на посадку, пилот опускается на корточки, открывает дверцу в корпусе вимана и подбрасывает угля в жаровню.
Наум, звякая цепью, семенит по залитой солнечным светом посадочной площадке. Через плечо он оглядывается на здание тюремного замка, на крохотные, забранные решеткой окна, прорезанные в беленых каменных стенах. Гелий сейчас там, в одной из этих тюремных камер. В который уже раз Наум клянется себе, что убежит с Фермы, как только подвернется случай. Он непременно вернется в Тобол и вызволит брата из беды, как и обещал.
По трапу тюремщицы заводят Наума в виман. Ему велят поднять руки вверх и пристегивают кандальную цепь к металлической скобе на потолке салона. Тюремщицы передают сопроводительную грамоту пилоту и уходят. Пилот привычно затаскивает на борт трап. Бросив на Наума быстрый взгляд, барышня проходит по салону опускается в обтянутое коровьей кожей кресло. Заведя за спину руку, она вытаскивает из-за пояса нож и кладет на панель управления. Лезвие ножа выглядывает немного из кожаных ножен, и Наум замечает желобок, проходящий посреди лезвия. Такой нож он видел однажды в Нижнем посаде. Цену запросили немалую, правда, было за что. Нож был с отличной балансировкой, из слоистой стали, которой сноса нет. А кроме того по лезвию ножа от рукояти до самого острия шел желобок с запаянной внутри ртутью. Если метнуть такой нож, он поворачивался в полете только один единственный раз, а потом летел острием вперед, потому что ртуть перетекала к острию и останавливала вращение. Да что там говорить, такой нож в умелых руках был страшнее разрядника.
Барышня-пилот нахлобучивает на голову летный кожаный шлем и тянет за рычаг на панели. Дверь вимана с металлическим лязгом встает на место. Немного помедлив, барышня нажимает на другой рычаг и виман, чуть качнувшись, поднимается в небо.
Стоит сказать, что всю недолгую жизнь братьям Чижовым сопутствовало удача, словно оба родились с золотой ложкой во рту. Первой несказанной удачей было попасть в сиротский приют на Алафейской горе. Окажись они в Нижнем посаде, в какой-нибудь бревенчатом бараке с окнами, затянутым бычьим пузырем, у братьев был мизерный шанс остаться в живых.
Старший из братьев – Наум был недоверчивым и упрямый. Если во время драки Наума сбивали с ног, он раз за разом поднимался и, сжав кулаки, снова шел на обидчика. Широкоплечий, крепко сбитый, с недобрым взглядом исподлобья, Наум походил на молодого бычка. Младший брат – Гелий драться и вовсе не умел. Гелий любил читать книжки, любил учиться. Он без труда освоил глаголицу, а после руническое письмо. На рунице была написана добрая часть учебных пособий, а кроме того все памятки и руководства к старым станкам и машинам… Братья не были похожи друг на друга ни характером, ни внешне. Наум сперва делал, а потом смотрел, что из этого вышло. А Гелий старался продумать все до мелочей, но боялся на что-либо решиться.
Братья Чижовы прошли отбор в ремесленное училище, и эта была вторая серьезная удача в их жизни. Окончив училище, Наум устроился работать на механический завод, а после замолвил словечко за Гелия. Попасть в касту инженерно-технических работников это большее, о чем мог мечтать родившийся в матриархальной Тартарии самец. Это была последняя ступень на карьерной лестнице.
В начале сентября братья Чижовы забрались на верфь, где собирали виманы для полетов в стратосферу. Угнать воздушное судно им помешали агенты Тайной канцелярии. Днем позже Наум и Гелий Чижовы предстали перед судом Великой Тартарии. Так нелепо и странно закончилась удачливая карьера братьев Чижовых, но роковое событие, перевернувшее их жизни, случилось несколько раньше.
Рассказывая друг другу о пережитом приступе, Наум и Гелий сходились в том, что сперва стало необычайно тихо, и во внешнем мире и у каждого из них в душе. А потом из самой середины этой тончайшей, хрустальной тишины принялся сыпать снег. Снег был крупный и шел так густо, что у Наума закружилась голова. Он выронил из руки тяжелый инструмент в мягкую, как сметана пыль, устилавшую заводской двор, и медленно обернулся к брату. Был жаркий летний полдень. Гелий стоял неподалеку, и снег лежал на его плечах и макушке. Сложенные из красного кирпича заводские цеха, ограда из проржавелых прутьев и крытые почерневшим гонтом крыши трущоб – всё пропало за завесой медленно падающего снега. Сквозь снежную пелену холодным синеватым светом горели далекие огни. В эти последние мгновение Науму показалось, что он не в Тоболе, а в чужом незнакомом городе. Но он не успел додумать эту мысль до конца. Сознание Наума померкло, будто свеча, которую резко задули. Один за другим братья повалились в нагретую солнцем пыль. Их тела в залатанных и испачканных маслом комбинезонах бились в конвульсиях, глаза закатились, изо рта шла пена. Доктора в Старом посаде называли такие приступы мерцающей эпилепсией.
В тот летний полдень вся жизнь братьев совершенно переменилась. И возврата назад уже не было.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Виман поднимается все выше и выше, и вскоре Наум видит всю Алафейскую гору разом. Сложенные из белого камня стены кремля горят на солнце, словно сахар. Центр Старого посада застроен особняками в два, а то и в три этажа с портиками и колоннадами, с балюстрадами, балконами и эркерами. Там и сям промеж каменных стен сверкают луковицы куполов. Станций генерации так много, что и не сосчитать. Столица Тартарии потребляет целую прорву энергии – катят по рельсам дребезжащие коробочки трамваев, снуют самодвижущиеся повозки, круглые сутки работают фабрики-кухни, спрятанные от досужего взгляда в подвалах, скользят по почтовым магистралям тысячи капсул с корреспонденцией. А по вечерам, как стемнеет, белым светом озаряются окна особняков, и на всех улицах вспыхивают разом фонари и горят всю ночь напролет. А еще на окраине там, где стоят унылые доходные дома и бревенчатые бараки, за трамвайным парком, возле самого обрыва пыхтит механический завод, выбрасывая из кирпичной трубы клубы черного маслянистого дыма. Даже подумать страшно, сколько на все про все нужно энергии, и столица забирает электричество прямо из неба, прокалывает небесную твердь бесчисленными иглами антенн, высасывает луковицами эфирных приемников. Весь Тобол ощетинился острыми шпилями, нацеленными в осеннее бледное небо.
А внизу, у подножия Алафейской гора, похожий на пятно жирной грязи расплескался Нижний посад. Кажется, что там вовсе нет улиц, только стоящие без всякого порядка хибары и бараки, сложенные из почерневших бревен и крытые дранкой. Там жгут костры из хвороста и кизяка, там по непролазной грязи промеж домов снуют бородатые самцы в обносках, и худые клячи тянут куда-то телеги на деревянных колесах, груженные не пойми чем. В Нижнем посаде одичалые самцы гонят самогон и горланят протяжные песни, посматривая сквозь едкий дым костра, на Прямский взвоз – не идут ли снова жандармы с облавой.
Наум, не отрываясь, глядит за иллюминатор. Виман летит над Нижним посадом, потом над пустошью поросшей высокой, сгоревшей от летнего зноя травой. Сквозь стекло Наум видит пыльный проселок, синюю ленту Ирия и проржавелый арочный мост, переброшенный на тот берег. Как-то раз Наум ходил смотреть на этот мост и долго сидел у реки напуганный и притихший. Мост устрашал его своими размерами и совершенством конструкции. Одичалые самцы в Нижнем посаде травили байки, будто прежде в Тартарии жили большие люди, нефилимы, и это они возвели мост через Ирий, потому что людям, жившим в Тоболе сейчас такое попросту не по силам.
На другом берегу Ирия начинается лес. Еще не опавшая листва на деревьях горит золотом и медью, и только ельник стоит там и сям темно-зелеными островками. А Тобола уже не видно, город отъехал назад, и Алафейская гора пропала в солнечной дымке.
Не удержавшись, Наум горько вздыхает.
– Тебя как зовут? – спрашивает его барышня-пилот.
– Наум.
– Ну, будь здоров, Наум. А я – Лия.
Она оборачивается и окидывает Наума взглядом. Тот стоит посреди салона, с прикованными к скобе руками, в грязном и порванном заводском комбинезоне.
– А скажи мне, Наум, за что тебя сослали на Ферму?
У Лии обветренное смуглое лицо, широкие скулы и курносый нос. Она смотрит на Наума весело и довольно-таки дружелюбно.
– А тебе какое дело? – хмуро спрашивает Наум.
– Да нет мне до тебя никакого дела, – смеется Лия. – Просто нам еще час лететь. Скучно.
Виман покачивает из стороны в сторону, как лодку в неспокойном море. Наум слышит, как свистит воздух, проходя через защищенный сеткой заборник на крыше.
Лес понемногу редеет. За лесом начинается топь с торчащими из воды мертвыми деревьями. Наум старается запомнить дорогу обратно к Тоболу. И чем дальше виман отлетает от столицы, тем тоскливее становится у него на душе.
– Что ты натворил, Наум? – допытывается до него Лия.
– Мы с братом забрались на верфь неподалеку от Тобола, – говорит Наум, которому надоело играть в молчанку. – Хотели угнать виман… Не такой как у тебя, а для полетов в стратосферу. Ты, наверное, слышала про такие виманы. Они размером с трехэтажный особняк, а может и больше.
Лия снова смеется.
– Ох… Ну, какие вы глупые! Там же четыре вихревых движителя. И четыре печи для нагревания ртутной смеси. И вот мне интересно, как это вы вдвоем собирались поднять такой виман в воздух?
– Уж как-нибудь управились бы, – хмуро отвечает Наум, – у тебя вроде выходит, ну, и я не глупее.
– Это же маленький виман, грузоподъемность у него от силы дюжина человек. Здесь только один движитель и тот маломощный. С таким ты бы справился, хотя навык все равно нужен.
– А то я не знаю, – ворчит Наум. – Я «Виманику-шастру» читал, наверное, дюжину раз.
– И много же ты понял? Вот, только честно?
– Ну, понял кое-что… А что не понял, мне братишка объяснил. Он у меня башковитый.
Взглянув за окно, Наум видит, что болото осталось позади и теперь они летят над пустыней. Барханы из красного песка, словно застывшие волны тянутся до самого горизонта.
– Нет, ты мне объясни, как здесь все утроено? – не отстает Лия. – Какая сила поднимает виман в воздух?
– Ну, если своими словами… – Наум хмурится, вспоминая «Виманику-шастру». – Вот под той плитой, у меня под ногами находится движитель. Это что-то вроде большого сотейника с крышкой. В сам движитель налита ртуть. А под ним стоит жаровня с углями и катушки с медной проволокой. Если в жаровне развести огонь, ртуть начинает двигаться по кругу все быстрее и быстрей пока не принимает форму бублика. Когда из жидкого состояния ртуть превращается в пар, в движителе образуется очень высокое разряжение. Весь доступный воздух закручивается в спираль и выбрасывается через сопло наружу. Именно этот воздушный поток толкает виман вперед. Но это еще не все… Вихрь в движителе вращается чрезвычайно стремительно, и наружный воздух затягивает через воздухозаборник так быстро, что над виманом образуется вакуум. Вот и получается, что подъемная сила возникает из-за колоссального перепада давления под виманом и над ним. Можно сказать, что это подъемная сила толкает воздушное судно вверх, а можно – что виман сам поднимается в вакуум.
Лия молчит. Она сидит, откинувшись в кресле, и смотрит на красную пустыню.
– Я не все поняла, – говорит, наконец, пилот. – Но, очень похоже, что так всё оно и устроено.
– Постой, родная, но ты же управляешь этой штукой? – недоверчиво спрашивает её Наум.
– Ну да. Только я не очень понимаю, как виман держится в воздухе. Видишь, тут всего два рычага. Вот этим рычагом я могу менять скорость полета. А этим – задаю высоту. Ну, а чтобы повернуть, просто кладешь виман на бок…
– Ясно, – Наум переступает с ноги на ногу и звякает кандальной цепочкой.
– Знаешь, первый раз я встречаю самца, который определенно умнее меня, – говорит задумчиво Лия. – И, если честно, мне это не нравится. Мне от этого делается неуютно.
Наум не успевает толком обдумать слова пилота, когда замечает, что впереди песчаные барханы странным образом обрываются в пустоту.
– А что это там такое?
– Тектонический разлом, – отвечает Лия. – Говорят, он тянется до самого Индийского океана… А вот и Ферма. Что скажешь, впечатляет?
Пригнув голову и прищурив глаза от солнечного блеска, Наум смотрит в иллюминатор. Больше всего здание Фермы напоминает ему раковину морского моллюска только немыслимого, циклопического размера. Темно-серая почти черная, эта «раковина» лежит на краю разлома, зарывшись в песок, и солнечные лучи тускло поблескивают на её закрученной логарифмической спиралью неровной, будто гофрированной поверхности.
Виман подлетает ближе, и Наум видит величественный, похожий на кошмарный сон тектонический разлом. Только дно разлома Наум так и не может разглядеть – острые, как иглы скалы уходят уступами вниз в синеватую мглу. А над этой бездной, словно половинка ажурного моста, висит посадочная площадка. Это изящная легкая конструкция крепится к каменной стене разлома изогнутыми тонкими опорами.
– Сейчас будем садиться, – предупреждает его Лия и ведет виман вниз, на посадочную полосу, висящую над бездной.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В гостиной за обеденным столом сидит Евдокия Павловна – средняя из сестер Брошель-Вышеславцевых и пьет крепкий черный кофе без сахара и сливок.
– Доброе утро, Софи, – говорит Евдокия Павловна, внимательно глядя, на младшую сестру.
– Доброе утро, – отвечает София Павловна тусклым голосом и, остановившись возле стола, наливает в высокий стеклянный стакан воды из графина. В графине плавает стебель сельдерея и гроздь калины.
Евдокия Павловна не торопясь курит папироску. Табачный дым вьется серой ленточкой и поднимается к потолку. За спиной у госпожи Брошель-Вышеславцевой, сложив на животе руки, стоит экономка – Татьяна Измаиловна. Гостиная залита ярким солнечным светом. Створка высокого окна, выходящего на балкон, приотворена, и виден круглый столик, пара кресел и беленый каменный парапет с балясинами.
У всех сестер Брошель-Вышеславцевых рыжие волосы, которые отличаются только оттенком. У Евдокии Павловны волосы заметно темнее, чем у Софии, и больше похожи на медь, чем на пламя костра. Евдокия носит каре с короткой челкой. У нее вытянутое длинное лицо, нос прямой и самую малость великоват. От крыльев носа к уголкам рта протянулись две глубокие складки.
– Татьяна Измаиловна мне сказала, что ты явилась домой среди ночи, – замечает как бы между прочим Евдокия Павловна. – И ты была пьяна.
Она затягивается папироской, и София слышит, как трещит, сгорая табак. На дубовой столешнице рядом с кофейной чашкой и блюдцем лежит серебряный портсигар Евдокии Павловны и просто невыносимо сверкает на солнце. На крышке портсигара – державный василиск со змеиным хвостом свернутым колечком.
– Полагаю, Татьяне Измаиловне показалось, – отвечает София.
Она выпивает до дна стакан прохладной воды. Внезапно залитая солнечным светом гостиная принимается раскачиваться из стороны в сторону. Глубоко вздохнув, София ставит стакан на стол и цепляется рукой за край столешницы.
– Будь добра, Софи, подойди ко мне, – просит её сестра.
– Это еще зачем?
– А впрочем, не стоит, – Евдокия брезгливо морщит длинный нос. – От тебя так разит перегаром, что с порога можно почуять.
У Софии Павловны нет сил, вступать с сестрой в перепалку.
Она идет к кухонному лифту. На дверцах лифта четыре ручки, вокруг каждой нарисован поделенный на сектора циферблат. Расположив стрелки в нужных секторах, можно составить меню на любой вкус. Софии Павловне хочется чего-то сладкого и необременительного для желудка. Чтобы выбрать десерт она вертит третий тумблер, пока не останавливается на творожной запеканке. С помощью четвертого тумблера барышня выбирает напиток, сегодня это клюквенный морс.
София Павловна нажимает клавишу, внутри шкафа звенит колокольчик, и ее заказ отправляется на фабрику-кухню расположенную в подвале стоящего по соседству дома.
– А вот, что ты обронила на лестнице, – продолжает сестра и стучит ложечкой по стеклу.
София Павловна оглядывается и, наконец, замечает стоящую на столе давешнюю квадратную бутыль.
– Тебе не хуже моего известно, что самогон в Тартарии запрещен. А знаешь почему?
– Знаю, – хмуро отвечает София. – Потому что это яд.
Барышня стоит возле кухонного лифта – худенькая, стройная, в голубом ситцевом халатике. Её рассыпанные по плечам рыжие волосы горят на солнце.
– Я беспокоюсь за тебя, Софи, – говорит Евдокия Павловна и не спускает взгляда с младшей сестры. – Кончится тем, что тебя пьяную остановят на улице жандармы. Тебя выпорют плетьми у позорного столба! Нет, это неслыханно! Чтобы девица из рода Брошель-Вышеславцевых, одного из старейших родов Великой Тартарии, оказалась у позорного столба?! Наша покойная матушка не пережила бы такого позора… Скажите, Татьяна Измаиловна, ну разве я не права?
– Ну, разумеется, вы правы, – соглашается экономка. – Опозорить такую фамилию, слыханное ли это дело?
– В Нижнем посаде живут опустившиеся, потерявшие человеческий облик самцы. Эти животные жить не могут без самогона. Каждый месяц мы устраиваем облавы, но все без толку.
Они раз за разом собирают перегонные кубы и снова гонят, и пьют этот яд… Я не хочу, чтобы ты не угодила в беду, Софи. Я боюсь за тебя.
В кухонном лифте звенит колокольчик, и тут же распахиваются дверцы. Татьяна Измаиловна проходит через гостиную и достает из лифта поднос. На подносе стоит стакан с брусничным морсом и тарелка с творожной запеканкой.
Экономка относит поднос к столу.
– Столько работы по дому, верчусь весь день, как юла, – жалуется Татьяна Измаиловна, составляя тарелку и стакан на столешницу. – Хорошо бы купить смышленого раба.
– Ну, голубушка, – смеется Евдокия Павловна. – У нас уже был в услужении мальчишка. Так вы так его лупили, что он взял, да и убег.
София усаживается за стол и проводит тонким пальчиком по запотевшему стеклянному стакану. У неё совсем нет аппетита, даже напротив, слегка подташнивает.
– Видишь ли, Софи, я служу в жандармерии и не могу пройти мимо нарушения закона. Я должна составить рапорт. Но…
– Но это бросит тень на овеянный славой род Брошель-Вышеславцевых, – криво улыбается София Павловна.
Сестра глядит на нее, недобро прищурив глаза.
– Наверное, я все же тебя избаловала. Если мне не изменяет память, я ни разу не наказывала тебя с тех самых пор, как ты побывала в Заведении. Я полагала, что ты уже взрослая и в битье нет необходимости. Выходит, я ошибалась, – вздыхает Евдокия Павловна. – Я хочу, чтобы ты помнила, Софи, я тебя люблю и поступаю так для твоего блага.
– Ах, Дося, поступай, как тебе угодно.
– Да, именно так, – широко улыбается Евдокия Павловна и показывает сестре свои ровные крупные зубы.
София Павловна подходит к диванчику, стоящему в углу гостиной, развязывает пояс и сбрасывает на пол ситцевый халатик. Она прикрывает руками пах, зябко поводит плечами и, взглянув исподлобья на сестру, ложится животом на диванный валик. София Павловна вытягивает ноги, и упирается пальцами в нагретый солнцем пол. Она прижимается щекой к выгоревшему зеленому велюру и закрывает глаза. Прежде Софию Павловну частенько наказывали в гостиной на этом самом диване. Стоит сказать, Евдокия сама никогда сестру не порола, а поручала это экономки. Если наказания было суровым, Евдокия Павловна садилась на диван и крепко держала Софию за запястья.
София Павловна поводит рукой по выцветшему велюру и с удивлением понимает, что все эти годы свершений и важных открытий куда-то подевались, и из молодой женщины она превратилась обратно в озлобленного на весь мир ребенка с несносным характером. Евдокия Павловна была права, Софи не наказывали ни разу, с тех самых пор, как она вернулась домой из исправительного Заведения. И сейчас, лежа бедрами на диванном валике, Софи Павловна отчетливо вспоминает, какая тяжелая у экономки рука и как нестерпимо жжется гибкая трость из ротанга.
Как в старые времена Евдокия Павловна садится на диван рядом с сестрой и берет ее за запястья. А Татьяна Измаиловна достает с полочки ротанговую трость с загнутой крючком ручкой. Трость давно лежит на полке без дела, и экономка, взяв из ящика ветошь, стирает с ротанга пыль. Татьяне Измаиловне еще нет сорока. Это моложавая, невысокого роста, крепко сбитая женщина с пышной грудью и широкими бедрами. У Татьяны Измаиловны смуглая кожа, округлое лицо, густые черные брови и черные, как смоль волосы, собранные в пучок на затылке.
С тростью в руках экономка встает сбоку от диванчика. Взглянув на маленькие крепкие ягодицы Софи, Татьяна Измаиловна несколько раз хлещет ротангом по воздуху, чтобы почувствоваться вес трости, а потом отводит руку назад.
– Надеюсь, ты образумишься, – говорит сестре Евдокия Павловна.
Ротанговый прут рассекает воздух и звонко хлещет Софи по бледным ягодицам. Трость впиваются в кожу и жжется, словно кипяток.
София Павловна мужественно переносит порку. Она не кричит и не стонет, не просит у сестры, чтобы ты остановила наказание. София Павловна слишком горда для этого. Она пробует считать удары, но сбивается на втором десятке. От порки Софии Павловне становится жарко. Её бледное с россыпью веснушек лицо блестит от пота. Пот течет ручейками по ее узкой голой спине.
Раз за разом гибкая трость с треском впивается в кожу. София Павловна ерзает бедрами по диванному валику, стучит по полу ногами, но не произносит, ни звука. В эти минуты страдания и стыда София вспоминает Заведение, где провела пару незабываемых месяцев.
Это Заведение было непросто найти, оно как будто стыдливо пряталось за старым кладбищем на городской окраине. София Павловне стоило только закрыть глаза, как она видела увитую плющом проржавелую кованую ограду и гравиевую дорожку, петлявшую меж стволов в зеленых древесных сумерках. Она помнит это унылое одноэтажное здание с потрескавшимися стенами, выкрашенными желтой краской, гулкую тишину коридора, тазы и ведра, куда капала вода сквозь прохудившуюся крышу, когда случался дождь. Помнит общую спальню с облупившейся краской на стенах, дюжину кроватей, серое постельное белье, верблюжьи одеяла и вечный зеленоватый сумрак, потому что по ту сторону, забранного решеткой окна плотно стояли кусты, а из четырех матовых шаров под потолком светился лишь один. Тамошние наставницы практиковали бесхитростную, как мычание и чрезвычайно успешную методу. Девиц, которые изо дня в день теряли остатки разума, принуждали поверить в реальность окружающего мира. Для этой благой цели в Заведении использовали изнуряющий физический труд на свежем воздухе и весьма болезненные телесные наказания. Мир только что казавшийся иллюзией, становится очень даже реальным, когда тебя стегают прутом, а ты вертишься на козлах, рыдая от унижения и боли. Покуда Софию Павловну секли, распавшийся на куски мир отстраивался заново, и когда наставницы, отвязывали барышню от козел, действительность, как ни в чем не бывало, обступала её со всех сторон, склеенная из кусочков и покрытая свежей штукатуркой.
Стоит сказать, что от регулярного битья розгами была несомненная польза. И месяца не прошло, как София Павловна заметно поумнела. Она стала острожной и хитрой, и, в конце концов, убедила наставниц, что выбросила всю блажь из головы. А еще София Павловна узнала, что она ни одна такая на белом свете. Эти рехнувшиеся девицы, угодившие в Заведение тем далеким летом, стали её лучшими подругами. Каждая пережила приступ мерцающей эпилепсии, и теперь никто из них ни желал примириться с жизнью в этом смехотворном и нелепом мире.
– Пожалуй, довольно, – говорит не очень уверенно Евдокия Павловна.
– Как вам угодно, – кивает экономка и утирает платочком испарину со лба.
Госпожа Брошель-Вышеславцева отпускает запястья младшей сестры и поднимается с дивана. София Павловна вытирает рукой выступившие на глазах слезы. Оглянувшись, она видит, что Евдокия Павловна и экономка стоят возле дивана и разглядывают её исполосованную тростью задницу.
– Мне на службу к десяти, а я страсть как не люблю опаздывать, – замечает, наконец, Евдокия Павловна. – Не держи на меня зла, Софи. Это для твоего же блага…
В эту минуту по стеклянной трубе, проходящей под потолком гостиной, пролетает почтовая капсула. С хлопком открывается клапан, звякает колокольчик, и капсула по наклонному желобу съезжает в корзину для входящей корреспонденции.
Экономка кладет трость на полочку, подходит к столику и, взяв из корзины капсулу, сворачивает крышку.
– Здесь штемпель судебной палаты, – говорит экономка, передавая Евдокии Павловне плотный серый конверт.
Госпожа Брошель-Вышеславцева рвет по краю конверт и вытряхивает сложенный несколько раз лист писчей бумаги. Развернув письмо, она торопливо читает. Тонкие брови Евдокии Павловны удивленно поднимаются вверх. Она читает письмо еще раз, а потом бросает на столешницу.
– Ну, Татьяна Измаиловна, твои молитвы услышали, – смеется госпожа Брошель-Вышеславцева. – Это извещение. Оказывается, мы давеча выиграли в лотерею муниципального раба.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Впервые увидев Софию Павловну, Гелий испытал странное чувство – ни смятение, ни страх, а что-то схожее, но совсем другое. Его сердце пропускает удар, а потом принимается биться часто-часто. У стоявшей подле окна барышни, странно блестят глаза, и Гелию подумалось, что она давеча плакала. Губы Софии Павловны плотно сжаты, словно она злиться или обиделась на что-то. Гелию кажется, что он прежде был знаком с младшей из сестер Брошель-Вышеславцевой и вот-вот её вспомнит. Внезапно ему становится дурно. У Гелия кружится голова, будто он заглянул в бездонный колодец…
– Не дури, – говорит Татьяна Измаиловна и дергает за поводок, и Гелию приходится сделать пару торопливых шажков, чтобы не повалиться на пол.
София Павловна задумчиво разглядывает самца. Тот одет
в порванный и грязный фабричный комбинезон. На его запястьях и щиколотках – кандальные браслеты. На шее затянут кожаный поводок. Самец молоденький, еще совсем мальчишка. Он среднего роста, худощав и неплохо сложен. У него большие испуганные глаза и русые волосы, которые не мешало бы подстричь.
– Как тебя звать? – спрашивает экономка.
– Гелий… Гелий Чижов.
– Что еще за имя такое… Ты учился? Каким ремеслом ты владеешь?
– Я работал на механическом заводе, – отвечает Гелий, но Татьяна Измаиловна его не слушает.
– Гелий Чижов… – повторяет задумчиво экономка. – Вспомнила! Я читала об этом в давешней газете. Братья Чижовы забрались на верфь, где прежде собирали виманы. Старшего, как зачинщика отправили на Ферму…
– Ах, увольте меня от подробностей, – говорит София Павловна, и принимается массировать кончиками пальцев виски.
Она берет со стола стакан с морсом и пьет глоток за глотком, пока не выпивает до дна.
– А вы слышали новость? – спрашивает экономка. – Наша докторша все же надумала жеребиться.
– Она же терпеть не может детей, – удивляется София Павловна. – И что же?
– Машенька жуть, как не хочет лететь на Ферму. Ну, вы знаете, её так укачивает в вимане, что она потом весь день ходит больная. Да и семя на Ферме, прямо скажем, не дешевое… Маша хотела найти подходящего раба у знакомых. Она сама его выдоит. Так если, вы с сестрой позволите, а пошлю письмо.
– Спросите лучше Досю. А мне нет до этого дела, – отвечает немного раздраженно барышня.
Она ставит на столешницу пустой стакан и выходит из гостиной.
– София Павловна, а запеканка?
– У меня аппетит пропал.
– Взбалмошная девка, – тихо бормочет экономка и одергивает Гелия. – Не сутулься!
Татьяна Измаиловна подходит к громоздкому буфету и выдвигает ящик. Из ящика экономка достает пару полотняных перчаток и натягивает на руки. Она останавливается подле Гелия и откидывает челку, упавшую ему на глаза.
– Машенька хотела, чтобы раб был молоденький и смазливый, – ворчит Татьяна Измаиловна, разглядывая Гелия. – А по мне все вы страшные, как обезьяны… Выходит, ты не бывал прежде в услужении, и толком не знаешь, как вести себя в приличном доме. Что же, придется мне всему тебя учить…
