Кто бы их заставил замолчать. Литературные эссе и заметки
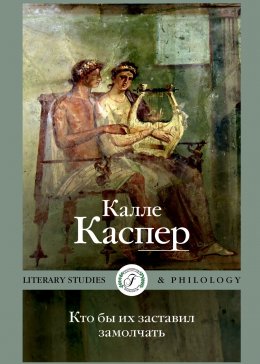
© Калле Каспер, текст, 2023
© Николай Шарубин, фото автора, 2023
© Александр Кудрявцев, дизайн обложки, 2020
© ООО «Флобериум», 2023
© Александр Кудрявцев, обложка, 2023
Заметки о Вильяме нашем, Шекспире
Недавно я встретил в интернете такие строки: «75-летним стариком, желая еще раз проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира от „Лира“, „Гамлета“, „Отелло“ до хроник Генрихов, „Троила и Крессиды“, „Бури“ и „Цимбелина“ и с еще большей силой испытал то же чувство, но уже не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та непререкаемая слава великого, гениального писателя, которой пользуется Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подражать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и этическое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство, есть великое зло, как и всякая неправда».
До 75-летнего возраста я еще не добрался, но Шекспира, или, вернее, того автора, кого мы знаем под этим именем, перечитываю регулярно, примерно каждые пять-шесть лет, ибо получаю от этого удовольствие. Он хорошо пишет, не то что его выше цитированный критик, чьим творчеством я бы, в свою очередь, не советовал читателю «извращать свое эстетическое понимание». Сейчас получился перерыв более долгий, на что есть причины, но о них я не буду.
И вот, открыл первый том того жалкого дешевого издания в красном переплете, которое мы с Гоар притащили из Москвы, с книжной ярмарки, по-моему, еще из Лужников, и прочел для начала «Ричарда Третьего». Сейчас эту пьесу поставил наш Русский театр, но смотреть я не пойду, слишком много времени занимает, не могу себе позволить.
Ричард III
«Ричард III» – раннее произведение Шекспира, но в нем уже есть все то главное, что характеризует его творчество. В сущности, хоть эту пьесу и называют «хроникой», она больше смахивает на трагедию. Как архетип, «Ричард» предшествует «Гамлету» и «Макбету», в которых сюжет развивается аналогичным образом: некто путем убийства захватывает власть, а в конце лишается ее и погибает. По форме – да, есть признаки хроники (уж очень добросовестно автор излагает перипетии исторических событий), но одновременно видна и художественность, несвойственная некоторым другим хроникам Шекспира: краткость и умение создавать характер путем четкой самооценки героя его же устами. О том, что Ричард – скотина, мы узнаем не из его поступков (они только доказывают это) и не из высказываний других персонажей, а от него самого: «Уродлив, исковеркан и до срока я послан в мир живой… Раз не дано любовными речами мне занимать болтливый пышный век, решился стать я подлецом…»[1]Это – главное, и это дает актеру возможность понять и выразить героя, что и делает Шекспира таким привлекательным для сцены.
Хорошо прослеживается и своеобразие «шекспировского стиха» – белый стих, в контрапунктных местах (в конце сцены) переходящий на рифму. Интересен, кроме самого Ричарда, Бекингем – соратник, во всем ему поддакивающий, притом умело, с изящным лицемерием. Одно только непонятно: почему Ричард отказал ему в поместье, настроив тем Бекингема против себя? Только из желания показать свою власть? Выбросить «мавра», свое дело сделавшего? Но тогда следовало его убить. Теперь же Ричард в результате собственного необъяснимого самодурства (ведь он умен!) приобретает опасного врага.
Основной недостаток «Ричарда» не литературного рода. Дело в том, что понимание истории автором тут еще довольно примитивное и, не побоимся этого слова, тенденциозное. В действительности Ричард был не только храбрым воином, но и не самым плохим правителем. Что касается того, что он велел убивать своих конкурентов – в то время так себя вели все претенденты на престол. Напомню, шла война между Йорками и Ланкастерами, а на войне позволено если не все, то многое. Другими словами, делать из Ричарда козла отпущения для всей эпохи несправедливо. Известно, что «Шекспир» (кавычки намеренные) руководствовался книгой, толкующей события именно таким образом, – и либо его это устраивало, поскольку его предки были заодно с Ланкастерами, либо он еще не имел собственного мнения на сей счет.
Убийство детей Эдуарда IV, которое приписывается Ричарду, не доказано.
Из-за концентрированности событий убийства следуют одно за другим – но почти так оно и было. Англия той поры – дикая страна, как какой-то СССР первых десятилетий, и хорошо, что Шекспир ничего не приукрашивает – благодаря этому он создает достоверную картину эпохи. Остается только удивляться той нейтральности, даже отчуждённости, с какой он показывает варварство своих соотечественников – словно он бывал в других странах и имеет материал для сравнения. Но стратфордский ростовщик ведь не покидал свой остров…
Юлий Цезарь
«Юлий Цезарь» – одна из лучших пьес Шекспира, вещь тонкая, умная. Почему ее так редко ставят, не знаю. Может, потому, что Античность вышла из моды, что ее почти не изучают в школе, что имена Цезарь, Брут, Кассий, Антоний многим уже ничего не говорят, а может, как раз из-за упомянутой тонкости. «Юлий Цезарь» – не такая прямолинейная пьеса, как «Ричард III», тут надо и режиссеру, и актеру, и зрителю подумать, кто есть кто и что есть что. К тому же в ней отсутствует любовная линия, если не считать таковой увещевания Кальпурнии, не советующей мужу ходить в сенат, или суматошные порывы нежности Порции, жены Брута. «Юлий Цезарь» – не только о том, что все значительное, великое подвержено зависти и уничтожается посредственностями, но и о том, насколько глупым может быть благородство (да и благородство ли это вообще, раз оно такое глупое?). Если со всеми остальными заговорщиками все ясно – это мелкие людишки, завидующие храбрости и уму Цезаря, то с Брутом дело сложнее.
Это человек, который пошел на преступление (а что ж это еще, если не преступление – убийство, совершенное к тому же «по намерениям», то есть вопреки презумпции невиновности – ведь еще никто не знает, принял бы Цезарь в итоге диадему или нет, и даже если бы и принял, что в этом было бы преступного?), – так вот, Брут пошел на преступление не из-за личной неприязни, не из-за личной выгоды, а чтобы защитить республику, ее идеалы. Ну и дурак! Республики все равно не стало – скорее всего, это был объективный процесс, а убийством Цезаря он только вызвал новый всплеск смуты; хорошо еще, что нашелся Октавиан, весьма мудро для его юного возраста справившийся с задачей – гарантировать империи мир и поднять на должный уровень строительное и прочее искусство. Мораль: прежде чем начинать решительные действия, обдумай возможные последствия. Сравни, лучше ли тот человек, с которым ты идешь убивать, того, кого вы убивать идете. Слепец, не понявший сущности ни Кассия, ни других завистников, – вот кем предстает Брут в пьесе. Словом, благородный болван.
Осталось ответить на вопрос: откуда Шекспир взял реплику: «И ты, Брут!», благодаря ему ставшую крылатой? У Плутарха, у которого Шекспир историю о Цезаре «списал», ее нет (Плутарх приводит две другие фразы. Первую – на латыни: «Злодей Каска, что ты делаешь?» И вторую – на греческом, Кассию:
«Брат, помоги!»). Мог ли Шекспир знать о труде Диона Кассия, где эта реплика имеется – правда, в несколько измененном виде: «И ты, дитя моё!»? (Или: «И ты, мой сын!»)[2]Наверное, мог, но при условии, что он учился там, где преподавали историю Рима, что не укладывается в его официальную биографию. Теоретически, ему могли рассказать те, кто в таком заведении, за рубежом, учился, – при случае, мимоходом, в разговоре за кулисами etc. – но разумнее предположить, что официальная биография не соответствует действительности.
«Юлий Цезарь» – пьеса о величии, о глупости и о зависти. Характерно, что герой этой трагедии умирает уже в начале третьего акта.
Макбет
Перечитал «Макбета». Поскольку недавно прослушал оперу, было интересно сравнить. Конечно, я неправильно помнил, при желании можно найти у леди мотив сожаления довольно скоро после убийства Дункана – дескать, ничего проще не стало. Но в целом ее образ, с точки зрения художественности, сложный – не потому, что его трудно интерпретировать, а наоборот – уж очень он прямолинеен: коварная преступница, и больше ничего. Верди называл ее «исчадием ада», требовал, чтобы певица изображала ее именно такой – злой донельзя, но это неинтересно. Как режиссер я бы представил ее красивой и честолюбивой, даже очаровательной, но без моральных ограничений – ну, не ведает человек, что творит, лишь постепенно начинает понимать.
О том, что исторический Макбет отличается от «шекспировского», я уже писал в заметках об опере, вернее, процитировал Гоар[3], которая эту тему изложила подробно[4]. При чтении пьесы бросилось в глаза, что в конце, когда собрали армию против Макбета, разворачивается, как бы это сказать, империалистическая пропаганда, что ли. Ведь армия – в основном из англичан, а Макбет вроде как король шотландцев. Конечно, англичане не сами пришли, их пригласили те шотландцы, что были недовольны Макбетом, но – тем хуже. Вот так у малых народов всегда: когда им что-то не нравится, сразу же стремятся пожаловаться большому. А потом удивляются, почему у них нет независимости. Главный из этих «жалобщиков», Малкольм, у Шекспира, кстати, не получился, его диалог с Макдуффом в сцене проверки на лояльность искусственен. Верди поступил правильно, сделав здесь купюру.
Замечательны ведьмы, особенно благодаря переводу Пастернака. Все так звучно, эффектно: «Волчий зуб кидай в горшок и драконий гребешок. Брось в него акулы хрящ, хворост заповедных чащ, запасенный в холода, печень нехристя-жида, турка нос, татарский лоб, матерью в грязи трущоб при рожденье, миг спустя, удушенное дитя, погребенное во рву, чтобы обмануть молву». Интересно, как сейчас в Англии, когда ставят «Макбета», меняют этот «неполиткорректный» текст?
И наконец: в чем главное преступление Макбета (сценического), как вы думаете? По мне, так в том, что он нарушил законы гостеприимства. Где угодно убил бы Дункана – не такая беда, но у себя дома – это, извините, скотство. Не зря леди, когда злодеяние обнаруживается, первым делом кричит: «Как! В нашем доме!» То есть даже она, дура, понимает, что это слабый пункт в их заговоре. Так что правильно Макбет сомневается и колеблется перед тем, как отправиться с ножом в покои короля; и то, что в итоге он принимает решение против этого морального императива, – конечно, ошибка. Та, которая хуже преступления.
Что с ним происходит потом – после того, как все завершено, – через несколько веков вторично опишет один русский писатель: преступление – оно и есть наказание: наказание самому преступнику.
Кориолан
Был такой эстонский режиссер Каарел Ирд, многолетний художественный руководитель театра «Ванемуйне», по мировоззрению – коммунист, настоящий, идейный, еще со времен Первой Республики, что, конечно, и помогло ему занять при ЭССР эту должность. Я знаю о нем две истории: первую, как он среди прочих эстонских коммунистов был призван помогать НКВД осуществлять депортацию, кажется, 1949 года и, вернувшись с этого мероприятия, якобы сказал: «Ходили выметать навоз»; и вторую – про его «шекспировские» предпочтения. Он, как утверждают, говорил (через много лет), что из всего Шекспира ему нравится только одна пьеса: «Кориолан». Пожалуй, понятно, почему – ведь «Кориолан» рассказывает о сильном человеке, который, не оцененный дома, в Риме, и даже изгнанный оттуда, присоединился к врагам (вольскам) и во главе их пошел войной на свой родной город. Скорее всего, Ирд чувствовал себя немного Кориоланом, он ведь тоже присоединился к чужой власти. И не только он, и не только тогда, проблема «Кориолана» – это проблема многих людей в самых разных странах, в самые разные времена. Имеет ли человек, отвергнутый обществом, право пойти против своей страны? Где тот предел, когда он еще борется с несправедливостью, а когда становится предателем? Из ближайшей истории можно вспомнить хотя бы Власова и Солженицына, один оружием, другой пером восставших против страны, которая их породила, против СССР. Не правда ли, в обоих есть немного от Кориолана?
«Кориолан», кстати, – злободневная пьеса, в ней правитель при демократии не имеет права говорить народу правду, а должен только лгать, лицемерить, лебезить перед ним. Кориолана хотят сделать консулом, но для этого нужно одобрение народа, он должен стоять на Форуме почти обнаженным, демонстрировать зевакам свои раны, рассказывать, какой он хороший, и просить народ, чтобы тот за него голосовал. Он, гордец, с трудом выносит это унижение, и когда друг просит его: «Поговори ты с ними, сделай милость, приветливее!», ворчит про себя: «Ты велел бы им умыться, зубы почистить»[5].
Ставить «Кориолана» трудно, и порождает эти трудности сама драматургия. Кориолан – выпуклый характер, но он один такой. В «Юлии Цезаре» есть Брут, есть Антоний, они – личности, даже Кассий – и тот личность, а в «Кориолане» настоящего противника герою нет, все вертится вокруг него одного, его судьбы. Очень трудно передать борьбу личности с толпой, с посредственностями, у Шекспира это тоже не совсем получилось.
Сюжет снова взят у Плутарха, вплоть до того, что настоящего Кориолана также умоляла прекратить войну против Рима его мать, единственная, которую он, в конце концов, послушал – и погиб.
Что же касается вышеупомянутого Ирда, то я видел несколько его постановок, слабых, в манере социалистического реализма, но как художественный руководитель он в 60–70-е годы совершил немалый подвиг, дав возможность ставить на сцене своего театра спектакли двум молодым талантливым режиссерам – Яану Тоомингу и Эвальду Хермакула. Тут дело не только в том, что редко кто из главных режиссеров хочет рядом с собой видеть другого, более талантливого, зависть – штука страшная, – но и в том, что работы этих ребят очень не нравились властям и постановкам вечно грозило закрытие, а Ирд защищал своих подопечных, и благодаря ему родился новый эстонский театр, интересный, самобытный, ничего общего с соцреализмом не имеющий.
Видите, как все в мире относительно?!
Комедия ошибок
Перечитал с большим удовольствием «Комедию ошибок». Вот произведение, которое показывает, что в искусстве свободно можно пользоваться элементом условности! Ведь нет ничего более неправдоподобного, чем сюжет этой комедии: на корабле находятся две пары детей-близнецов, одна – из богатой семьи, другая – из слуг, корабль терпит крушение, все четверо выжили, но близнецы теряют друг друга из виду, и через много лет один близнец-богач вместе с близнецом-слугой приезжает в город, где живут два других близнеца, и начинается полная неразбериха. Очень смешно, и было бы еще смешнее, если бы этот текст можно было перевести без потерь, но тут нечто подобное «Алисе»[6]или «Пенелопе»[7]– много игры слов, и шутки зачастую теряются, переводчик объясняет их в примечаниях, но это, разумеется, не то. Однако, как и в «Пенелопе» (но, пожалуй, не так, как в «Алисе»), шутки чередуются с вполне серьезными монологами, в которых Шекспир излагает свои взгляды на сосуществование мужчин и женщин – или нет, не так: он излагает взгляды мужчин и женщин на свое сосуществование, и реальное, и идеальное. Особенно женщин – это «женская» пьеса, характеры мужчин довольно схематичны, а вот две женщины, две сестры – одна замужняя, которая из-за перипетий сюжета считает себя покинутой, и другая, еще не нашедшая избранника, – охотно делятся своими мыслями, например, так (это говорит незамужняя):
- Нехорошо, когда мы слишком вольны, —
- Опасно то; взгляни на целый свет:
- В земле, в воде и в небе воли нет,
- Ведь самки рыб, крылатых птиц, зверей —
- Все в подчиненье у самцов-мужей[8].
Пьеса короткая, стремительная, в ней много рифмованных строк, читается легко, поднимает настроение, а это большое искусство – найти что-то светлое, радостное, чистое в нашей жизни, где столько всякой грязи.
Укрощение строптивой
А вот «Укрощение строптивой» – пьеса малоудачная. Почему? Потому что она «тезисная», в ней навязчиво предлагается некая формула семейного счастья – та, которую мы знаем под названием «домострой». В «Комедии ошибок» тоже наблюдались, модно выражаясь, антифеминистские мотивы, но там они шли естественно, от имени героев или, вернее, героинь, которые размышляли на тему «женщина и супружество», зато в «Укрощении…» необходимость безоговорочно подчиняться мужчине выведена на первый план и подается в назидательной форме, что и делает вещь, как я сказал, «тезисной». Не подходит нравоучительство для искусства, не подходит! Анатолий Васильев (режиссер) говорил, что сверхзадача не должна быть целью, к которой актер словно лезет вверх по канату, что она скорее толчок в спину, после которого персонаж (и актер) несется вперед по пьесе. В «Укрощении строптивой», увы, именно цель – доказать зрителю, что жена должна слушаться мужа. Ну да, может, тема и злободневная в наши дни, когда женский пол «вышел из-под контроля», но даже мне, в некотором смысле «армянскому мужу», методы, которыми Петруччо пользуется для «укрощения» жены, кажутся варварскими – он, в частности, морит ее голодом. Жалко становится бедную Катарину! И таким способом можно добиться любви? Не верю – разве только страха. Также не верю, что характер человека можно изменить силой. Да, сломать человека, конечно, можно – и что, это идеал?
Что же касается современного состояния этих дел, то лучше того, что написала в «Пенелопе» Гоар, никто, мне кажется, не высказался. Цитирую:
«В сущности, господа, – обратилась она к воображаемым господам во фраках и цилиндрах, – феминисток следовало бы называть маскулинистками, ведь истинная их цель – уничтожение в женщине ее женского начала, превращение ее в некое мужеподобное существо. Да-да, по сути дела, они настоящие женоненавистницы, в противном случае они добивались бы признания женственности самостоятельной ценностью вместо того, чтобы отрицать ее»[9].
Жаль, что в Шекспире ментор взял верх над художником, потому что идея комедии очаровательна – такая «пьеса в пьесе», некоему пьянице внушают, что он лорд, и, чтобы его позабавить, показывают спектакль. Кстати, потом на такой сюжет, явно заимствованный у Шекспира, написал комедию норвежский драматург XVIII века Людвиг Хольберг, называется пьеса «Йеппе из Бергет», она переведена на эстонский, я ее видел в молодости в постановке того самого Эвальда Хермакула, которому проложил дорогу Каарел Ирд; было весьма смешно.
Но что в «Укрощении…» интересно, так это место действия той второй пьесы, которую разыгрывают для пьяницы. Это Италия, и не просто Италия, а ее четко различаемая часть – Ломбардия. Вот как начинается «итальянская» часть пьесы:
«Чтоб удовлетворить свое желанье увидеть Падую, наук рассадник, вот я достиг Ломбардии цветущей, Италии утешнейшего сада…»[10]
Готов съесть свою шляпу – это автобиографический текст.
Поражает, как хорошо Шекспир, который, согласно его биографии, никогда не был в Италии, знает те края. Если в «Комедии ошибок» место действия – Эфес – обозначено чисто символически, ясно, что автор там никогда не бывал, ни одного намека на реальный Эфес, то в «Укрощении…» все весьма правдоподобно: невеста живет в Падуе, жених родом из Вероны, другой проделал долгий путь, приехав из Пизы, – так он и вправду долгий, этот путь, по тем временам. Есть и упоминание о Венеции, которая якобы рядом – и ведь действительно рядом. Немало реплик на итальянском, не только обычное баста, которое можно было услышать и в Лондоне, в каком-нибудь итальянском ресторанчике, ежели таковые в эпоху Шекспира существовали, но и вполне связные предложения:
«Alla nostra casa benvenuto, molto honorato mio signor Petrucio». Выражение «mi perdonate» дано грамматически правильно, а ведь это не так просто, итальянские местоимения ведут себя весьма коварно, иногда сливаясь с глагольным корнем и составляя единое слово, а иногда перемещаясь в позицию перед ним, как в данном случае. Создается устойчивое впечатление, что автор неплохо знает Италию и итальянцев. Наверное, так оно и есть. По моей гипотезе, он учился в Падуе, где в те времена находился один из главных итальянских университетов. Но тогда он не Шекспир[11].
Бесплодные усилия любви
«Бесплодные усилия любви» – комедия очаровательная, изумительная, прекрасная – думаю, одна из лучших, когда-либо созданных. Комедия – трудный жанр, хороших трагедий и драм заметно больше, не только в драматическом театре, но и в опере и в кино.
Комедия требует от автора, мне кажется, кроме таланта, ещё и вкуса. Не очень трудно придумать пошлый сюжет и напичкать его скабрезными шутками – ну, и торт, разумеется, не забыть, тортом в лицо, да чтоб крема побольше, чтоб плебс хохотал; однако написать комедию легкую, воздушную, такую, чтобы она возвышала человека, а не будила в нем низкие импульсы, неимоверно трудно. Главный комедиограф, Мольер – все-таки больше сатирик, он создает характеры, ситуации, это все хорошо, умно, смешно, но, на мой взгляд, «Бесплодные усилия любви» лучше, тоньше, поэтичнее его пьес. Мне эта комедия своей воздушностью напоминает оперу Россини «Путешествие в Реймс», шедевр великого итальянца. В отличие от «Укрощения строптивой», Шекспир здесь ничего не декларирует, наоборот, он изящно, незлобиво посмеивается над стараниями изнасиловать человеческую природу. Жил-был король, который вбил себе в голову, что надо учиться, учиться, учиться… А чтобы учебе ничто не мешало, он дал на этот период обет – отказаться от отношений с женщинами. И не только сам дал, но и потребовал того же от своих приятелей, молодых вельмож. Уже смешно. Понятно, что из этого ничего не может выйти, и вот появляется принцесса с придворными дамами, и мужчины немедленно влюбляются. А дамочки остроумные, начинают над мужчинами издеваться, тоже не очень зло, потому что тоже влюбляются. Но дело даже не в сюжете, а в том, как он преподносится, в остроумных диалогах, часто основанных на игре слов, их множество, все вертится вокруг языка, что снова напоминает и «Алису в Зазеркалье», и «Пенелопу» (правильнее, конечно, сказать наоборот – те напоминают «Бесплодные усилия»).
А еще у «Бесплодных усилий» – удивительный финал. Все как будто идет к тому, что четыре парочки должны пожениться, как вдруг принцесса получает из дома известие о смерти отца. И мгновенно пьесу заполняет какая-то особая, нежная грусть о всем уходящем. Свадьбы, естественно, отменяются, женихам дается год, чтобы привести себя в «соответствие» требованиям невест. Тогда будет видно.
Перевод, который я читал, – как и в «Укрощении строптивой», М. Кузмина, не знаю, есть ли другие, но если есть, то вряд ли лучше, он все-таки хороший поэт. Но и при таком отличном переводе немало теряется, снова пестрят примечания или же нужно угадывать, что там могло быть по-английски. Есть произведения сугубо национальные, не в том смысле, что они понятны по смыслу определенной нации, а в том, что их прелесть в языке; в первую очередь это, конечно, поэзия, стихи ведь очень трудно перевести, нужно создать, по сути, новое стихотворение, – вот шекспировские комедии такие же или еще похлеще. Но «Бесплодные усилия любви» настолько хороши, что читаются даже с осознанием потерь.
Вот пример из перевода М.Кузмина:
Мария. Прямо бой каравелл!
Бойе. Почему не коров? Если луг – ваши губы, пастись я готов.
Мария. Вся острота лишь в том: вы – корова, я – луг?
Бойе. Слишком лакомое пастбище! (Хочет ее поцеловать.)
Мария. Нет, милый друг, тут, поверьте, не всякие бродят стада.
Бойе. А владельцами кто?
Мария. Я сама и судьба.
Действие на этот раз происходит в Наварре, но кроме краткой исторической справки (об отношениях Наварры и Франции), иных описаний места нет. Зато в тексте немало латинских и итальянских (!) словечек.
Еще меня поражает та естественность, с которой Шекспир переходит в диалоге от одного персонажа к другому. Например, после поэтического монолога одного другой вдруг заявляет: «Вы не соблюдаете ударений, так что пропадает размер. Позвольте взглянуть на канцонетту…» Такое впечатление, что авторов тоже два.
Иностранных выражений, аллюзий и прочей литературности в пьесе столько, что волей-неволей приходишь к выводу: автор родился в доме с прекрасной библиотекой. Но в таком случае он вряд ли Шекспир.
Двенадцатая ночь
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» – пьеса странная, смесь лирической комедии и капустника. Впрочем, у Шекспира часто так – возвышенное стоит рядом с низким, а иногда даже сочетается с ним.
Обычно, если мне не изменяет память, герои возвышенные и герои низменные различены социальными слоями, но в «Двенадцатой ночи» это не так, тут и некоторые сэры выглядят последними болванами.
Стержнем сюжета в очередной раз служит травести и связанные с этим приключения и недоразумения.
Девушка переодевается в пажа и в этом качестве влюбляется в своего господина, а тот влюблен в другую, а та, другая, влюбляется в пажа, поскольку считает его юношей… Но как раз в этой среде высокой любви происходит мало интересного, зато в другой компании – пошленьких лордов, все смешно и остроумно, а текст иногда напоминает театр абсурда XX века, какого-нибудь там Беккета или Ионеско:
Сэр Тоби. А в чем ты, рыцарь, особенно блещешь? В гальярде?
Сэр Эндрю. Да что, козлом подскочить умею.
Сэр Тоби. Я предпочитаю козлом закусить.
Сэр Эндрю. Я думаю, что в прыжке назад я, во всяком случае, силен, как никто в Иллирии.
(Перевод М. Лозинского).
Так что действие происходит якобы в Иллирии, густо населенной английскими лордами.
Как всегда у Шекспира, не обходится без утонченных афоризмов. Вот например:
Герцог. Ведь женщины, как розы – пышный цвет
Едва расцвел – его уже и нет.
Увы…
Но любопытно то, что и эта пьеса, несмотря на странное место действия, имеет крепкие итальянские корни – англичане считают, что она выросла из очередной новеллы Маттео Банделло, у которого Шекспир одолжил не один сюжет, а итальянцы (думается, более компетентные в этом вопросе) – из пьесы анонимного автора (есть версия, что это Лодовико Кастельветро, 1505–1571) «Обманутые», впервые увидевшей сцену в 1531 году в Сиене, а затем в 1537-м в Венеции.
Все хорошо, что хорошо кончается
Прекрасная пьеса. Почему-то и до, и после Шекспира произведения для театра старались точно разделять на трагедии и комедии, однако «наш Вильям» показал, что это косное понимание жанра, в котором смех и слезы вполне сочетаются. Я очень люблю эти его, если воспользоваться модным словечком, «гибридные» пьесы, иногда очень даже серьезные, но, как правило, заканчивающиеся хеппи-эндом. Кое-кто небось сморщил нос – фи, хеппи-энд, там же нет катарсиса! А зачем вам всегда катарсис, глубокие переживания, когда выходишь из театра еле живой, в полной уверенности, что «мир мерзок и люди подлецы», как сказал поэт (правда, не Шекспир)? Не надо каждый раз напиваться горько; уверяю вас, пьесы Шекспира со счастливым концом – как шампанское, что приятно ударяет в голову, но не вызывает мрачного опьянения (кстати, и в русской литературе есть автор, чьи романы сравнивают с шампанским). Итальянцы, люди с тонкой душой, тоже понимали это, у Винченцо Беллини есть несколько чрезвычайно грустных почти на всём протяжении действия опер, которые, однако, заканчиваются в сюжетном смысле благополучно. Слушать их можно часто – а вот трагические оперы слушать опять и опять не очень хочется, их главный эффект, страшный конец, становясь привычным, уже не так захватывает.
Но вернемся к «нашему Вильяму». «Все хорошо…» – еще одна «итальянская» пьеса Шекспира, не только потому, что часть действия происходит во Флоренции – сюжет снова итальянский, на этот раз из-под пера самого мэтра Боккаччо; как раз недавно я перечитал «Декамерон» и сразу узнал схожие перипетии. История о том, как девушке удается лекарствами ее покойного отца вылечить короля Франции и благодаря этому получить в мужья дворянина, сама не дотянула бы до драмы, но последующий «перевертыш» (избранник героини отвергает ее, по его словам, из-за низкого происхождения, а на самом деле, конечно, потому, что какому же мужчине понравится, если с ним обращаются как с невестой, то есть сватают) дает прекрасную возможность развить сюжет и создать интереснейший характер девушки, которая вступает в борьбу за свою любовь, за свое счастье – и побеждает. Сильная женщина в жизни, да и на сцене – обычно отрицательный характер, в тех или иных проявлениях, в той или иной степени она неизбежно мужеподобна, но тут мы видим девушку вполне женственную – просто она отважна. Здорово, Вильям ты наш!
Я специально встал из-за компьютера и пошел в другую комнату, где на полке стоит полное собрание сочинений Шекспира на английском, которое я, по причине неполного знания языка, не читал, а только листал, – пошел, чтобы проверить, действительно ли длинная сцена между Еленой и Королем написана вся в рифмах, – да! Это редкость для Шекспира, который обычно рифмует лишь две последние строки монолога, сцены и т. п. И знаете – прекрасно читается! Отлична также начальная сцена с Еленой и Паролем, в которой тот выдвигает убедительную аргументацию против сохранения невинности – создается впечатление умнейшего человека, но оно рассеивается позже, когда Пароль предстает перед нами не только отъявленным мерзавцем, но и болваном. Что-то тут у Вильяма нашего не сработало – как не сработала и концовка, не в том смысле, что она счастливая, а в том, что наступает слишком быстро и легко: не успевает Елена войти и предъявить свои права на «должность» супруги, как все на это соглашаются и опускается занавес – а ведь тут можно было создать яркую драматичную сцену. Ну да черт с этим, пьеса все равно замечательная!
Венецианский купец
«Венецианский купец» – пьеса в нескольких аспектах примечательная. Еще лет пять назад ее даже ставили; теперь, на фоне нарастания паранойи политкорректности, это уже под вопросом – за одно слово «жид» могут предать анафеме. Об этой пьесе даже шли споры: а Шейлок кто – персонаж отрицательный или положительный? (Задать такой вопрос может, конечно, только параноик.) Но суть в другом. Как вы помните, сюжет «Купца» основывается на том, что Шейлок дает клиенту деньги взаймы, а когда тот не может расплатиться вовремя, требует в качестве неустойки согласованный при договоре фунт мяса из его плоти. Этим он как бы мстит за то, что все его презирают. А презирают не за то, что он «жид», кстати, а за то, что берет процент с каждого займа. Вот где главный стержень пьесы! Во времена Шекспира христианам было запрещено получать «интерес» с ссуды, таким правом обладали лишь евреи – чем охотно и пользовались, богатея. Это любопытнейший исторический факт, который часто забывают, по причинам, наверное, моральным – ведь получается, что евреи победили, и весь мир сейчас, разыгрывая драму капитализма, пляшет под их дудку! Не знаю, существовала ли постановка, в которой режиссер пытался показать двуличие христианской морали, ее ханжество – ведь наверняка другие купцы завидовали евреям и с удовольствием при возможности мстили им, как и в этом случае, но такое толкование напрашивается.
Правда, для обогащения у христиан были другие возможности, о которых знает каждый, кто знаком с историей Венеции, – торговля ведь давала солидную прибыль, в том числе и работорговля. Шекспир на это, кстати, указывает, есть в пьесе слова Шейлока, звучащие как прямое обвинение: «У вас немало купленных рабов; Их, как своих ослов, мулов и псов, Вы гоните на рабский труд презренный, Раз вы купили их»[12]. И тут мы приходим ко второму примечательному моменту этой пьесы – лучше, чем все другие, он доказывает пребывание автора в Италии. Венеция показана Шекспиром так, что не возникает вопроса о компетентности. Все у Шекспира как надо – и гондолы, и дож, и законы, отличающиеся от английских: если последние основываются на прецеденте, то итальянские вышли из римского права. (И в этом, кстати, трудность для дожа – наверняка случай с «фунтом мяса» первый.) Выход из сложного, если не сказать трагического, положения находит Порция, жена одного из персонажей, выступающая временно в мужском обличье как правовед; в ее интересном образе мне почудилась Катерина Корнаро, бывшая королева Кипра, которая, после того как венецианцы решили ввести там прямое правление, вернулась на родину и обосновалась, как и Порция, на материке, недалеко от Венеции, создав в своем имении нечто вроде куртуазного салона. Женские образы Шекспира вообще поражают своими исключительными умственными и волевыми свойствами: Порция, как и Елена, тоже борется за свою любовь, но проявляет при этом ум, не характерный для подавляющего большинства женщин. Были у «Шекспира» прекрасные, умные подруги! – только мы о них ничего не знаем, не вошли они, увы, в историю в качестве прототипов. Порция своим тонким пониманием не только жизни, но и права в итоге выталкивает пьесу на путь нравственного идеала, который для Шекспира немаловажен. Что же касается его поездки в Италию на учебу в университете Падуи, то, как мне кажется, в «Венецианском купце» он вывел в каком-то смысле и самого себя – в качестве одного из претендентов на руку Порции. Послушаем, что она говорит своей наперснице о «молодом английском бароне» Фоконбридже:
«Знаешь, ничего не могу ни о нем, ни ему сказать, потому что ни он меня не понимает, ни я его. Он не говорит ни по-латыни, ни по-французски, ни по-итальянски, а ты смело можешь дать на суде присягу, что я ни на грош не знаю по-английски. Он – воплощение приличного человека; но, увы, кто может разговаривать с немой фигурой? И как странно он одевается! Я думаю, он купил свой камзол в Италии, широчайшие штаны – во Франции, шляпу – в Германии, а манеры – во всех странах мира»[13].
Автор нередко изображает себя в «углу картины»; вот и этот рисунок кажется таким.
Кстати, первооснова пьесы вновь итальянская – новелла «Джаннетто» из книги «Баран» автора конца XIV века Джованни Фиорентино (Флорентийца), творившего при анжуйском дворе в Неаполе.
Как вам это понравится
«Как вам это понравится» – престранная пьеса. В сущности, это почти и не пьеса: сюжет написан «левой ногой», он элементарен, можно сказать, что его вовсе нет. Поссорился герцог с братом, тот выгнал его, герцог обосновался в лесу и ведет там жизнь в стиле Робин Гуда, правда, как будто не разбойничью, а просто отдаваясь пасторальной идиллии. Туда же отправляются два страшно рассорившихся брата, один скотина, другой несчастный страдалец, и две девицы, одна из них в мужской одежде, и вместе с шутом. Вот на этом переодевании и выстроены все последующие перипетии. Конец – чистейший deus ex machina: вдруг приходит известие, что брат герцога понял свою ошибку и возвращает имущество герцогу, а брат-скотина поступает так же великодушно с братом-страдальцем. Ну и семь, или сколько там, удачных бракосочетаний.
И как на этом сюжете можно состряпать пьесу, и как по этой пьесе ставить спектакль? Но дело-то в том, что за этой очевидной банальностью прячутся одновременно и печальные, и забавные любовные диалоги, и читать их – одно удовольствие. Как это все выглядит на сцене, представления не имею, не видел ни одного спектакля; кажется, изредка пьеса все же ставится, но мне она в театре не попадалась. Жаль!
Троил и Крессида
«Троил и Крессида» стоит в творчестве «Шекспира» особняком. Это не трагедия, и не комедия, и даже не «странная» или «проблемная» пьеса, как, например, «Конец – делу венец». Это – пародия. «Шекспир» со всей своей иронией, со всем сарказмом – а и того и другого у него хоть отбавляй – пародирует Гомера, да и вообще древнегреческую мифологию. (Наверное, подтолкнул его незадолго перед тем опубликованный первый английский перевод «Илиады».) И пародирует зло, камня на камне не оставляя от героизма действующих лиц эпоса, которые в изложении «Шекспира» если не идиоты, то подонки. Особенно в этом смысле выделяются ахейцы: тупой и выспренне-речистый Агамемнон, жалкий, потерявший чувство собственного достоинства Менелай, наглый и развратный Ахилл, умный, но коварный Улисс, женоподобный Патрокл, сенильный Нестор – та еще компашка. Троянцы не намного лучше, за исключением Гектора, которого автор показывает как человека действительно и храброго, и благородного – однако даже за его благородством можно обнаружить… ну если не глупость, то, по крайней мере, оторванность от жизни: Гектор готов вести себя благородно даже в ситуации, когда это и бессмысленно, и смертельно опасно. Убийство Гектора – главное событие пьесы, ее кульминация. Именно убийство, потому что совершается оно хоть и на поле боя, но в момент, когда Гектор уже снял доспехи, и нападает на него не сам Ахилл, а толпа его соратников-мирмидонцев, которым он дает соответствующий приказ. Подлость настолько невероятная, что мой маленький Тимо из «Буриданов» даже не понял, что это не Ахилл прикончил беззащитного Гектора, а другие.
Не менее язвительно «Шекспир» разделывается с женщинами, в первую очередь с так называемой героиней пьесы, с Крессидой. Ну потаскушка! Ее не приходится уговаривать лечь с Троилом, а меняет она своего суженого на грека так легко, что диву даешься. Самая роскошная сцена пьесы, наряду с убийством Гектора, та, в которой Крессида, которую обменяли на плененного троянца, прибывает в лагерь ахейцев: все герои, греки, собираются и по очереди целуют ее – современный постановщик вполне может решить эту развратную до предела сцену в порнографическом стиле гэнг-бэнга.
Добавляют перца образы «из низов»: Калхас, Пандар и особенно – умный, но насквозь прогнивший Терсит, сыплющий беспощадными характеристиками в адрес остальных «героев».
Замечательно, очень динамично написана сцена боя между ахейцами и троянцами, в которой каждому появляющемуся персонажу оставлены лишь две-три фразы – но все они меткие.
Мне кажется, эта пьеса ничуть не менее трагична, чем «Гамлет», хоть и погибает в ней лишь один герой – его смерть показывает мерзость нашего мира лучше, чем многочисленные трупы самой знаменитой пьесы «Шекспира». Вообще-то, так и должно быть: «Троил и Крессида» – более поздняя пьеса, автор созрел, его мизантропия стала очевидной, но в то же время он не растерял поэтического пыла. «Слова, одни бездушные слова»[14]звучат даже сильнее, чем гамлетовские «Слова, слова, слова…».
«Троила и Крессиду» ставят редко. Жаль. Но понять можно: ведь для того, чтоб оценить эту пьесу, надо сперва прочесть «Илиаду», – а сколько таких зрителей найдется в театральном зале?
Мера за меру
«Меру за меру» теоретически должны знать как минимум не только все английские, но и русские филологи – последние потому, что им пришлось прочесть довольно слабую поэму Пушкина «Анджело», в основе которой лежит именно сия пьеса, даже имя главного героя не изменено. Но пьеса тоже не блещет. Основная причина «творческой неудачи», мне кажется, в deus ex machina. И в конце драматургических произведений этот прием не очень смотрится – но представьте себе, что deus гуляет по сцене в течение всего спектакля! А ведь именно так и есть в «Мере за меру» – Герцог хоть и покидает временно свои владения (Вену), чтобы проверить, как в его отсутствие справляется граф Анджело (своеобразный «пробный камень», нередкий прием в драматургии, есть даже либретто Луиджи Романелли с таким названием, на которое Джоаккино Россини написал прекрасную оперу), но на самом деле, переодевшись в монаха, возвращается и тщательно следит за происходящим. Другими словами, все время ясно, что ничего дурного в итоге случиться не может, уж добрый Герцог об этом позаботится. Скучно. Не очень интересны и отношения между героями-мужчинами и героинями-женщинами, все довольно плоско, примитивно. Колоритны на этот раз, скорее, персонажи из низших слоев, во время их диалогов можно хоть посмеяться. Главный тезис пьесы: мужчина как таковой, в отличие от женщины, существо аморальное, и если и выдает себя за сурового защитника морали, то это вранье, ханжество.
Читал я эту пьесу как раз, когда в Союзе писателей Эстонии вспыхнул скандал вокруг нашего коллеги, обвиненного в педофилии. Вообще-то, никакой педофилии там не было, а была обычная глупость – он попался на провокацию полицейского, который на одном из интернет-сайтов изображал (или изображала, не знаю, какого пола он был) из себя 12-летнюю девочку. Писатель с ней (с ним) даже не встретился, только вел в интернете пошлые, гнусные, противные разговоры на сексуальную тему. Мерзость? Ну да, мерзость, но преступление тут где? Жертвы-то нет! Однако суд низшей инстанции признал писателя виновным. И тут проснулись наши поэтессы и писательницы: вышвырнуть из Союза педофила! Ну с их стороны это понятно, материнское сердце волнуется, не случится ли с моим чадом нечто подобное. Писатели-мужчины повели себя разнообразнее, кое-кто даже признался в аморальных поступках (разумеется, не в преступных): ну что поделаешь, все мы такие, не нам его судить, хоть подождем, что скажет Верховный суд. Нет! Среди нас тоже нашелся натуральный «граф Анджело», который кинулся линчевать несчастного идиота. В итоге – исключили. Вот я и думаю: жаль, я не Герцог, а то устроил бы нашему «Анджело» искушение, напустил бы на него какую-нибудь красотку возраста Лолиты, якобы желающую с ним потрахаться, – посмотрим, выдержит ли испытание…
