О судьбе
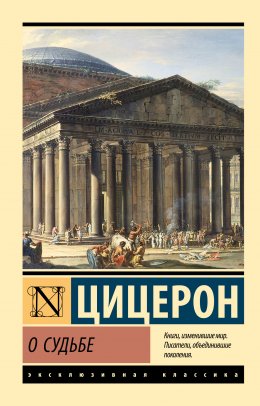
Серия «Эксклюзивная классика»
Перевод с латыни М. Рижского
© Перевод. М. Рижский, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
О природе богов
Книга первая
I. (1) Как ты, Брут[1], прекрасно знаешь, много еще есть в философии вещей, до сих пор не получивших достаточного объяснения, а в особенности трудным и темным является вопрос о природе богов[2], вопрос, который в высшей степени и для познания духа важен, и для устроения религии необходим. По этому вопросу ученейшими мужами были высказаны столь различные и столь противоречивые мнения, что это уже само по себе должно служить сильным аргументом в пользу того мнения, что причиной и началом философии должно быть незнание[3]. И мудро поступают академики[4], которые воздерживаются выражать одобрение вещам сомнительным. Ведь что может быть постыднее недомыслия? Что безрассуднее? Что недостойнее твердости и постоянства мудрого мужа, чем придерживаться ложного или, ничуть не сомневаясь, защищать то, что недостаточно исследовано и продумано?
(2) Так и в этом вопросе. Большинство думает, что боги существуют, – это ведь и правдоподобнее, и сама природа всех нас к этому приводит[5]. Однако Протагор[6] сомневался, а Диагор Мелосский[7] и Феодор из Кирепы[8] считали, что вовсе нет никаких богов. А те, которые признавали существование богов, настолько расходятся в суждениях, что все их мнения даже трудно перечислить. Многие говорят и о наружности богов, и об их местопребывании, и образе жизни, и обо всем этом между философами величайшее разногласие в спорах. Главное же в этом вопросе: живут ли боги в полном бездействии, ни во что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об управлении им, или, напротив, они с самого начала и все сотворили, и установили, в всем в мире до бесконечного времени (ad infinitum tempus) управляют, и все приводят в движение. Вот о чем особенно велико расхождение во мнениях; и если все это не рассудить, то неизбежно пребывать людям в крайнем заблуждении и невежестве относительно вещей наиважнейших.
II. (3) Есть и были ранее философы[9], которые считают, что боги совершенно не пекутся о человеческих делах. Если их мнение истинно, то какое может быть благочестие (pietas)? Какая набожность (sanctitas)? Какая религия (religio)? Ибо все то, что должно быть чисто и свято воздаваемо богам, имеет смысл, если только они замечают это и если есть роду человеческому от бессмертных богов некое воздаяние. Если же боги и не могут нам помочь, и не хотят, и совсем не пекутся о нас, и не обращают внимания на то, что мы делаем, и если с их стороны не может быть никакого влияния на жизнь человеческую, то для чего нам воздавать бессмертным богам какое-то поклонение (cultus), почести, обращаться к ним с молитвами?
Как другие добродетели, так и благочестие не может состоять только во внешних лицемерных проявлениях. А если не будет благочестия, то вместе с тем неизбежно исчезнут и набожность, и религия. Если же и эти исчезнут, то последует великий переворот всей жизни и великое смятение (4), и, пожалуй, с исчезновением благочестия к богам не устранится ли также вера (fides) в человеческое сообщество (societas generis humani), и самая совершенная из всех добродетелей – справедливость (iustitia)?
Есть и иные философы[10], и притом великие и благородные, которые полагают, что весь мир умом и рассудком (mente et ratione) богов руководится и управляется, и что, мало того, жизнь людей также богами предвидится и опекается. Ибо эти философы считают, что и плоды земные, и остальное, что земля порождает, и изменения погоды, и смену времен года, и перемены в небе, от которых зависит рост и созревание того, что родит земля, – все это бессмертные боги производят для рода человеческого. И они (о чем будет еще сказано в этих моих книгах) приводят в качестве доводов много такого, что порой кажется, будто боги бессмертные все устроили [намеренно] на потребу людям. Но Карнеад[11] выдвинул против этих философов столь многое, что во всяком человеке неленивого ума возбудил желание отыскать истину (5), ибо это такой вопрос, по которому расходятся во мнениях не только неученые люди, но также и ученые. Мнения же эти столь различны и столь противоречивы, что, весьма возможно, все они ложны, верным же, конечно, может быть не более одного.
III. Обсуждая этот вопрос, мы можем и доброжелательных критиков успокоить, и злобных порицателей опровергнуть, так что одни пожалеют, что нападали на меня, а другие порадуются, что научились. Ведь тех, кто по-дружески делится своими сомнениями, нужно учить; тех же, кто враждебно нападает на нас, следует отражать (6). Знаю я, что о моих книгах, которые я выпустил в большом числе за короткое время, было много разговоров и были различные суждения. Одни удивляются, откуда у меня возникло такое рвение к философствованию (philosophandi studium), другие хотят знать мое мнение по тому или иному предмету; а многим кажется удивительным, что я отдаю предпочтение той философии, которая-де отнимает свет и как бы окутывает вещи некой тьмой, и почему я неожиданно взял под покровительство давно уже брошенное и оставленное учение[12]. Однако вовсе не внезапно я стал заниматься философией, и не мало затратил я труда и забот на нее со времен ранней юности, а более всего тогда, когда казалось, что я совсем мало занимаюсь философией. О чем свидетельствуют и речи мои, изобилующие высказываниями философов, и близкие отношения с ученейшими людьми, чем всегда славился дом наш, и то, что я обучался у известнейших [учителей]: Диодота[13], Филона[14], Антиоха[15], Посидония[16] (7). А поскольку все философские предписания применимы к жизни, то, полагаю, я и в общественных, и в частных делах поступал так, как предписывают рассудок (ratio) и наука (doctrina).
IV. Если же кто спросит, что побудило меня так поздно взяться за письменное изложение всего этого, то нет ничего легче, чем дать на это ответ. Когда меня утомила бездеятельность, а состояние республики было таким, что ею по необходимости должен был управлять и о ней заботиться только один человек[17], то решил я, во-первых, что ради самой республики следует изложить нашим людям философию, ибо я полагал, что важно и для украшения, и для славы нашего государства, чтобы столь важные и славные вещи были изложены также и на латинском языке (8). И ничуть я не жалею о затраченном труде, потому что вижу, что мой пример возбудил во многих желание не только изучать, но и самим писать [о философии]. Ведь очень многие римляне, изучившие греческие науки, не могли передать усвоенные ими знания своим согражданам по той именно причине, что не верили, будто воспринятое ими от греков можно изложить на латинском языке. Я же в этой области, как мне кажется, настолько продвинулся, что не уступлю грекам даже в богатстве слов.
(9) Побудила меня также обратиться к этим занятиям душевная скорбь[18], вследствие великого и тяжкого удара судьбы. Если бы я мог найти большее утешение от какого-нибудь другого занятия, я предпочел бы прибегнуть к нему, [а не к философии]. А тем средством, к которому я прибегнул, я не мог воспользоваться лучше, чем отдавшись не только чтению книг, но также изучению всей философии. А все ее разделы и все части легче всего узнать, если эти вопросы изложить письменно, ведь во всем этом есть удивительная последовательность, так что одно кажется связанным с другим в одну цепь, звенья которой между собой соединены и переплетены.
V. (10) Но те, которые спрашивают, что я сам думаю о том или ином предмете, проявляют любопытства более, чем следует. Ведь при обсуждении следует, конечно, больше придавать значения силе доказательств, чем авторитету. Так что, по большей части, желающим научиться авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорными только суждения того лица, которого они почитают. Я не одобряю того, что известно о пифагорейцах, которые, когда что-то утверждают при обсуждении, и при этом у них спросишь: «Почему так?» – обычно отвечают: «Сам сказал!» «Сам» – это значит – Пифагор[19]. Столь великой оказалась сила предвзятого мнения, что авторитет стал действовать даже без доказательств.
(11) А тем, которых удивляет, почему я предпочел стать последователем этого учения [академиков], я, кажется, достаточно ответил в четырех моих книгах об этой школе[20]. И вовсе я не принял под свое покровительство школу, покинутую и оставленную. Ибо со смертью людей не погибают также и их мнения, им, может быть, только не достает [того] сияния, [которое исходило от их] авторов. Так обстоит дело и с методом (ratio) этой школы в философии – все оспаривать и ни о чем не высказывать определенного мнения.
Этот метод получил свое начало от Сократа[21], был возобновлен Аркесилаем[22], подкреплен Карнеадом и дожил до наших дней, хотя я признаю, что в самой Греции он почти осиротел. Но я полагаю, что это произошло не по вине Академии, а от тупости людей. Ибо, если великое дело – усвоить отдельные учения, то насколько же большее – изучить все! А это необходимо сделать тем, которые ради отыскания истины поставили себе целью выступать и против всех философов, и за всех (12). Я не утверждаю, что многого достиг в этом столь важном и столь трудном деле, но что я к этому стремился – признаюсь. Впрочем, и не может быть, чтобы придерживающиеся этого метода в философии не имели ничего, чему бы следовали. Об этом я говорил в другом месте более обстоятельно[23], но так как некоторые люди слишком непонятливы и забывчивы, то им, видимо, нужно чаще напоминать. Мы не из тех, которым кажется, что нет ничего истинного, но из тех, которые утверждают, что ко всему истинному присоединено нечто ложное, и притом настолько подобное истинному[24], что нет никакого признака для правильного суждения и принятия. Из чего также следует, что есть много вероятного, такого, что хотя и не схватывается умом, но, поскольку выглядит и выразительным, и ясным, может руководить жизнью мудрого человека.
VI. (13) Но пора уже мне, чтобы избавиться от всякого злословия, общедоступно изложить мнения философов о природе богов, как бы созвав их всех вместе, чтобы они сами рассудили, какое из их мнений верное. Вот тогда уже Академия будет в моих глазах выглядеть упрямой, если окажется, что либо все философы сойдутся на одном мнении, либо найдется из них кто-то один, который откроет, что истинно. Итак, я могу воскликнуть наподобие того [влюбленного] в «Синэфебах»[25]:
- «О бессмертные боги, о граждане все, о все юноши,
- К вам о защите взываю, кричу, молю, требую»,
но не о таком пустяке, на который тот жаловался, что, мол, поистине «творятся в государстве беззакония»:
- «Распутница от милого дружка не хочет денег взять…»,
(14) а чтобы философы, собравшись вместе, рассмотрели бы и обсудили, что должно думать о религии, благочестии, набожности, обрядах, вере, клятве, что о храмах, святилищах, торжественных жертвоприношениях, что о самих ауспициях, которыми я теперь руковожу[26], – ведь все это также относится к вопросу о бессмертных богах. И наверное, разногласия по этому важнейшему вопросу между ученейшими людьми заставят усомниться даже тех, которые считают себя знающими об этом что-нибудь достоверное.
(15) Я часто наблюдал подобное, и в особенности однажды, когда у друга моего Г. Котты[27] состоялось очень обстоятельное и подробное обсуждение этого вопроса – о бессмертных богах. Это было во время Латинских праздников[28]. Я пришел к нему по его просьбе и приглашению и застал его сидящим в гостиной (exedra) и беседующим с сенатором Г. Веллеем[29], которого в то время эпикурейцы ставили на первое место [среди своих]. Там был также Кв. Луцилий Бальб[30], сделавший такие успехи в стоической философии, что его сравнивали с самыми знаменитыми греческими стоиками. Увидев меня, Котта говорит: «Ты пришел очень кстати. У меня как раз началась беседа с Веллеем по очень важному вопросу, при которой тебе с твоей склонностью [к подобного рода обсуждениям] будет совсем не лишним присутствовать».
VII. (16) «И мне, – ответил я, – тоже кажется, что я пришел, как ты говоришь, кстати. Потому, что здесь сошлись вы – три главы трех главных школ [в философии][31]. И если бы здесь еще присутствовал М. Пизон[32], то ни одна философская школа, из тех, по крайней мере, которые сейчас в почете, не осталась бы без своего представителя». На это Котта возразил: «Если книга нашего Антиоха[33], которую он недавно прислал Бальбу, говорит правду, то у тебя нет никакого основания сожалеть об отсутствии твоего друга Пизона, потому что, по мнению Антиоха, стоики с перипатетиками[34] по существу согласны, а расходятся только в словах. Хотел бы я знать, что ты, Бальб, думаешь об этом сочинении?» «Что я думаю? – ответил тот, – я удивлен, что Антиох, человек весьма проницательного ума, не заметил большой разницы между стоиками, которые различают между нравственно достойным (honesta) и удобным (commoda) не по названию только, а по роду (non nomine, sed genere), и перипатетиками, смешивающими нравственное с удобным, так что они различаются по величине и как бы по степеням, но не по роду. А это ведь не маленькое разногласие, в словах, а весьма большое, по существу. (17) Но об этом в другой раз, а сейчас, если угодно, мы вернемся к тому, с чего мы начали обсуждение».
«И я так думаю, – сказал Котта и, взглянув на меня, добавил: – А чтобы он, пришедший позже, не остался в неведении, о чем идет речь, – скажу: о природе богов. Этот вопрос мне всегда казался и кажется чрезвычайно темным, и мне хотелось узнать от Веллея, какого мнения об этом Эпикур. Поэтому, Веллей, если тебе не трудно, повтори, с чего ты начал». «Я повторю, хотя он пришел помощником не мне, а тебе, – сказал, улыбаясь, Веллей. – Ведь вы оба учились у того же Филона ничего не знать». «Чему мы учились, – заметил я, – это пусть покажет Котта. Я же хотел бы, чтобы ты считал меня не помощником ему, а слушателем[35], и притом беспристрастным, который может свободно решать и не связан необходимостью волей-неволей присоединяться к какому-то определенному мнению».
VIII. (18) Тогда Веллей[36] очень самоуверенно, по обыкновению этих людей[37], более всего, видимо, опасаясь как бы не подумали, будто он в чем-то сомневается, и с таким видом, словно он только что покинул собрание богов и спустился из эпикуровых междумирий[38], сказал: «Выслушайте же не пустые, ложные мнения, не о платоновом боге из «Тимея»[39], мастеровом, строителе вселенной, не о вещей старухе стоиков πρόνοια[40], которую можно на латинском назвать providentia («провидение»), и не о самом мире, [будто бы] наделенном душой и чувствами, – шаровидном, пылающем, вращающемся боге[41] – диковинных вымыслах бредящих, а не здравомыслящих философов. (19) Ибо какими глазами смог увидеть ваш Платон мастерство бога в столь великом деле? Какова была подготовка к этому делу сооружения вселенной? Какими орудиями бог пользовался? Какими рычагами? Какие применял машины? Кто были богу помощниками в столь великом сооружении? Каким образом могли слушаться и повиноваться воле зодчего воздух, огонь, вода, земля? И откуда произошли те пять форм[42] (formae), из которых образовалось все остальное, которые, удачно сочетаясь, производят душу и порождают ощущения? Долго бы пришлось говорить об этих вещах, более похожих на желаемое, чем на открытое разумом. (20) Но вот что у Платона заслуживает наградного венка: он, утверждавший будто вселенная не только возникла, но почти сделана рукой, говорит также, что она, эта вселенная, будет существовать вечно![43] Можно ли видеть в нем человека, который, как говорится, хотя бы чуть-чуть отхлебнул от естествознания (phygiologia)[44], если он утверждает, что нечто, однажды родившееся, может быть вечным? Есть ли такое соединение, которое никогда не распадается? Или разве есть что-нибудь, имеющее некое начало, но не имеющее никакого конца? Если ваша Пронойя, Луцилий, такова же, как бог Платона, то я задаю тебе те же вопросы, какие только что задавал: о помощниках, машинах, об организации и подготовке всего этого великого дела. Если же Пронойя нечто иное, то почему она создала мир смертным (mortalem), а не вечным, каким его сделал бог Платона?[45]
IX. (21) Наконец, от обоих вас я хотел бы узнать, почему создатели мира внезапно проснулись, после того как проспали бесчисленные века? Ведь если не было никакого мира, века-то были? Я сейчас говорю не о тех веках, которые состоят из дней, ночей, годов, ибо сознаю, что всего этого без круговращения мира быть и не могло. Но существовала же с бесконечного времени некая вечность, которая никакими единицами времени не измерялась, а какова она была длительностью, можно себе представить[46], потому что и в сознание не вмещается, что было какое-то время, когда никакого времени не было. (22) Вот я и спрашиваю тебя, Бальб, почему ваша Пронойя в течение этого огромного промежутка времени медлила? Труда избегала? Но к божеству ведь это не относится. Какой труд, если все стихии повиновались божеству – небо, огонь, земля, моря? И что могло возбудить в боге, словно в эдиле[47], столь сильное желание украсить вселенную звездами и светилами? Если для того, чтобы ему самому стало уютнее жить, то до этого он, видимо, в течение бесконечного времени жил в потемках, точно в лачуге какой-то. А после, надо полагать, бог стал радоваться той перемене, какая наступила на небе и на земле, украшенных так, как мы их сейчас видим? Но какая это могла быть радость для бога? А если была, то ведь не может быть, чтобы он был лишен ее столь долгое время. (23) Или, как вы обычно говорите, бог все это устроил ради людей[48]? Ради мудрецов? В таком случае он затратил столь много усилий для [весьма] малого числа людей. Или для глупцов? Но, во-первых, не было у бога оснований оказывать добрую услугу недостойным людям. Затем, чего же он этим достиг, если все глупцы, без сомнения, несчастнейшие люди больше всего оттого, что они глупы, ибо что можно считать более достойным сожаления, чем глупость? И потом, есть так много бедствий в жизни, которые все же мудрому легче переносить, потому что он умеет разумно уравновесить их благами жизни, глупцы же не могут ни уклониться от будущих бедствий, ни переносить уже наступившие.
X. Те же, которые утверждали, что сам мир одушевлен и разумен, никак не могли представить себе, какую форму может принять природа разумного духа (animi natura intelligentis). Об этом я еще буду говорить немного позже, (24) а сейчас только выражу удивление тупоумию этих людей, которые утверждают, что существо одушевленное, бессмертное и вместе с тем блаженное должно иметь форму шара[49], и только потому, что, как утверждает Платон, нет этой формы прекраснее. А мне, например, кажется красивее цилиндр, или куб, или конус, или пирамида. А какой образ жизни приписывают этому шарообразному богу? Он вечно вращается и притом с такой скоростью, равную которой и представить себе невозможно. Не вижу, как с этим может сочетаться твердый разум и блаженство[50]. Почему то, что, даже незначительно воздействуя на наше тело, как, например, холод или солнечный жар, воспринимается как неприятное, не должно считаться неприятным также для бога? А земля, конечно, поскольку она является частью вселенной, есть также часть бога. Между тем на земле, как мы знаем, есть огромные области необитаемые и невозделанные, потому что одни из них иссохли вследствие близости к солнцу от жары, а другие окоченели под снегом и инеем из-за того, что солнце далеко от них. Но если вселенная – бог, то выходит, что у бога часть членов раскаленные, а часть – окоченела от холода?
(25) Вот, Луцилий, каковы ваши! Что касается взглядов других, то я обращусь к первому из прежних философов. Фалес Милетский, который первый исследовал эти вопросы, объявил, что начало всех вещей – вода. А бог – это тот ум (mens), который из воды все образовал. Но если боги могут быть без чувства и разума, то зачем Фалес присоединил к воде ум, а к уму воду, если сам ум может существовать безо всякого тела (vacans corpore)? Мнение Анаксимандра, что боги рождаются, появляясь через долгие промежутки времени, и также умирают, и они суть бесчисленные миры. Но мы, можем ли мы представить себе бога иначе как вечным? (26) После него Анаксимен решил, что воздух является богом, что он рождается, что неизмерим, бесконечен, и всегда в движении. Как будто воздух, не имеющий никакой формы, может быть богом, а ведь богу преимущественно подобает иметь образ (species) и не какой-нибудь, а прекраснейший, или как будто не все то, что рождается, должно подлежать смерти.
XI. Далее, Анаксагор, который принял учение от Анаксимена, первый из всех утверждал, что устройство и движение вещей обусловлены и совершаются силою и рассуждением (vi ас ratione) бесконечного ума (mentis). При этом он не понял ни того, что в бесконечном не может быть никакого непрерывного и связанного с чувством движения и вместе с тем способности чувствовать[51], ни того, что вообще не может быть никакого чувства (sensus), с помощью которого сама природа ощущала бы внешнее воздействие. Далее, если Анаксагор представлял себе этот «ум» как некое одушевленное существо (animal), то должно быть внутри него нечто такое, отчего оно может быть называемо одушевленным. Но что может быть внутри ума[52]?
Итак, он должен быть облеченным во внешнее тело. (27) Но так как это [Анаксагору] не угодно, то остается ничем не прикрытый, простой ум, не связанный ни с чем, посредством чего он мог бы ощущать. Наш разум, как мне кажется, этого не в состоянии понять.
А Алкмеон из Кротона, который приписал Солнцу и Луне, и остальным звездам, и, кроме того, душе божественность, не подумал о том, что он приписал смертным вещам бессмертие[53]. И Пифагор, полагавший, что есть охватывающая всю природу и проникающая во все ее части душа, из которой берутся и наши души[54], не видел, что бог, от которого отрываются человеческие души, этим самым раздирается на части, подвергается растерзанию. А когда человеческие души бывают несчастны, что случается с весьма многими, то, значит, несчастной бывает часть бога, а этого быть не может. (28) И почему бы душе человеческой не быть всеведущей, если бы она была богом? И еще, каким образом этот бог, если он не что иное, как душа, был всажен или влит в мир?
Затем Ксенофан, который утверждал, что, так как все (omne) обладает умом и вдобавок бесконечно, все есть бог. Что касается ума, то Ксенофану можно возразить то же, что и остальным. А относительно бесконечности можно возразить еще больше, так как не может быть, чтобы в ней существовало нечто чувствующее и присоединенное.
Далее, Парменид – этот создает своим воображением нечто похожее на венец[55], что он и называет «венцом» (на их языке στεφάνην – круг), от которого непрерывно исходит жаркое сияние и который опоясывает небо, и он называет это богом. Но что это за бог, в котором ни облика божественного, ни сознания (sensus) нельзя себе представить? И много еще он допускает чудовищного, обожествив войну, раздор, страсть и другое в том же роде, что или болезнью, или сном, или забвением, или давностью уничтожается. То же он говорит о звездах[56], что, как опровергнутое в другом месте, здесь может быть опущено.
XII. (29) Эмпедокл, погрешающий во многом другом, позорнейшим образом ошибается также, рассуждая о богах. Ибо он считает четыре стихии[57], из которых, по его мнению, состоит все, божественными. Но ведь ясно, что они, стихии, возникают и исчезают[58], и лишены всякого чувства. И Протагор, который заявил, что у него нет совсем никакой ясности в вопросе о богах – есть они или нет их, и каковы они, – по-видимому, также испытывал сомнения относительно самой природы богов. А Демокрит, включавший в число богов то разгуливающие кругом «образы», то ту природу[59], которая эти образы источает из себя и испускает, то наше знание и разумение, разве не впал в величайшую ошибку? А утверждая, что нет ничего вечного, так как ничто не остается всегда в одном состоянии[60], разве этим самым Демокрит не уничтожает совершенно бога, так что о нем и мнения никакого не остается?
А воздух, который Диоген из Аполлонии использовал в качестве бога, какое воздух может иметь чувство (sensum)? Какой облик, приличествующий богу?
(30) Слишком долго было бы говорить о непоследовательности Платона, который в «Тимее» утверждает, что отца этого мира невозможно назвать[61], а в «Законах» – что не следует и доискиваться, что такое бог[62]. А так как, по мнению Платона, бог не имеет никакого тела, как греки говорят ασωµατον, то вообще невозможно понять, какой он может быть. Ибо [в таком случае] он необходимо должен быть лишен способности чувствовать, лишен также мудрости, неспособен испытывать удовольствия, а ведь мы все это связываем с понятием о богах. Но тот же Платон в «Тимее» и «Законах»[63] говорит, что и Вселенная – бог, и небо, и звезды, и Земля, и души наши, и те божества, которых мы признаем по установлению наших предков[64], каковые мнения и сами по себе ложны, и между собой вступают в сильнейшие противоречия.
(31) Так же и Ксенофонт грешит почти тем же, хотя и менее многословно. Ибо в своих книгах, где он излагает беседы Сократа, Ксенофонт заставляет Сократа говорить, что не следует доискиваться, каков облик бога, и что и солнце, и душа – это бог[65], и то он говорит об одном боге, то о многих. Это те же самые ошибки, которые мы указали у Платона.
XIII. (32) Да и Антисфен в той книге, которая называется «Физик» (Physicus), утверждая, что народных богов много, но природный (naturalis) только один, уничтожает этим самым силу и природу богов. Почти так же Спевсипп[66], следуя своему дяде, Платону, говорит, что есть некая одушевленная сила, которая всем управляет. Этим он старается вырвать из душ познание богов. (33) И Аристотель в третьей книге «О философии»[67] много напутал, не расходясь во мнениях со своим учителем. Ибо он то приписывает всю божественность разуму, то говорит, что сам мир – это бог[68], то ставит во главе мира кого-то другого[69] и возлагает на него обязанность неким своим круговращением направлять и сохранять движение мира; то он называет богом небесный огонь[70], не понимая, что небо это только часть мира, который он в другом месте сам же назначил богом. Но каким же образом небо при такой скорости вращения может сохранить божественное самочувствие (sensus)? И потом, где находятся эти столь многочисленные боги[71], если и небо считать богом? Если же он считает, что бог не имеет тела, то этим он лишает его всякого чувства, как и мудрости. Далее, каким образом бестелесный бог может двигаться[72] или же каким образом он сам, пребывая в постоянном движении, может быть спокоен и блажен[73]?
(34) Да и Ксенократ[74], тоже ученик Платона, не благоразумнее его в этом вопросе. В своих книгах о природе богов[75] он совсем не описывает божественный облик. Он говорит, что богов восемь: из них пять – те звезды, которые называются блуждающими, и один, который состоит из всех, вместе взятых, остальных звезд, неподвижно прикрепленных к небу, как будто так просто представить себе одно цельное божество, состоящее из рассеянных членов. Он еще добавляет седьмого бога – солнце и восьмого – луну. В каком смысле эти боги могут быть блаженными – понять невозможно. Из той же школы Платона Гераклид Понтийский наполнил свои книги детскими сказками. Он также считает божественными то мир, то разум. Божественностью он наделил также планеты, а у бога отнимает способность чувствовать и приписывает ему изменчивую форму. В той же книге и Гераклид относит к богам небо и землю.
(35) А непостоянство Теофраста[76] просто невозможно вынести. Он то ставит на первое место по божественности ум (mens), то небо, то небесные созвездия и звезды. Не следует также слушать и его ученика Стратона, прозванного «Физиком»[77]. Этот считает, что вся божественная сила заключается в природе, и в ней же содержатся причины рождения, увеличения, уменьшения всех вещей, но нет в ней совсем ни чувства, ни облика.
XIV. (36) Зенон же (теперь я перейду уже, Бальб, к вашим) считает божественным естественный закон, который обладает силой повелевать справедливое и препятствовать противному. Как он делает этот закон одушевленным существом[78], мы не можем понять, хотя нам, конечно, желательно, чтобы бог был одушевленным. Но этот же философ в другом месте называет богом эфир[79], если только можно представить себе бога, который ничего не чувствует и не отвечает нам ни на молитвы, ни на желания, ни на обеты.
А в других книгах он считает, что некий разум (ratio), простирающийся на всю природу, наделен божественной силой[80]. Он же приписывает то же самое звездам, затем годам, месяцам, сменам времен года. А когда берется толковать теогонию Гесиода, т. е. происхождение богов[81], то совершенно уничтожает привычные нам и принятые представления о богах. Ибо он не причисляет к богам ни Юпитера, ни Юнону, ни Весту, ни какое-либо другое божество, имеющее собственное имя, но учит, что этими именами были наделены в аллегорическом смысле неодушевленные, немые объекты природы.
(37) Не менее крупную ошибку допускает в своем суждении ученик Зенона Аристон[82], считающий, что невозможно познать, какой вид имеет божество[83]. Он говорит, что богу не присуще чувство (sensus), и сомневается даже, живое ли существо бог. А Клеанф, который вместе с вышеназванным слушал Зенона, то говорит, что сам мир есть бог, то наделяет этим названием ум (mens) и душу (animus) всей природы, то решает, что истинный бог – это небесный огонь, самый удаленный и выше всего находящийся, со всех сторон окружающий, все обвивающий и все охватывающий, огонь, который называется эфиром. Он же, словно бредящий, в тех книгах, которые написал против чувственного наслаждения, то измышляет некий образ и облик бога, то всей божественностью наделяет звезды, то считает, что нет ничего божественней разума (ratio). Получается, что у него нигде совершенно не обнаруживается то божество, которое мы познаем нашим умом, стремясь, чтобы понятие о нем совпадало с тем, что, словно отпечаток, заложено в нашей душе[84].
XV. (38) А Персей, слушатель того же Зенона, говорит, что богами стали признавать людей, которые придумали нечто очень полезное для украшения жизни. И сами полезные и спасительные вещи были также названы именами богов[85], так что он даже говорит, что эти вещи не только придуманы богами, но и сами являются божественными. Но что может быть бессмысленнее, чем наделить божеским достоинством грязные и безобразные вещи[86], или уже уничтоженных смертью людей причислить к богам, причем все почитание их будет состоять в проявлении глубокой скорби?
(39) А уж Хрисипп[87], который считается хитроумнейшим толкователем бреда стоиков, собирает великую толпу неведомых богов[88], причем настолько неизвестных, что мы не можем даже по догадке их вообразить, хотя наш ум, кажется, может мысленно вообразить что угодно.
Он еще говорит, что божественная сила заложена в разуме (ratio), а также в душе (animus) и уме всей вселенной (universa natura). И сам мир (mundus), говорит он, – это бог и вездесущее разлитие его духа. Он уверяет, что бог – это главная сущность мира, которая заключается в уме (mens) и разуме (ratio), которая все совокупно содержит в себе и все охватывает и проникает. А еще он говорит, что бог – это фатальная сила и необходимость будущих событий. Кроме того, он уверяет, что бог – это огонь и то, что я раньше назвал, – эфир. Затем все то, что по природе своей может течь и распространяться[89], как, например, вода и земля, и воздух; что бог – это также солнце, луна, звезды, вселенная, которая содержит в себе все, а еще – люди, достигшие бессмертия[90]. (40) Он же утверждает, что эфир – это то, что люди называют Юпитером, а тот воздух, что распространяется над морями, – это Нептун. А земля – это то, что называется Церерой. Подобным образом он толкует имена и остальных богов. Он еще говорит, что сила постоянного и вечного закона, которая как бы является руководителем жизни и наставником в обязанностях, – это Юпитер, а также называет Юпитером фатальную необходимость (fatalis nеcessitas) и извечную истинность (sempiterna veritas)[91] будущих событий. Во всем этом, однако, нет ничего такого, в чем мы могли бы видеть наличие божественной силы. (41) Эти все утверждения можно прочитать в его первой книге о природе богов. Во второй же книге он пытается побасенки Орфея, Мусея[92], Гесиода и Гомера согласовать с тем, что он сам написал в первой книге о бессмертных богах, согласовать так, что может показаться, будто эти древнейшие поэты, сами того не подозревая, были стоиками. Следуя ему, Диоген Вавилонский[93] в книге, озаглавленной «О Минерве», относит рождение Юпитером и происхождение богини-девы к области естествознания, отделив это от басен.
XVI. (42) То, что я изложил, – это скорее похоже на бред безумцев, чем на мнения философов, но не намного ведь безрассуднее и то, что распространили голоса поэтов и причинили тем больший вред, чем пленительней их язык. Ибо они вывели богов, воспламененных гневом и безумствующих от похоти, заставили нас увидеть их войны, сражения, битвы, раны; кроме того, – их ненависть, раздоры, разногласия, рождения, смерть[94], ссоры, жалобы, проявления самой необузданной страсти, супружеские измены, заключения в цепи, сожительство со смертными и в результате – рождение смертного потомства от бессмертных.
(43) К заблуждениям поэтов следует присоединить еще вымыслы магов[95], безумства египтян в этом же роде, затем также представления невежественной толпы, которые вследствие незнания ею истины крайне непостоянны. Тот, кто рассудит, насколько все эти мнения и непродуманны, и безрассудны, должен благоговейно преклониться перед Эпикуром и отнести его к числу тех самых [богов][96], о которых сегодня идет речь. Так как прежде всего он один только усмотрел, что боги существуют потому, что сама природа в душе каждого человека запечатлела понятие о них. Есть ли такое племя или такой род людей, который бы без всякого обучения не имел некой антиципации о богах (anticipatio)[97] – того, что Эпикур называет πρόληψις, т. е. некоторые предвосхищенные душою представления о вещах, представления, без которых никому невозможно ни понять, ни исследовать, ни рассудить. Силу и пользу этого выдвинутого Эпикуром положения мы узнаём из известной книги божественного Эпикура «О критерии, или Канон»[98].
XVII. (44) Итак, вам теперь совершенно ясно, что нами уже заложено твердое основание для дальнейшего обсуждения затронутого вопроса. Ибо если следует считать истинным то мнение, которое основано не на каком-то предписании, или обычае, или законе, а на единодушном и твердом согласии всех, то необходимо признать, что боги существуют именно потому, что знания об этом заложены в нас (insitae) или, лучше сказать, являются врожденными (innatae). То, в чем все от природы согласны, необходимо должно быть верным. Итак, должно признать, что боги существуют. И так как это почти общее мнение не только философов, но людей неученых, то признаём также и то, что в нас есть, как я ранее сказал, «антиципация», или предварительное знание о богах, «предзнание» (praenotio) (новым понятиям ведь приходится давать новые названия, как сам Эпикур назвал πρόληψις то, что раньше никто этим словом не называл), и на том же основании мы будем считать, что боги блаженны и бессмертны.
(45) Ибо та же самая природа, которая вложила в нас представление о самих богах, запечатлела также в наших умах, чтобы мы считали их вечными и блаженными. А если это так, то справедливо также известное изречение Эпикура[99], что то, что вечно и блаженно, ни само не имеет никаких хлопот, ни другому их не доставляет. Так что ему чужды и гнев, и милосердие, потому что все подобное есть проявление слабости.
Если бы мы ничего другого не добивались, как только благочестивого почитания богов и избавления от суеверий, то и сказанного было бы достаточно. Ибо совершенная природа богов уже потому должна бы благочестиво почитаться людьми, что она и вечная, и блаженнейшая, – ведь все выдающееся по справедливости заслуживает преклонения. И был бы также изгнан весь страх перед силой и гневом богов, так как понятно, что раз существу блаженному и бессмертному не присущи ни гнев, ни милость, то это значит, что со стороны богов не грозит ничего страшного. Но для подтверждения этой мысли, наш ум исследует также, каков облик божества, каковы его образ жизни и умственная деятельность.
XVIII. (46) Что касается внешнего вида богов, то об этом частью природа нас наставляет, частью учит разум. От природы все мы, люди всех стран, представляем себе богов не иначе, как в человеческом облике. Ибо кто может, во сне или наяву, представить себе бога в каком-нибудь другом виде? Но, чтобы не сводить все к первичным представлениям, покажем, что и разум говорит то же самое. (47) Существу превосходнейшему, от того ли, что оно блаженно или что вечно, подобает также выглядеть красивейшим, но что может быть красивее человека? Расположения его членов, сочетания линий? Что может быть красивее его фигуры, его образа?
Вот ведь вы, Луцилий (я не касаюсь нашего Котты, который говорит то одно, то другое)[100], когда описываете, как искусен в своем творчестве бог, обыкновенно показываете это на примере человека, в фигуре которого все приспособлено не только для пользы, но и для красоты. (48) Итак, если человеческая фигура превосходит по форме все живые существа, а бог – живое одушевленное существо, то, конечно, его облик прекраснее всех. И так как известно, что боги в высшей степени блаженны, а блаженным может быть только тот, кто добродетелен, а добродетель не может быть без разума, а разум может быть только у человека, то должно признать, что боги имеют человеческий образ.
(49) Однако этот образ не есть тело, но как бы тело, и не имеет крови, но как бы кровь.
XIX. (50) Хотя Эпикур это свое остроумнейшее открытие изложил настолько тонко, что не всякий сможет понять его, однако я, полагаясь на вашу проницательность, рассуждаю короче, чем этого требует дело.
Эпикур же, который не только умом увидел сокровенное и скрытое, но как бы рукою его нащупал, учит, что сила и природа богов таковы, что прежде всего они постигаются не чувством, а умом, и не по некой плотности и числу, как те [тельца], которые он, вследствие их твердости, называет στερεµνια [твердые], а вследствие восприятия подобных [им] и переходящих от них образов. А так как бесконечный вид совершенно подобных образов возникает из бесчисленных атомов и притекает к нам, то наш ум с величайшим наслаждением устремляется к ним и, погружаясь в них, постигает, что существует природа и блаженная, и вечная.
Для решения этого вопроса очень важно понять значение бесконечности, что в высшей степени заслуживает полного и внимательного рассмотрения. Необходимо понять, что природа ее заключается в том, что всему подобному соответствует подобное. Эпикур это назвал ισονοµία, т. е. «равномерным распределением»[101]. И из этого следует, что если столь велико количество смертных, то и бессмертных должно быть не меньше; и если бесчисленны силы разрушающие, то бесчисленны также и силы сохраняющие.
Вы, Бальб, имеете обыкновение спрашивать у нас, какова жизнь богов, как они проводят время. Очевидно жизнь их такова, что невозможно придумать ничего блаженнее, ничего более изобилующего всякими благами. (51) Ибо бог ничего не делает, не обременен никакими занятиями, не берет на себя никаких дел. Он наслаждается своей мудростью и своей добродетелью и знает наверное, что эти величайшие и вечные наслаждения он всегда будет испытывать.
XX. (52) Такого бога по справедливости можно назвать счастливейшим, вашего же – сущим мучеником. Ибо если бог – это сам мир, который с поразительной скоростью вращается вокруг небесной оси, не останавливаясь ни на мгновение, то можно ли представить себе более беспокойную жизнь? Ведь невозможно быть блаженным, не имея покоя. А если в самом мире заключен некий бог, который правит, руководит, соблюдает порядок в передвижении звезд, в смене времен года, заботится о регулярности перемен в природе, печется о землях и морях, о жизни и жизненных благах людей, то поистине этот бог запутался в весьма неприятных и тягостных хлопотах.
(53) Мы же полагаем, что счастливая жизнь – это когда на душе покой и нет никаких обязанностей[102]. И тот, кто научил нас всему, что мы знаем, преподал нам также, что мир создан природою[103]. Для нее это не составило никакого труда. Для природы сотворение мира, которое, как вы считаете, не могло состояться без божественного мастерства, – это было настолько легкое дело, что она будет создавать, создает и создала бесчисленные миры. Но вы, так как не видите, каким образом природа без некоего разума может это сотворить, прибегаете к богу по примеру поэтов, авторов трагедий, которые поступают таким образом, когда не знают, как довести действие до развязки.
(54) Конечно, вы бы не прибегали к содействию бога, если бы представили себе всю безмерность, беспредельность, огромную во все стороны протяженность пространства, в которое дух устремляется и проникает, и странствует по нему, пересекая его вдоль и поперек, и, однако, не видит никакого края, берега, к которому он мог бы пристать. И вот в этой безмерности ширины, длины, высоты носится бесконечная сила (vis) бесчисленных атомов, которые, хотя между ними пустота, все же сцепляются и, хватаясь один за другого, сплачиваются. От этого и образуются те тела различных форм и видов, которые, по вашему мнению, никак не могли быть созданы без кузнечных мехов и наковальни. Так вы посадили на нашу шею вечного господина, которого мы должны бояться днем и ночью. Ибо кто же не будет бояться бога, который все провидит, обдумывает, замечает, который считает, что ему до всего есть дело, который во все вмешивается, весь в хлопотах?
(55) Отсюда у вас появилась, во-первых, та фатальная необходимость, которую вы называете ειµαρµένη, так что, что бы ни случилось, вы говорите, что это проистекало от извечной истинности и вызвано неразрывной последовательностью причин. Но чего же стоит эта философия, которой, точно старухе, да и то необразованной, кажется, будто все происходит от судьбы. Отсюда же и ваша µαντική (искусство прорицания), что по-латыни называется «дивинация» (divinatio)[104], и от которой, если бы мы захотели к вам прислушиваться, то заразились бы таким суеверием, что должны бы были почитать [за святых] и гаруспиков, и авгуров[105], и прорицателей, и толкователей снов.
(56) Избавленные Эпикуром от этих страхов и получившие через него свободу, мы не боимся тех, которые, как мы понимаем, ни себе не причиняют никаких неприятностей, ни другому их не доставляют. Мы благочестиво и благоговейно поклоняемся богам из-за превосходной и совершенной их природы.
Однако же опасаюсь, как бы мне, увлекшись, не затянуть слишком мою речь. Трудно было рассмотрение столь большого и столь важного вопроса оставить незаконченным. И все же разумнее было бы с моей стороны не столько говорить, сколько слушать».
XXI. (57) Тогда Котта[106], с обычной для него учтивостью, сказал: «Но если бы ты, Веллей, ничего не сказал, то и от меня, конечно, ты тоже не смог бы ничего услышать. Потому что обычно мне не так легко приходят в голову доводы в защиту истинного, как в опровержение ложного. Это со мной часто бывало и ранее, и сейчас вот, когда я только что слушал тебя. Спроси меня, какова, по-моему, природа богов, и я тебе, вероятно, ничего не отвечу; спроси: считаю ли я природу богов такой, какой ты ее изобразил, и я скажу: по-моему – ничего подобного. Но прежде чем подойти к рассмотрению того, что тобой было высказано, скажу, что я думаю о тебе самом.
(58) Я часто слышал, как известный твой друг[107], нисколько не сомневаясь, ставил тебя выше всех римских эпикурейцев[108] и лишь немногих греческих ставил наравне с тобой. Но так как я знал о его поразительной привязанности к тебе, то считал, что он из расположения к тебе преувеличивает. Я же, хотя и не склонен хвалить человека в его присутствии, однако считаю, что ты очень ясно высказался по этому темному и трудному вопросу, и твое изложение было не только богато мыслями, но и красноречивее, чем обычно бывает у ваших[109]. (59) Когда я был в Афинах, я часто слушал Зенона, которого наш Филон[110] обычно называл корифеем эпикурейцев, и притом слушал я его по совету самого Филона. Я уверен, что посоветовал мне это Филон с той целью, чтобы я, послушав, как рассуждает глава эпикурейцев, легче смог судить, как хорошо их можно опровергнуть. Ибо он не так, как большинство из [них], но таким же образом, как ты, говорил отчетливо, веско, красноречиво. Но как часто бывало, слушая его, так вот и тебя теперь, мне было обидно сознавать, что такой великий ум пришел к столь, с позволения сказать, поверхностным, уж не скажу, столь нелепым мнениям.
(60) Впрочем, и сам я сейчас не предложу ничего лучшего. Как я уже сказал, почти по всем вопросам, а особенно физическим (physicis)[111], я, скорее, мог бы сказать, чего нет, чем что есть.
XXII. Если спросишь меня, что такое бог или каков он, то я сошлюсь на Симонида[112], который, когда его об этом же спросил тиран Гиерон, потребовал себе один день на размышление. Когда Гиерон повторил свой вопрос на следующий день, Симонид попросил уже два дня срока. Когда же он каждый раз стал удваивать число дней, удивленный Гиерон спросил, почему он так делает? Потому, ответил тот, что чем дольше я размышляю, тем этот вопрос кажется мне более темным. Я же думаю, что Симонид, бывший не только приятным поэтом, но и в других вопросах, как передают, человеком ученым и мудрым, так как ему пришло в голову много глубоких и тонких мыслей, стал сомневаться, какая из них самая истинная, и, наконец, совсем отчаялся найти ее.
(61) А Эпикур твой (ибо я предпочитаю лучше спорить с ним, чем с тобой) что сказал такого, что было бы достойно не то что философии, но даже посредственной рассудительности?
В этом вопросе, о природе богов, прежде всего спрашивается, есть боги или их нет. Трудно отрицать? Верно, – если бы вопрос был задан в народном собрании (соntiо), но в такой беседе и таком собрании, как наши[113], – легче всего. Так вот, я, сам понтифик[114], считающий, что необходимо в высшей степени свято соблюдать общественные религиозные обряды, я просто хотел бы, чтобы меня в существовании богов (что является главным в этом вопросе) убедило бы не только [принятое на веру] мнение, но также и сама истина. Много ведь встречается такого, что смущает нас так, что порой начинает казаться, будто вовсе нет никаких богов.
(62) Однако заметь, как по-дружески я поступлю с тобой, я не буду затрагивать того, что является у вас общим с другими философами, как, например, положения, с которым согласны почти все, и я сам в первую очередь, что боги существуют. На это я не буду нападать. Однако то доказательство, которое ты приводишь, я считаю недостаточно убедительным.
XXIII. По твоим словам, достаточно веским основанием для того, чтобы мы признали, что боги существуют, является то обстоятельство, что так это представляется всем человеческим племенам и народам. А этот довод не только сам по себе легковесен, но также и ложен. Ибо, во-первых, откуда тебе известны мнения народов? Я, по крайней мере, убежден, что есть много племен настолько диких, что они даже не подозревают о существовании богов. (63) А Диагор? Диагор, прозванный άθεος («Безбожник»), а затем Феодор – разве не отвергали открыто богов? И Протагор из Абдеры[115], о котором и ты только что упоминал, в свое время величайший из софистов? Ведь за то, что в начале своей книги он поместил такие слова: «О богах – есть они или их нет – не имею ничего сказать», он по постановлению афинян был изгнан не только из города, но и из страны, а книги его были публично сожжены. Я так думаю, что это заставило многих более осторожно высказывать такие мнения, поскольку даже сомнение не смогло избежать кары. А что сказать о святотатцах, нечестивцах, клятвопреступниках? Как говорит Луцилий[116]:
- Если бы когда-либо Луций Тубул,
- Если бы Луп или Карбон – чудовище [117] —
считали, что есть боги, разве были бы они столь клятвопреступными или столь порочными? (64) Так что это доказательство не столь надежно, как вам кажется, для подтверждения того, что вам хочется. Но так как этот аргумент является общим у вас с другими философами[118], то я пока обойду его. Предпочитаю перейти к вашим собственным доводам.
(65) Итак, я согласен с вами, что есть боги. Научи же меня, откуда они взялись? Где они? Каковы у них тело, душа, жизнь? Вот что я хотел бы знать. Ты для всего используешь своеволие атомов[119], отсюда ты все, что на ум взбредет, строишь и лепишь. Но, во-первых, атомы не существуют. Ибо то, что не имеет тела, ничто[120]. И всякое место занято телами. Значит, нет совсем пустоты и не может быть никакого атома.
XXIV. (66) Это я теперь привожу «оракулы» физиков (oracula physicorum), не знаю, верны они или ложны, но они все же более похожи на правду, чем ваши. Эти постыднейшие учения Демокрита, или еще ранее – Левкиппа[121], будто существуют некие легкие тельца, одни – шероховатые, другие – круглые, часть – угловатые и крючковатые, как бы загнутые внутрь, и будто из этих-то телец образовались небо и земля, без воздействия какой-либо природы (nulla cogente natura)[122], но вследствие случайного стечения телец. Это мнение ты, Веллей, довел до нашего времени, и скорее, пожалуй, тебя мог бы кто-нибудь лишить жизни, чем отклонить от этого убеждения. Ты ведь решил стать эпикурейцем еще раньше, чем усвоил эти взгляды. Таким образом, для тебя стало необходимостью либо принять умом своим это постыдное учение, или отказаться от принятого звания эпикурейца. (67) Сколько бы ты взял за то, чтобы перестать быть эпикурейцем? Конечно, ты ответишь, ни за что я не оставлю этого учения о счастливой жизни и об истине. Стало быть – это истина? Насчет счастливой жизни я с тобой воевать не буду, так как, по-твоему, и бог ее не имеет, если только он не томится в полном безделье. Но где истина? Верно, в бесчисленных мирах, из которых каждое мгновение одни рождаются, другие гибнут? Или в неделимых тельцах, образующих без участия какой-либо организующей природы (nulla modérante natura), какого-либо разума (nulla ratione) столь прекрасные произведения? Но, забыв о дружелюбии, которое я сначала проявил к тебе, я перехватил через край. Итак, я соглашусь с тобой, что все состоит из атомов. Но какое нам до этого дело? Ведь мы занимаемся вопросом о природе богов! (68) Пусть и они тоже из атомов. Стало быть, они не вечны? Ибо то, что из атомов, когда-то возникло. А если боги возникли, то до того, как они возникли, никаких богов не было. И если у богов есть рождение, то необходимо должна быть и смерть, как и ты немного ранее рассуждал о платоновском мире. Но в таком случае какой смысл в этих двух словах «блаженный» и «вечный», которыми вы характеризуете бога?[123] Желая доказать свое, вы запутываетесь, словно заяц, ищущий спасения, в колючем кустарнике. Так ты и говорил, что у бога не тело, а как бы тело, не кровь, а как бы кровь.
XXV. (69) Очень часто вы поступаете так, что когда утверждаете что-нибудь неправдоподобное и хотите избежать опровержения, то ссылаетесь на нечто такое, что уже совсем невозможно, хотя в этом случае лучше было бы уступить в споре, чем столь бесстыдно настаивать на своем. Вот так и Эпикур. Он усмотрел, что если атомы, увлекаемые своей тяжестью, несутся все только в одном направлении вниз, то в нашей власти ничего не остается, поскольку движение атомов определенно и необходимо (motus certus et necessarius)[124]. И Эпикур изобрел способ, каким образом избежать этой необходимости, способ, который, очевидно, ускользнул от внимания Демокрита. Эпикур говорит, что атом, который вследствие своего веса и тяжести несется прямо вниз, чуть-чуть при этом отклоняется в сторону. (70) Говорить так еще более постыдно, чем не быть в состоянии защитить то, что он хочет. Также он выступает против диалектиков[125]. Они ведь учили, что во всех дизъюнкциях (disjunctiones), в которых заложено или «да», или «нет», истинным может быть только одно из двух[126]. Эпикур же очень испугался, что если он сделает в этом уступку, то и в высказывании типа «Или будет жив завтра Эпикур, или не будет жив» он признает необходимость только одного решения, и он совсем отверг[127] необходимость положения «или да, или нет». Что может быть глупее этого? Аркесилай, нападая на Зенона, сам утверждал, что все показания чувств ложны. Зенон же считал, что ложны лишь некоторые, но не все[128]. А Эпикур испугался, что если допустить обманчивость некоторых чувственных восприятий, то придется признать, что верных вовсе нет, и объявил, что все чувства являются верными вестниками. Во всем этом нет ни капли ума, он подставляет себя под более тяжелый удар, чтобы отразить более легкий. (71) Так он поступил и с природой богов. Избегая признания, что раз его боги сложены из атомов, то они должны подвергаться и гибели и разложению, он утверждает, что боги имеют не тело, но как бы тело, не кровь, но как бы кровь.
XXVI. Кажется удивительным, что один гаруспик может без смеха глядеть на другого[129]. Еще удивительнее, что вы можете удержаться от смеха, глядя друг на друга. «Не тело, а как бы тело!» Я бы понял, как это, если бы речь шла о фигурах, вылепленных из воска, или глиняных, но что такое «как бы тело» и что такое «как бы кровь» у бога – понять не могу; да и ты, Веллей, также, только не хочешь признаться.
(72) Ведь вы твердите, точно заученный урок, то, что Эпикур, зевая, набредил, а сам он, между прочим, хвалится, как мы видим из его писем, что он-то не имел никакого учителя[130]. Да если бы он и не предупредил, я мог бы легко в это поверить, словно владельцу плохо построенного здания, который хвалится, что он обошелся без зодчего. Не пахнет от Эпикура ни Академией, ни Ликеем, не чувствуется в нем даже школьного образования. А ведь он мог слушать Ксенократа, какого великого мужа, боги бессмертные! И есть такие, которые считают, что он его слушал, но сам-то он это отрицает, и я ему больше верю. Он говорит, что на Самосе слушал какого-то Памфила, ученика Платона[131], ибо Эпикур там жил в молодости с отцом и братьями. Отец его, Неокл, прибыл на этот остров колонистом[132], но так как клочок земли не мог его достаточно прокормить, как я думаю, то он стал учителем в начальной школе. (73) Но к этому платонику Памфилу Эпикур проявляет просто поразительное пренебрежение: так он боится, чтобы не показалось, будто он когда-то чему-то учился. Он придерживается Навсифана, последователя Демокрита, но хотя не отрицает, что слушал его, осыпает его всякими ругательствами[133]. А если он не слушал этого учения Демокрита, то что он вообще слушал? Что в учении Эпикура о природе не от Демокрита? Даже если он кое-что изменил, как то, что я сказал немного ранее об отклонении атомов? По большей части он говорит то же самое: атомы, пустота, образы, бесконечность пространства, бесчисленность миров, их рождение, гибель, – словом, почти все, что относится к порядку природы (naturae ratio continetur). А теперь все-таки, что ты понимаешь под «как бы тело и как бы кровь»? (74) Признаю, и притом ничуть не завидуя, что ты в этом понимаешь лучше, чем я, но все же я хотел бы знать, что же это такое, что Веллей понять может, а Котта – не может? Итак, что такое «тело» и что такое «кровь», я понимаю, но что такое «как бы тело» и «как бы кровь», совершенно и никоим образом не понимаю. Причем ты ведь ничего и не таишь от меня, как это обычно делал Пифагор с посторонними, и не говоришь намеренно темно, как Гераклит[134], ты, между нами говоря, просто сам этого не понимаешь.
XXVII. (75) Ты, как я вижу, отстаиваешь то мнение, что боги имеют некий образ, в котором нет никакой телесности, никакой плотности, ничего осязаемого, ничего ощутимого, – чистый, легкий, прозрачный образ. О нем, стало быть, можно сказать, как о Венере Косской[135]: это не тело, но подобие тела, и эта краснота, разлитая по телу и смешанная с блестящей белизной, – не кровь, а некое подобие крови. Так и в эпикурейском боге, все – невещественное, а подобие вещественного. Но пусть я убедился в том, что невозможно даже понять. Скажи же мне, каковы у этих призрачных богов очертания и формы?
(76) Тут уж вы не испытываете недостатка в доказательствах, с помощью которых вы хотите убедить в том, что боги имеют человеческие формы. Во-первых, потому, что такое уж сложилось в наших умах предвосхищенное представление, что человек, когда размышляет о боге, то представляется ему именно человеческая форма. Далее, поскольку божественная природа превосходит все прочее, то ей должна быть присуща также и форма прекраснейшая. А красивее человеческой не может быть. В качестве третьего доказательства вы приводите то, что никакой другой формы тело не может служить жилищем разума. (77) Итак, начнем с рассмотрения каждого из этих доказательств. Ибо, как мне кажется, вы хватаетесь, как бы имея на то право, за положения никоим образом не приемлемые. Вообще был ли когда-нибудь такой слепец, который бы не видел, что человеческие черты были перенесены на богов или по некоему замыслу мудрецов[136], для того чтобы легче обратить души простого народа от порочной жизни к почитанию богов, или из-за суеверия, чтобы иметь изображения богов, поклоняясь которым, люди верили бы, что обращаются к самим богам. А поэты, живописцы, скульпторы добавили еще больше к этому. Ведь нелегко было богов как-то действующих, чем-то управляющих представлять в других формах. А может быть, имело значение и то соображение, что человеку кажется, будто нет ничего красивее человека. Но ты, физик, разве не видишь, какой льстивой сводней, как бы саму себя предлагающей, является природа? Думаешь ли ты, что есть на земле или в море такое живое существо, которое не восхищалось бы более всего живым существом своего же вида? Если бы это было не так, то почему бы быку не стремиться к совокуплению с кобылой, жеребцу – с коровой? Или ты считаешь, что орел или лев, или дельфин предпочитают какой-либо другой облик своему? Так что удивительного в том, что природа подобным же образом предписала и человеку считать, что нет ничего красивее человека, и что по этой-то причине мы и считаем богов похожими на людей.
XXVIII. (78) Как ты считаешь, если бы у животных был разум, не наделяло бы разве каждое из них высшими качествами свой вид? А я, клянусь Геркулесом! (говорю как думаю) хотя и люблю себя самого, однако не осмелюсь сказать, что я красивее, чем был тот бык, который унес Европу[137]. Здесь ведь речь идет не о наших талантах и не о нашем красноречии, а о внешнем облике. А если бы мы захотели придумать и присоединить себе формы тела, ты, наверное, не захотел бы стать таким, каким рисуют известного морского обитателя Тритона[138], которого везут по морю плывущие животные, присоединенные к его человеческому телу. Я касаюсь теперь трудного вопроса. Такова сила природы, что человек хочет быть похожим только на человека, а муравей только на муравья[139]. (79) Но на какого человека? Много ли среди людей красивых! Когда я был в Афинах, то в группах эфебов[140] красивых были единицы. Я понимаю, чему ты смеешься[141], но дело обстоит именно так. Кроме того, нам, которые, в согласии с древними философами, восхищаются юношами, часто даже недостатки их милы. Алкей восхищался родимым пятном на руке мальчика, а ведь родимое пятно – это телесный недостаток. Ему, однако, оно казалось украшением. Кв. Катул, отец нашего коллеги и приятеля, был влюблен в твоего земляка Росция[142], и это о нем были им даже написаны следующие строки[143]:
- Как-то однажды стоял я, явленье Авроры встречая[144],
- Росций является вдруг, с левой пришел стороны.
- О небожители, – вам не в обиду будь сказано это, —
- Смертного юноши вид бога прекраснее был.
Ему он показался прекраснее бога! А ведь у Росция, как и теперь еще, сильно косили глаза! Но что за беда, если Катулу именно это показалось пикантным и прелестным. Однако возвращаюсь к богам.
XXIX. (80) Будем ли мы считать, что некоторые из них, если не столь косоглазы, то все же слегка косят? Что некоторые имеют [на теле] родимые пятна? Что есть среди богов, как среди нас, людей, курносые, вислоухие, широколобые, большеголовые? Или у них все в наилучшем виде? Согласимся в этом с вами. Так что же, они все на одно лицо? Потому что в противном случае неизбежно одно божество окажется более красивым, чем другое. Стало быть, какой-то бог будет не наикрасивейшим. А если они все на одно лицо, то необходимо должна процветать в небе Академия[145]. Ибо если бог от бога ничем не отличается, то нет у богов никакого познания, никакого восприятия. Но если это совершенно неверно, почему же боги представляются нашему уму не иначе, как в человеческом образе? (81) Неужели ты, Веллей, все же будешь защищать подобную нелепицу? Нам-то, пожалуй, они действительно так представляются, как ты говоришь, потому что с малых лет[146] мы знаем Юпитера, Юнону, Минерву, Нептуна, Вулкана, Аполлона и других богов с тем обликом, который соизволили им придать живописцы и ваятели, и не только обликом, но и украшениями[147], возрастом, одеждой. Но ведь не так представляют себе богов египтяне, сирийцы, почти все варварские народы[148]. У них ты обнаружишь более высокие мнения о некоторых животных, чем у нас о высочайше чтимых храмах и изображениях богов. (82) Мы ведь знаем, сколь многие храмы ограблены были нашими соотечественниками, которые и изображения богов поуносили из самых почитаемых святилищ. А вот чтобы египтянин причинил вред крокодилу или ибису, или кошке, – это неслыханное дело[149]. А как ты считаешь, разве в знаменитом Аписе, священном быке египтян[150], не видели египтяне бога? Так же точно, клянусь Геркулесом, как ты никогда, даже во сне, не видишь вашу Юнону-спасительницу иначе как с козьей шкурой, с копьем, с маленьким щитом и в башмаках с загнутыми носками[151]. Но совсем не так выглядит Юнона Аргивская[152] или Юнона Римская. Выходит, что по-иному представляют себе образ Юноны аргивяне, по-иному – ланувийцы[153], по-иному – наши римляне. Так же как образ Юпитера Капитолийского мы представляем себе по-иному, чем африканцы – Юпитера Аммона[154].
XXX. (83) И не стыдно ли тебе, физику, т. е. наблюдающему и исследующему природу, искать свидетельства истины в душах, пропитанных предрассудками? Таким ведь образом можно будет утверждать, что Юпитер всегда бородатый, Аполлон всегда безбородый, что у Минервы глаза серые, а у Нептуна – голубые. Мы хвалим в Афинах изваянного Алкаменом[155] Вулкана. Он стоит легко одетый и приметна не обезображивающая его хромота. Стало быть, у нас будет также хромой бог, потому что мы восприняли такое представление о Вулкане?
А должны ли мы также считать, что боги носят те самые имена, которыми мы их назвали? (84) Но, во-первых, сколько у людей языков, столько же имен у богов. Вот ты, Веллей, куда бы ни прибыл, везде Веллей. Но Вулкана называют по-разному: в Африке по-иному, чем в Италии, еще по-иному в Испании. Кроме того, ведь число имен невелико, даже в книгах наших понтификов богов же неисчислимое множество. Что же, они обходятся без имен? Право, вам остается только сказать: «Да к чему им много имен, когда все они на одно лицо!» Но насколько красивее было бы с твоей стороны, Веллей, скорее сознаться в незнании того, что ты действительно не знаешь, чем, наболтав вздора до тошноты, стать самому себе противным.
Считаешь ли ты, что бог похож на меня или на тебя? Конечно не считаешь. Так может быть мне признать богом солнце? Или луну? Или небо? И, стало быть, признать, что они блаженны? От каких же наслаждений они испытывают блаженство? Признать, что они мудры? Но какая может быть мудрость в такого рода обрубке?[156] Вот каковы ваши утверждения.
(85) Но если боги ни человеческого облика не имеют, что я доказал, ни какого-либо другого, в чем ты сам убежден, то отчего ты не решаешься отрицать существование богов. Не смеешь. И мудро поступаешь, хотя здесь тебя удерживает страх не перед народом, а перед самими богами. Я знаю эпикурейцев, которые поклоняются[157] любой статуэтке, хотя знаю также таких, которым кажется, что Эпикур только на словах сохранил богов, чтобы не подвергнуться нападкам со стороны афинян, а на деле он богов уничтожил.
Итак, в этих его избранных кратких изречениях, которые вы называете κυριαι δοξαι[158] [ «главные мысли»], первое из них, по-моему, гласит: «Блаженное и бессмертное и само хлопот не имеет, и никому другому их не причиняет».
XXXI. Об этом так изложенном изречении некоторые думают, что Эпикур так выразился намеренно, а он это сделал по неумению ясно излагать свои мысли. Напрасно думают они плохо о человеке, менее всего способном на хитрость[159]. (86) Сомнительно, то ли он говорит «есть нечто блаженное и бессмертное», то ли, что «если есть нечто такое». Не обращают внимания на то, что здесь-то он говорит двусмысленно, но во многих других местах и он, и Метродор[160] [высказались] так же ясно, как немного ранее ты. Он действительно считает, что есть боги[161], и я не знаю никого другого, кто бы больше боялся того, чего, как он утверждает, вовсе не следует бояться: я имею в виду смерти и богов. Он провозглашает, что страх перед ними владеет умами всех людей, между тем как среднего человека это вовсе так сильно не волнует. Сколько тысяч людей разбойничают, хотя за это полагается смертная казнь. Другие грабят все храмы, какие только могут; не очень-то страшит одних страх перед смертью, а других перед богами.
(87) Но если ты, Эпикур (я обращаюсь сейчас уже к самому Эпикуру), если ты не смеешь отрицать бытие богов, то что препятствует тебе причислить к богам или солнце, или мир, или некий вечный разум? «Я никогда, – говорит он, – не видел душу, причастную уму и рассудку, ни в каком ином облике, кроме как в человеческом». Как? А что-нибудь подобное солнцу или луне, или пяти планетам ты видел? Солнце, ограничивая свое движение двумя крайними пунктами одного пояса, совершает свои годичные пути. Освещаемая лучами того же солнца луна совершает этот же обход в месячный промежуток времени. И пять планет, придерживаясь того же круга, одни поближе к земле, другие подальше от тех же самых пунктов, проходят те же пути в разные промежутки времени. Видел ли ты, Эпикур, что-нибудь подобное этому? Если существует только то, что мы можем пощупать или что мы видим, то не существуют ни солнце, ни луна, ни звезды.
(88) А бога самого ты видел? Нет? Так почему ты веришь, что он есть? Давай же будем считать не бывшим все, о чем нам или сообщает история, или открывает нового разум.
Бывает, что люди, обитающие в местах, далеких от морей, не верят, что есть море. Какая узость ума! Это как если бы ты, родившись на маленьком островке Серифе[162] и никогда не выезжая с острова, на котором видел только зайчиков и лисичек, не поверил бы, что существуют львы и пантеры, когда бы тебе описали, какие они есть, а если бы тебе кто-нибудь еще рассказал о слоне, то ты бы даже посчитал, что над тобой смеются.
(89) Но ты, Веллей, все же рассуждал еще не так, как ваши, а по методу диалектиков, основы которых ваша школа не знает, ты доказывал свои мнения путем умозаключения. Ты начал с утверждения, что боги блаженны. Согласен. Что никто не может быть блаженным без добродетели. И с этим также соглашаюсь, и даже охотно.
XXXII. Добродетель же невозможна без разума. С этим также следует согласиться. А разум, добавляешь ты, может быть только в существе человеческой наружности. Кто, по-твоему, с этим согласится? Ибо если это так, то какая тебе была нужда переходить к этому постепенно? Ты имел бы право сразу принять за основу это положение. Что это за постепенность? Ибо как ты по ступенькам идешь от блаженства к добродетели, от добродетели к разуму – я вижу; а вот каким образом ты приходишь от разума к человеческой фигуре? Это уже не спуск, а падение.
(90) Я же не понимаю, почему Эпикур предпочел утверждать, что боги похожи на людей, а не люди на богов. Спросишь, какая разница? Ведь если это похоже на то, стало быть, то похоже на это. Верно. Но на это я отвечу; не от наружности людей перешла фигура к богам, ибо боги всегда были, ведь они никогда не родились, если только они вечны, а люди рождены. Стало быть, форма человеческая, – а это была форма бессмертных богов, – была раньше, чем люди. Следовательно, должно сказать, что не боги имеют человеческий облик, а люди – божественный. Впрочем, и это – как хотите. Но вот что я вас спрашиваю: вы, утверждающие, что в делах природы разум никакой роли не играет, скажите, что это была за счастливая случайность? (91) Как произошло это счастливое стечение атомов, в результате которого вдруг родились люди божественного облика? Должны ли мы считать, что с неба на землю упало семя богов, и таким образом появились люди, похожие на своих отцов? Хотел бы я, чтобы вы так ответили, охотно узнал бы о своем родстве с богами. Но вы ничего подобного не говорите, вы утверждаете, что наше сходство с богами – дело случая. Неужели еще следует искать доказательств для опровержения этого? О если бы я мог так же легко найти истину, как обнаружить ложное!
XXXIII. Ты изложил мнения о природе богов философов, начиная с Фалеса Милетского, проявив при этом и память, и красноречие так, что меня даже приятно удивило встретить в римлянине такую эрудицию. (92) И тебе показалось, что бредят все те, которые решили, что бог может обходиться без рук, без ног? Но если вы рассудите, в чем польза и удобство для человека от этих членов, то не приведет ли это вас к заключению, что боги-то в человеческих органах и не нуждаются? Ибо какая нужда в ногах тому, кто не ходит? Какая – в руках, если ничего не нужно хватать? К чему перечислять все остальные части тела, в котором нет ничего напрасного, ничего беспричинного, ничего излишнего? Ведь никакое искусство не может превзойти изобретательности природы. Так что же, бог будет иметь язык и не говорить, зубы, горло, нёбо – без всякого употребления? Бог будет иметь те члены, которые природа придумала нашему телу ради произведения потомства, и тоже напрасно. И это относится не только к внешним органам, но не в меньшей степени и к внутренним: сердцу, легким, печени и прочим; если в них нет пользы, то что в них красивого? А ведь вы хотите, чтобы у бога все это было из-за красоты. (93) Веря в этот бред, не только Эпикур и Метродор, и Гермарх[163] выступали против Пифагора, Платона и Эмпедокла, но даже гетера Леонтия[164] (Leontium) осмелилась писать против Теофраста, правда, остроумным языком и в аттическом стиле, но однако… Вот какая распущенность расцвела в эпикуровом саду![165] Вы привыкли горячиться. Зенон даже бранился. А что сказать об Альбуции?[166]
