Хакасия. Прогулки рука об руку
Размер шрифта: 13
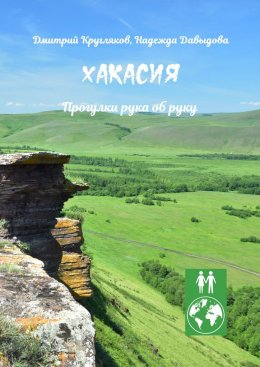
© Дмитрий Кругляков, 2024
© Надежда Давыдова, 2024
ISBN 978-5-0065-1534-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Продолжить чтение
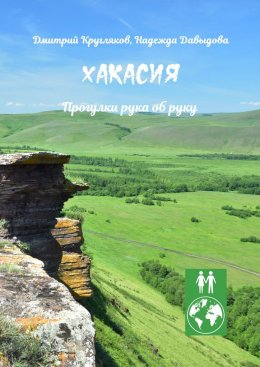
© Дмитрий Кругляков, 2024
© Надежда Давыдова, 2024
ISBN 978-5-0065-1534-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero