Страж мертвеца
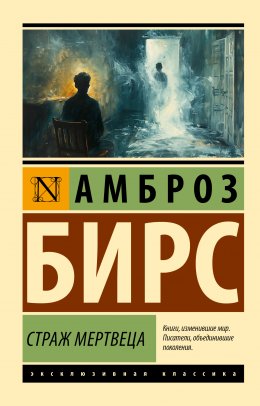
© Перевод. И. Архангельская, наследники, 2024
© Перевод. Н. Волжина, наследники, 2024
© Перевод. И. Калашникова, наследники, 2024
© Перевод. В. Кулагина-Ярцева, 2024
© Перевод. М. Лорие, наследники, 2024
© Перевод. Л. Мотылев, 2024
© Перевод. Н. Рахманова, 2024
© Перевод. А. Рослова, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Без вести пропавший [1]
Джером Сиринг, рядовой в армии генерала Шермана, стоявшей против неприятеля у горы Кенесо, в штате Джорджия, повернулся спиной к группе офицеров, с которыми он только что разговаривал о чем-то шепотом, перебрался через узкую линию окопов и исчез в лесу. Никто из находившихся в окопах людей не сказал ему ни слова, и сам он ограничился только, проходя мимо них, кивком головы, – но все понимали, что этому храбрецу поручено какое-то опасное дело. Джером Сиринг, будучи простым рядовым, тем не менее в строю не служил; он был откомандирован для службы при главном штабе дивизии и был внесен в списки в качестве ординарца. Понятие «ординарец» включает в себя массу всевозможных обязанностей. Ординарец может быть курьером, писарем, денщиком – всем, чем угодно. Он может исполнять такие обязанности, которые не предусмотрены никакими приказами и военными инструкциями; природа их может зависеть от способностей самого ординарца, от расположения начальства, наконец, просто от случайности.
Рядовой Сиринг, не имевший соперников стрелок, очень молодой – прямо поразительно, до чего мы все были в то время молоды, – сильный, умный, не знающий, что значит страх, был разведчиком. Генерал, командовавший его дивизией, не любил слепо подчиняться приказаниям свыше, не узнав расположения неприятеля, даже в тех случаях, когда его часть не была передовым отрядом, а составляла только часть боевой линии армии. Он не довольствовался также сведениями, которые он получал о своем визави обычным путем; он желал знать больше того, что сообщал ему корпусный командир и что могли дать ему стычки между пикетами и застрельщиками. Отсюда и родилась потребность в Джероме Сиринге, с его необычайной отвагой, меткостью в стрельбе, острым зрением и правдивостью. В данном случае полученные им инструкции были несложны: подойти к неприятельским позициям как можно ближе и узнать все, что будет в его силах.
Через несколько мгновений он был уже на линии пикетов; караульные лежали группами по два и по четыре человека за низкими земляными прикрытиями; их ружья высовывались из-за зеленых веток, которыми они маскировали свои маленькие крепостцы. Лес густой стеной тянулся к линии фронта; он стоял такой торжественный и безмолвный, что только человек с большим воображением мог бы представить себе, что он полон вооруженных людей, чутко прислушивающихся к каждому шороху, и что он таит в себе грозные возможности битвы.
Задержавшись на минуту около пикета, чтобы сообщить людям о данном ему поручении, Сиринг осторожно пополз вперед на руках и коленях и скоро исчез из виду в густой чаще кустарника.
– Только мы его и видели, – сказал один из солдат. – Жаль, что он не оставил здесь свое ружье.
Сиринг полз, пользуясь для прикрытия каждой кочкой или кустом. Глаза его зорко следили за всем, уши улавливали малейший звук. Он дышал чуть слышно, а когда раздавался треск раздавленной его коленом ветки, он останавливался и прижимался к земле. Это была медленная, но нескучная работа: опасность придавала ей интерес, но этот интерес разведчику приходилось скрывать. Пульс у него бился так же правильно и нервы у него были так же спокойны, как если бы он ловил воробьев.
«Кажется, прошло уж много времени, – подумал он, – но я, должно быть, ушел недалеко; я еще жив».
Он улыбнулся своему способу измерения времени и пополз дальше. Минуту спустя он прижался к земле и долго лежал так без движения. Сквозь тесный просвет в кустах он различил небольшую насыпь из желтой глины – это было прикрытие неприятельского пикета.
Спустя некоторое время он осторожно, дюйм за дюймом, поднял голову, потом приподнялся на широко расставленных руках, не спуская напряженного взгляда с глиняной насыпи. Через секунду он был уже на ногах, с ружьем в руках, и крупными шагами направился вперед, мало заботясь о том, чтобы скрыть свое присутствие. Он понял по некоторым признакам, что неприятель покинул этот окоп.
Чтобы убедиться в этом окончательно, Сиринг, прежде чем возвратиться и сообщить такое важное известие, бросился вперед. Перебравшись через линию покинутых окопов и переходя от прикрытия к прикрытию, он вышел в более редкий лес, зорко высматривая, не остался ли здесь кто-нибудь из врагов. Так он дошел до окраин какой-то плантации; это было одно из тех заброшенных, покинутых имений, которых стало так много за последние годы войны; усадьба заросла терновником, заборы были сломаны, дом стоял необитаемый, с зияющими дырами на месте дверей и окон. Окинув все это зорким глазом из-за группы молодых сосен, Сиринг быстро пробежал через поле и сад к маленькому строению, стоявшему отдельно от других на небольшом возвышении; ему казалось, что оттуда легко будет окинуть взглядом большое пространство в том направлении, куда, по всей вероятности, скрылся неприятель.
Это строение, состоявшее из одной комнаты, возвышалось на четырех столбах футов в десять вышины; теперь от него почти ничего не осталось, кроме крыши; пол развалился, балки и доски валялись на земле или торчали в разные стороны, сидя в своих гнездах только одним концом. Столбы, поддерживавшие здание, утратили вертикальное положение. Казалось, что все здание рухнет, если до него дотронуться пальцем.
Скрывшись за переплетенными досками и балками, Сиринг смотрел на расстилавшуюся перед ним открытую местность, которая была видна ему вплоть до отрога горы Кенесо, за полмили отсюда. Дорога, которая вела на этот отрог и через перевал, была покрыта войсками – арьергардом отступавшей армии, – и стволы их ружей сверкали на солнце.
Сиринг узнал теперь все, на что он мог рассчитывать. Долг призывал его как можно скорее вернуться в свою часть и сообщить о своем открытии. Но серая колонна пехоты, взбиравшаяся на гору, представляла собой сильное искушение. Его ружье – обыкновенный «спрингфилд», только снабженный особой мушкой и дальномером, – было способно без всякого затруднения послать в самую гущу врага полторы унции свинца.
Это, конечно, не могло повлиять на длительность или на исход войны, но ремесло солдата в том, чтобы убивать. Сиринг прицелился и положил палец на спусковой крючок.
Но еще с изначальных времен было предрешено, что рядовой Сиринг никого не убьет в это ясное летнее утро и не сообщит своему начальству об отступлении конфедератов. Бесчисленное количество веков события известным образом переплетались между собой в этой удивительной мозаике, некоторым неясным частям которой мы присваиваем название «история». Они переплетались между собою так, что поступки, которые хотел совершить Сиринг, нарушили бы всю гармонию рисунка.
Сила, которой поручено следить за тем, чтобы ткань истории точно соответствовала утвержденному рисунку, еще двадцать пять лет назад приняла свои меры к тому, чтобы рядовому Сирингу не удалось в это чудное утро спустить курок. Для этого она дала жизнь ребенку мужского пола в маленькой деревушке у подножия Карпат, воспитала его, заботливо следила за его образованием, направила его стремления в сторону военной карьеры и в должное время сделала его артиллерийским офицером. Благодаря стечению бесчисленного количества благоприятных обстоятельств и перевесу их над бесчисленным же количеством неблагоприятных вышеупомянутый офицер совершил нарушение дисциплины и, чтобы избегнуть наказания, бежал с родины. Он попал (не без участия той же Высшей силы!) в Новый Орлеан (вместо Нью-Йорка), а там, на пристани, его поджидал уже набиравший рекрутов офицер. Он вступил в армию, скоро получил повышение, и обстоятельства в конце концов сложились так, что в настоящий момент он командовал батареей южан, стоявшей мили за три от того места, где Джером Сиринг, разведчик северян, стоял с оружием наготове. Ничто не было упущено из виду как в обстоятельствах жизни этих двух живых людей, так и в жизни их предков и современников, – и даже в жизни современников их предков, – чтобы желаемый результат наступил. Если бы в этом длинном ряде сцепляющихся событий что-либо было недосмотрено, рядовой Сиринг мог бы выстрелить в отступающих южан и, возможно, промахнулся бы. Случилось же так, что артиллерийский капитан, в ожидании своей очереди уйти со своей батареей с позиции, забавлялся тем, что наводил полевое орудие наискось вправо, на гребень холма, где, как ему казалось, он усмотрел несколько офицеров-северян, и наконец разрядил его. Заряд упал значительно выше цели.
В тот момент Джером Сиринг, придерживая курок и глядя на видневшихся вдали южан, соображал, куда ему нацелиться, чтобы в результате в мире стало больше одной вдовой, одним сиротой или одной осиротевшей матерью, может быть, и всеми тремя разновидностями человеческого горя (хотя рядовой Сиринг и отказывался от повышения, причем неоднократно, его никак нельзя было обвинить в отсутствии честолюбия). Вдруг он услышал в воздухе звук, напоминавший шум крыльев хищной птицы, кидающейся на свою добычу. Прежде чем он успел что-либо сообразить, этот шум перешел в какой-то хриплый, ужасающий рев, и снаряд, как будто упавший с неба, с оглушительным шумом ударил в один из столбов, поддерживавших над его головой беспорядочную груду бревен и досок; столб превратился в щепки, и ветхое строение с грохотом рухнуло в туче слепящей глаза пыли!
Когда Джером Сиринг пришел в сознание, он не сразу понял, что, собственно, произошло. Прежде чем он открыл глаза, прошло еще немного времени. Сначала ему показалось, что он умер и похоронен, и он старался вспомнить какие-нибудь подробности погребальной церемонии. Ему казалось, что его жена стоит на коленях на его могиле и это делает землю, которая навалилась ему на грудь, еще тяжелее. Земля вместе со вдовой, наверно, раздавили его гроб. Хорошо, что дети уговорили ее наконец уйти домой, а то ему невозможно было бы больше дышать. Он почувствовал себя виноватым. «Я не могу говорить с ней, – подумал он, – ведь у мертвецов нет голоса. А если я открою глаза, их засыплет землей».
Он все-таки открыл глаза; безграничный простор голубого неба расстилался над верхушками деревьев. На первом плане, загораживая некоторые деревья, возвышался высокий, темный, скошенный каким-то углом холмик, через который проходила целая система беспорядочно переплетенных прямых линий; в центре ее светилось яркое металлическое кольцо; оно светилось на неизмеримо далеком расстоянии – настолько далеком, что эта беспредельность утомила его, и он закрыл глаза. В тот момент, когда он сделал это, он испытал ощущение невыносимо яркого света. В ушах его раздавался шум, похожий на низкий, ритмический звук морского прибоя, и из этого шума, составляя как бы часть его, а может быть, приходя откуда-то издалека, отчетливо выделялись слова: «Джером Сиринг, ты попался, как крыса в ловушку… в ловушку, в ловушку, в ловушку».
Потом вдруг наступило молчание, черный мрак, бесконечное спокойствие, и Джером Сиринг, прекрасно сознававший свое крысиное положение и вполне уверенный в том, что он попал в ловушку, вспомнил все и, нисколько не испуганный, снова открыл глаза, чтобы осмотреться, оценить силу врага и составить план своего освобождения.
Он был захвачен в наклонном положении; спина его упиралась в толстое бревно. Другое бревно лежало на его груди, но он сумел отодвинуться немного в сторону, так что оно перестало давить его, хотя само и не сдвинулось с места.
Планка, прикрепленная к этому бревну под углом, притиснула его левым боком к груде досок, сдавив ему при этом левую руку. Его ноги, лежавшие на земле и раскинутые в стороны, были покрыты до колен грудой обломков, закрывавшей от него даже его ограниченный горизонт. Голова его была как будто охвачена тисками; он мог только скользить взглядом и слегка двигать подбородком. Лишь правая рука его была отчасти свободна. «Ты должна помочь нам выбраться отсюда», – сказал он своей правой руке. Но он не мог вытащить ее из-под тяжелого бревна, улегшегося ему поперек груди.
Сиринг не был тяжело ранен и не чувствовал боли. Рана на голове, нанесенная ему осколком расколотого столба и совпавшая со страшным потрясением, которое испытала его нервная система, вдруг лишила его сознания. Бессознательное состояние вместе с первым моментом пробуждения, когда мозг его еще был полон причудливых фантазий, длилось не более нескольких секунд; пыль, вызванная падением здания, еще не успела улечься, когда он приступил к разумному обсуждению своего положения.
Двигая свободной частью правой руки, он пробовал теперь освободиться от бревна, лежавшего поперек его груди. Но это ему не удавалось. Он был не в состоянии освободить плечо настолько, чтобы он мог сделать что-нибудь при помощи кисти руки. Планка, прикрепленная к бревну под углом, тоже мешала ему. Было очевидно, что он не может ни просунуть руку под бревно, ни положить ее на бревно сверху. Убедившись в невозможности освободиться от бревна, он отказался от этого плана и стал размышлять, не сможет ли он дотянуться до обломков, заваливших его ноги.
Когда он, чтобы решить этот вопрос, обвел взглядом кучу обломков, внимание его было привлечено предметом, находившимся прямо против его глаз и напоминавшим кольцо из блестящего металла. Сначала ему показалось, что это кольцо охватывает какой-то совершенно черный предмет не более чем в полдюйма в диаметре. Вдруг ему пришла в голову мысль, что этот черный предмет не что иное, как тень, и что кольцо на самом деле – дуло его ружья, высунувшееся из кучи обломков. Это открытие удовлетворило его ненадолго, если тут вообще могла быть речь об удовлетворении. Закрывая один глаз, он мог рассмотреть весь ствол – вплоть до той его части, которая была скрыта вместе с прикладом грудой мусора. Он мог видеть каждым глазом соответствующую сторону ствола. Когда он глядел правым глазом, оружие казалось направленным влево от его головы, и наоборот. Он не мог видеть верхнюю поверхность ствола, но мог видеть под легким углом нижнюю часть приклада. Дуло было направлено как раз в середину его лба.
Убедившись в этом и припомнив, что перед самым несчастьем, повлекшим за собой эту до дикости нелепую ситуацию, он взвел курок и поставил собачку в такое положение, что достаточно было малейшего прикосновения, чтобы раздался выстрел, рядовой Сиринг почувствовал беспокойство. Но чувство это было далеко от страха; он был храбрым человеком, привыкшим видеть перед собой ружейные дула – да и пушечные жерла тоже, – и теперь он вспомнил, с чувством, близким к удовольствию, эпизод из своего прошлого, когда они брали штурмом Миссионерскую гору. Он поднялся к неприятельской амбразуре, из которой торчало жерло пушки, выпускавшей в толпу осаждающих снаряд за снарядом. С минуту ему казалось, что орудие убрали; он не видел в отверстии ничего, кроме медного кольца; он тогда только понял, что это и есть пушка, когда это кольцо – едва он успел податься в сторону – выбросило по кишевшему людьми склону еще тучу картечи. Видеть направленное на себя огнестрельное оружие, за которым блестят огнем ненависти чьи-то глаза, – это самое заурядное явление в жизни солдата. И тем не менее рядовой Сиринг был не вполне доволен своим положением и отвел глаза от смотревшего на него дула его собственного ружья.
Бесцельно пошарив некоторое время правой рукой, он сделал безуспешную попытку освободить свою левую руку. Потом он попробовал высвободить голову, так как невозможность двинуть ею и неизвестность, что именно удерживает ее, стали его раздражать. Затем он попробовал вытащить из-под груды обломков ноги, но, в то время как он напрягал для этого могучие мускулы своих ног, ему пришло в голову, что, разворашивая мусор, он может задеть ружье и разрядить его. Он припомнил случай, когда в минуту какого-то самозабвения он взял ружье за ствол и начал прикладом выколачивать мозги из головы какого-то джентльмена и только потом сообразил, что ружье, которым он так размахивал, было заряжено и курок был поднят. Если бы это обстоятельство было известно его противнику, он, несомненно, сопротивлялся бы дольше. Сиринг всегда улыбался, вспоминая этот свой промах; но ведь в ту пору он был еще неопытным новичком! Сейчас ему было не до улыбки. Он снова повернул глаза в сторону дула ружья, и с минуту ему казалось, что оно передвинулось: оно казалось теперь несколько ближе.
Он опять отвернулся. Его внимание привлекли верхушки далеких деревьев, росших позади плантации; он никогда раньше не замечал, как они легки и ажурны и как густа синева неба даже в тех местах, где она казалась немного бледнее от зелени листьев; прямо над головой оно казалось почти черным. «Здесь будет невероятная жара, – подумал он, – когда наступит день. Интересно знать, куда обращено мое лицо?»
По тени он решил, что лицо его обращено к северу – это хорошо! По крайней мере, солнце не будет слепить ему глаза; кроме того, на севере живут его жена и дети.
– Ах! – громко воскликнул он. – Им-то от этого разве легче?
Он закрыл глаза. «Если я не могу выбраться отсюда, мне остается только спать. Южане ушли, а наши молодцы, наверно, будут здесь шнырять для фуражировки и найдут меня».
Но ему не спалось. Мало-помалу он стал чувствовать боль в голове – тупую боль, едва заметную вначале, но все усиливавшуюся и усиливавшуюся. Когда он открыл глаза, боль исчезла; закрыл – она возобновилась. «Черт возьми!» – воскликнул он и опять уставился на небо. Он слышал пение птиц, странные металлические ноты жаворонка, напоминающие лязг сталкивающихся клинков. Он погрузился в приятные воспоминания о своем детстве, он снова играл с братьями и сестрами, бегал по полям, спугивал криком жаворонков из их гнезд, блуждал по сумрачному лесу, робкими шагами добирался по едва заметной тропинке до скалы Привидения и там, с бьющимся сердцем, останавливался перед пещерой Мертвеца, горя желанием проникнуть в ее страшную тайну.
Впервые теперь он заметил, что вход в таинственную пещеру окружен металлическим кольцом. Потом все исчезло, и он снова, как раньше, смотрел на дуло своего ружья. Но тогда как раньше оно казалось ближе, теперь оно как будто отодвинулось на неизмеримо далекое расстояние. И это казалось еще страшнее. Он закричал и, пораженный необычайным звуком своего голоса – в нем звучал страх! – солгал перед собой, как бы оправдываясь: «Если я не буду кричать, я пролежу здесь до самой смерти».
Теперь он уже не делал усилий, чтобы уклониться от угрожавшего ему дула. Когда он отводил на минуту глаза в сторону, он делал это только затем, чтобы искать помощи; потом он опять переводил их, повинуясь какой-то притягательной силе, на ружье. Он закрывал их только от утомления, и тотчас же острая боль во лбу – пророчество угрожающей пули – заставляла его открыть их.
Нервное напряжение, которое он переживал, было невыносимо; природа приходила к нему на помощь, лишая его моментами сознания. Очнувшись после одного припадка забытья, он почувствовал острую, жгучую боль в правой руке: когда он шевелил пальцами или проводил ими по ладони, он чувствовал, что они мокрые и липкие. Он не видел своей руки, но было ясно, что это по ней течет кровь. В момент беспамятства он колотил рукой по зазубренным краям обломков и исколол ее занозами. Он решил, что надо встретить судьбу более мужественно. Он был простой, обыкновенный солдат, чуждый религии и мало склонный к философии. Он не может умереть как герой, с громкими и мудрыми словами на устах, даже если бы и было кому их слушать, но он может умереть как мужчина, и он сделает это. Эх, если бы он только мог знать, когда раздастся выстрел!
Несколько крыс – по-видимому, давние обитательницы здания – пришли, обнюхивая воздух, и зашныряли кругом. Одна из них взобралась на кучу обломков, под которой лежало ружье; за ней последовала другая, третья. Сиринг глядел на них сначала безучастно, потом заинтересовался ими; но, когда его смятенный ум пронзила мысль, что они могут задеть курок, он криком прогнал их.
– Это не ваше дело! – крикнул он.
Крысы ушли; они вернутся потом, взберутся на его лицо, отъедят ему нос, перегрызут горло – он знал это, но надеялся, что до тех пор он успеет умереть.
Теперь ничто не отвлекало его взгляда от маленького металлического кольца с черной дырой посередине. Острая боль во лбу не прекращалась ни на минуту. Он чувствовал, как она проникала все глубже и глубже в мозг, пока ее не остановило бревно, на котором покоилась его голова. Моментами она становилась невыносимой; тогда он начинал неистово колотить своей израненной рукой по щепкам, чтобы заглушить эту ужасную боль. Казалось, что она пульсирует медленными, регулярными толчками, и каждый следующий толчок казался сильнее и острее предыдущего. Временами ему казалось, что фатальная пуля наконец попала ему в голову; он вскрикивал. Уже не было мыслей о доме, о жене и детях, о родине, о славе. Все впечатления стерлись. Весь мир исчез без следа. Здесь, в этом хаосе деревянных обломков, сосредоточилась вся вселенная. Здесь было бессмертие – каждое страдание длилось бесконечно. Его пульс отбивал вечность.
Джером Сиринг, этот храбрец, грозный противник, сильный, решительный боец, был теперь бледен, как привидение. Нижняя челюсть его отпала, глаза вылезли из орбит, он дрожал, как струна, все тело его покрылось холодным потом, он пронзительно застонал. Он не сошел с ума – он был повергнут в ужас.
Шаря кругом себя своей истерзанной, окровавленной рукой, он наконец ухватился за палочку, кусок расщепленной доски, и, толкнув ее, почувствовал, что она поддается. Она лежала параллельно его телу… Согнув, насколько позволяло место, свой локоть, он мог мало-помалу отодвинуть ее на несколько дюймов. Наконец она была совершенно освобождена из мусора, покрывавшего его ноги. Он мог поднять ее во всю длину. Великая надежда озарила его душу: может быть, он сможет продвинуть ее выше – или, правильнее говоря, назад – настолько, чтобы приподнять конец ствола и отвести в сторону ружье; или если оно засело там очень крепко, то держать палочку так, чтобы пуля отклонилась в сторону. С этой целью он толкал палочку назад, дюйм за дюймом, сдерживая дыхание из боязни, чтобы это не отняло у него силы, и более чем когда-либо был не способен отвести глаза от ружья, которое теперь, быть может, поспешит воспользоваться ускользающей возможностью. Во всяком случае, он чего-то достиг: занятый попыткой спасти себя, он не так остро чувствовал боль в голове и перестал стонать. Но он все еще был перепуган насмерть, и зубы его стучали, как кастаньеты.
Палочка перестала двигаться под давлением его руки. Он навалился на нее что было силы и изменил, насколько был в силах, ее направление, но вдруг встретил какое-то препятствие позади; конец ее был еще слишком далеко, чтобы он мог достать дуло ружья. Правда, в длину она почти доходила до курка, который не был погребен в куче мусора, и потому он мог кое-как видеть его правым глазом. Он пробовал переломить палочку рукой, но у него не было для этого опоры. Когда он убедился в неудаче, страх вернулся к нему с удесятеренной силой. Черное отверстие дула, казалось, угрожало ему еще более тяжелой и неминуемой смертью, как бы в наказание за его попытку к возмущению. Место в голове, где должна была пройти пуля, стало болеть еще сильнее. Его опять стало трясти.
И вдруг он успокоился. Дрожь прекратилась. Он стиснул зубы и опустил веки. Он еще не истощил всех средств к спасению: в уме его обрисовался новый план освобождения. Подняв передний конец палочки, он начал осторожно проталкивать ее сквозь мусор, вдоль ружья, пока она не коснулась курка. Потом, закрыв глаза, он нажал ею изо всей силы на курок.
Выстрела не последовало, ружье разрядилось в тот момент, когда выпало из его рук. Но Джером Сиринг был мертв.
Лейтенант Адриан Сиринг, командовавший одним из пикетов, через которые прошел его брат Джером, когда он отправлялся на разведку, сидел за бруствером, внимательно прислушиваясь к окружающему. Ухо его улавливало самые слабые звуки: крик птицы, лай белки, шорох ветра в ветках сосен – ничто не ускользало от его напряженного внимания. Вдруг прямо против линии, которую занимал его отряд, он услышал слабый, беспорядочный гул; он был похож на смягченный расстоянием шум от упавшего строения. В эту минуту к нему подошел сзади офицер.
– Лейтенант, – произнес адъютант, отдавая честь, – полковник приказывает вам продвинуться вперед и нащупать врага, если вы его найдете. В противном случае продолжайте продвигаться до тех пор, пока не получите приказа остановиться. Есть основание думать, что неприятель отступил.
Лейтенант кивнул головой, не сказав ни слова; офицер удалился. Через минуту солдаты, шепотом оповещенные сержантами о выступлении, вышли из-за прикрытий и двинулись рассыпным строем вперед; зубы у них были стиснуты, сердца сильно колотились. Лейтенант машинально взглянул на часы: восемнадцать минут седьмого.
Отряд застрельщиков-северян продвигался через плантацию к горе. Они обошли разрушенное здание с двух сторон, ничего не заметив. Позади них, на коротком расстоянии, следовал их командир, лейтенант Адриан Сиринг. Он с любопытством посмотрел на руины и увидел мертвое тело, наполовину засыпанное обломками досок и бревен. Оно было так густо покрыто пылью, что его одежда напоминала серую форму южан. Лицо убитого было белое, с желтизной; щеки его провалились, виски сморщились и странно уменьшили лоб; верхняя губа, слегка приподнятая, обнажала белые, плотно сжатые зубы. Волосы его были смочены потом, а лицо было мокрое, как покрытая росой трава вокруг. С того места, где стоял офицер, ружье не было видно; человек, казалось, был убит при падении здания.
– Умер неделю назад, – сказал офицер и машинально вынул часы, как бы для того, чтобы проверить, верно ли он определил время: шесть часов сорок минут.
Случай в теснине Колтера [2]
– Как вы считаете, полковник, ваш бравый Колтер поставил бы здесь пушку? – спросил генерал.
Очевидно, он говорил не совсем серьезно: даже самый отчаянный артиллерист не поставил бы здесь орудие. Полковнику подумалось, что командир дивизии шутливо намекал на их последний разговор, в котором полковник излишне хвалил капитана Колтера за храбрость.
– Генерал, – ответил он как можно мягче, указывая в направлении противника, – Колтер поставил бы пушку где угодно, только бы ядра долетели до этих людей…
– Это единственная позиция, – заметил генерал.
Значит, он не шутил.
Речь шла о впадине на остром гребне холма. По ней пролегала огороженная извилистая дорога, которая, достигнув вершины, полого спускалась через редкий лесок к рядам противника. На милю влево и вправо склон заняла пехота федералов. Казалось, будто атмосферное давление прижало ее к земле, не давая подняться выше.
Этот участок был недоступен для вражеской артиллерии. Пушку можно было поставить только в теснине, всю ширину которой занимала дорога. Со стороны конфедератов эта точка простреливалась двумя батареями, разместившимися в километре от впадины, на соседнем склоне за ручьем. Все пушки, кроме одной, скрывались за садовыми деревьями, одна же была дерзко выставлена на открытую лужайку прямо перед пышной усадьбой плантатора. Но несмотря на это, орудие находилось в безопасности, поскольку пехота получила приказ не стрелять. Таким образом, в тот прелестный летний день вряд ли кто-нибудь захотел бы поставить пушку в теснине Колтера – так называлась эта впадина.
Прямо на дороге лежали три или четыре мертвые лошади, а трупы их всадников разбросало по краю дороги и ниже по склону. Все были кавалеристами войск Федерации, за исключением квартирмейстера. Генерал, командующий дивизией, и полковник, возглавляющий бригаду, поднялись на холм вместе с сопровождением и штабными, чтобы оценить артиллерию противника, которая немедленно окуталась клубами дыма. Осматривать орудия с повадками каракатицы – бесполезная затея, поэтому разведку решили прекратить. По окончании спешного отступления, завершившего вылазку, и состоялась беседа, свидетелями которой мы стали.
– Достать их можно только отсюда, – задумчиво повторил генерал.
Полковник серьезно взглянул на него.
– Здесь едва хватит места для одной пушки, генерал. Одной против двенадцати.
– Верно, только одной, – ответил командир, будто собираясь, но так и не собравшись улыбнуться. – Но ведь ваш бравый Колтер сто́ит целой батареи.
Теперь ирония была очевидна. Это разозлило полковника, но он не нашелся, что ответить. Дух военной субординации не терпит ни пререканий, ни обсуждений.
В эту минуту по дороге не спеша поднялся молодой артиллерийский офицер в сопровождении сигналиста. Это и был капитан Колтер. На вид – не более двадцати трех лет, среднего роста, стройный и гибкий, а его посадка в седле выдавала в нем гражданского. Особенно же выделялось его лицо: тонкие черты, вздернутый нос, серые глаза, светлые усики и длинные спутанные волосы. Одежда его была в некотором беспорядке. Фуражка сдвинута чуть набекрень, мундир застегнут только в районе портупеи, обнажая белую рубаху, довольно чистую для текущей стадии боевых действий. Тем не менее небрежны были только его вид и посадка, на лице же был написан живейший интерес к окружающему. Его серые глаза обшаривали окрестности, как прожекторы, большей частью задерживаясь на небе над тесниной, хотя до тех пор, пока капитан не добрался до вершины, там ничего невозможно было разглядеть.
Поравнявшись с командирами дивизии и бригады, артиллерист механически отдал честь и собирался проехать мимо. Полковник дал ему знак остановиться.
– Капитан Колтер, – сказал он, – на следующем подъеме противник расположил двенадцать орудий. Если я правильно понял генерала, он приказывает вам выкатить пушку на вершину холма и вступить в бой.
Повисло молчание. Генерал бесстрастно наблюдал за похожим на рваное облако синего дыма полком, продирающимся сквозь густые заросли вверх по склону холма. Но капитан не смотрел на командира. Он заговорил, медленно и с заметным усилием:
– На следующем подъеме, сэр? Орудия расположены возле дома?
– А, вы раньше бывали здесь. Прямо у дома.
– И нам действительно… необходимо… атаковать их? Приказ не подлежит обсуждению?
Он заметно побледнел. Его голос охрип и срывался. Полковник был изумлен и задет. Он украдкой взглянул на командира, но лицо того было неподвижно. Оно казалось отлитым из бронзы.
Мгновением позже генерал двинулся прочь вместе со штабными и сопровождающими. Полковник, униженный и возмущенный, хотел было отдать капитана Колтера под арест, но тот тихо бросил несколько слов сигналисту, отдал честь и поскакал прямо к теснине, где остановил лошадь и поднес бинокль к глазам, застыв, как изваяние, и резко выделяясь на фоне неба.
Сигналист притормозил и исчез в лесу. Его рожок запел среди кедров, и почти сразу оттуда появилась, грохоча и подпрыгивая в облаке пыли, замаскированная и готовая к бою пушка, запряженная шестеркой лошадей и сопровождаемая полным артиллерийским расчетом. Ее повезли мимо мертвых лошадей по направлению к роковому гребню. Взмах руки капитана, расторопные движения заряжающих, и сразу, как только затих грохот колес, огромное белое облако поплыло вниз по склону, и оглушительный выстрел ознаменовал начало сражения в теснине Колтера.
Не будем описывать в подробностях события и ход этого страшного боя – он шел к очевидному исходу, менялся лишь накал отчаяния. В ту же секунду, когда орудие капитана Колтера изрыгнуло облако дыма, двенадцать облаков поднялись в ответ из-за деревьев, окружающих усадьбу плантатора. Глубокое многоголосое эхо раскатилось по долине, и с той минуты до самого конца канониры Федерации вели свой безнадежный бой в вихре живого металла, чей полет подобен молнии и чье деяние – смерть.
Не желая наблюдать за борьбой, которой не мог помочь, и за бойней, которую не мог предотвратить, полковник поднялся по склону в паре сотен метров слева от теснины, которая, хоть и не была видна оттуда, изрыгала все новые и новые клубы дыма и походила на жерло вулкана перед извержением.
Полковник смотрел в бинокль на расчеты противника, подмечая результаты стараний Колтера – если, конечно, тот был все еще жив и направлял огонь. Он увидел, что артиллеристы, игнорируя орудия, чьи позиции можно было вычислить только по клубам дыма, сосредоточили огонь на единственной пушке, стоящей на открытом месте – на лужайке перед домом. Снаряды взрывались вокруг этого орудия с интервалами в несколько секунд. Судя по струйкам дыма над пробитой крышей, некоторые попадали в дом. Фигуры мертвых людей и лошадей были едва видны.
– Если наши товарищи так расправляются с неприятелем, имея в распоряжении одну-единственную пушку, – заметил полковник адъютанту, оказавшемуся рядом, – то какие же потери они сами должны терпеть от тех двенадцати? Спуститесь и передайте поздравления командиру нашего орудия – его стрельба исключительно точна. – Он обернулся к генерал-адъютанту: – Вы заметили, с какой неохотой Колтер подчинился приказу?
– Да, сэр, заметил.
– В таком случае будьте добры, молчите об этом. Не думаю, что генерал удосужится начать разбирательство. Ему и так хватит хлопот, пока он будет объяснять, с чего мы вдруг затеяли игру в кошки-мышки с арьергардом отступающего врага.
К ним подошел молодой офицер, запыхавшийся от подъема по склону. Не успев отдать честь, он выпалил:
– Полковник, я прибыл по приказу полковника Хармона с рапортом. Орудия врага находятся в пределах досягаемости наших стрелков, и некоторые из них – в пределах видимости с нескольких позиций на склоне.
Бригадный командир взглянул на него безо всякого интереса.
– Я знаю, – тихо ответил он.
Юный адъютант был изрядно ошарашен.
– Полковник Хармон просит разрешения открыть стрельбу по артиллеристам противника, – заикаясь, сказал он.
– Я бы и сам этого хотел, – тем же ровным тоном ответил полковник. – Передайте мои наилучшие пожелания полковнику Хармону и скажите, что запрет генерала на стрельбу все еще в силе.
Адъютант отдал честь и удалился. Полковник развернулся на каблуках и продолжил наблюдение за орудиями противника.
– Полковник, – произнес генерал-адъютант, – не знаю, стоит ли об этом говорить, но тут что-то не так. Вам известно, что капитан Колтер – южанин?
– Нет. Что, он и правда с Юга?
– Я слышал, прошлым летом дивизия, которой командовал наш генерал, несколько недель провела недалеко от дома Колтера и…
– Подождите! – жестом прервал его полковник. – Вы слышите?
Пушка федералов замолчала. Штабные, дневальные, шеренги пехоты за гребнем холма – все услышали это, и любопытные взгляды обратились к кратеру, над которым больше не поднимался дым, кроме разрозненных струек от вражеских снарядов. Затем запел рожок, послышался слабый перестук колес. Минутой позже канонада возобновилась с удвоенной силой. Разбитую пушку заменили новой.
– Так вот, – продолжил свой рассказ генерал-адъютант, – генерал тогда познакомился с семейством Колтер. Потом случилась какая-то история – я не знаю подробностей, но что-то было связано с женой Колтера. Она ярая сторонница Конфедерации, как и остальные домочадцы, кроме самого капитана, но хорошая жена и благовоспитанная леди. В штаб поступило донесение. Генерала перевели в эту дивизию. Странно, что батарея Колтера позже была приписана сюда же.
Полковник поднялся с камня, на который они присели. В его глазах пылал благородный гнев.
– Послушайте, Моррисон. – Он посмотрел прямо в глаза разболтавшемуся офицеру. – Тот, кто рассказал вам эту историю, – джентльмен или лжец?
– Если возможно, я бы не хотел называть имен, полковник. – Моррисон слегка покраснел. – Но я могу поклясться жизнью, что это правда.
Полковник обернулся к группе офицеров, собравшихся неподалеку.
– Лейтенант Вильямс! – позвал он.
Один из офицеров отделился от группы и вышел вперед, отдав честь.
– Прошу прощения, полковник, я думал, вам доложили. Вильямса убили возле пушки. Чем могу служить, сэр?
Лейтенант Вильямс был тот самый адъютант, которому выпала честь передать командующему орудием поздравления от своего бригадного командира.
– Идите, – велел полковник, – и передайте приказ о немедленном отводе орудия. Хотя… нет, я сам.
Он направился к теснине напрямик, по камням и колючим зарослям, за ним в полнейшем беспорядке следовало его взволнованное сопровождение. У подножия они оседлали лошадей и рысью поскакали в теснину. Какая картина ждала их там!
По расселине, где едва хватало места для пушки, были разбросаны осколки не менее четырех орудий. В ходе боя все заметили молчание лишь одного из них – тогда не хватило рук, чтобы быстро его заменить. Обломки усеивали обе стороны дороги; людям удалось расчистить между ними путь, и теперь на этом пятачке вела огонь пятая пушка. А что же сами люди? Они выглядели как черти из пекла! С непокрытыми головами, обнаженные по пояс, потная кожа черна от копоти и покрыта пятнами крови. Как безумные, орудовали они шомполами и снарядами, рычагами и шнурами. После каждой отдачи они упирались опухшими плечами и кровоточащими руками в колеса и возвращали тяжелое орудие на место.
Приказы не отдавались: из-за уханья орудия, рвущихся снарядов, визга осколков железа и обломков дерева их просто не было бы слышно. Если там и были офицеры, их невозможно было отличить от рядовых. Все действовали на равных – до последнего вздоха, – общаясь только взглядами. В прочищенное дуло загружалось ядро; заряженная пушка наводилась на цель и стреляла.
Полковник увидел то, с чем еще ни разу не сталкивался за всю свою военную карьеру, нечто ужасное и противоестественное: из дула пушки лилась кровь! Когда вода закончилась, солдат смочил шомпол в крови своего павшего товарища. В работе не было ни единой заминки, сиюминутная необходимость была очевидна для всех. Как только убитый падал на землю, на его месте, будто из-под земли, поднимался живой, выглядящий разве что чуточку лучше своего павшего предшественника. Потом убивали и его.
Рядом с разорванными орудиями лежали разорванные люди – возле обломков, под ними и на них. И вниз по дороге – какая страшная процессия! – на четвереньках ползли раненые, которые еще могли передвигаться.
Полковник, милосердно отправивший сопровождение в объезд, вынужден был ехать по трупам, чтобы не задавить полуживых. Он спокойно направил лошадь прямиком в этот ад, подъехал к орудию и, окутанный дымом от очередного выстрела, похлопал по щеке солдата, сжимающего шомпол. Тот упал – он был мертв. Тут же из дыма вынырнул сам трижды проклятый дьявол, чтобы занять место павшего, но остановился и уставился на верхового офицера. Его оскаленные зубы блестели между черных губ, бешеные глаза горели, как угли, а лоб был окровавлен.
Полковник повелительным жестом указал назад, и дьявол поклонился в знак повиновения. Это был капитан Колтер.
Как только полковник подал знак отступать, на поле боя опустилась тишина. Снаряды больше не носились туда-сюда, сея смерть: враг тоже прекратил огонь. Его армия несколько часов тому назад ушла вперед, и командир арьергарда, опасно задержавшийся на этой позиции, пытаясь заставить умолкнуть орудия федералов, в эту странную минуту заглушил свои собственные.
– Я и не думал, что мои приказы распространяются так далеко, – сказал полковник сам себе, поднимаясь на вершину посмотреть, что случилось.
Часом позже его бригада разбила бивуак на территории противника, и праздные солдаты с удивлением и трепетом обследовали, как святые реликвии, десятки убитых лошадей и три выведенных из строя орудия, все испещренные осколками снарядов. Убитых унесли подальше: вид их разорванных и изломанных тел был бы невыносимо приятен для победителей.
Как водится, полковник вместе со своим полевым семейством разместился в усадьбе плантатора. Она изрядно пострадала в перестрелке, и все же это было лучше, чем ночевать под открытым небом. Большая часть мебели была сломана и разбросана по комнатам. Стены и потолки местами отсутствовали, дом пропитался запахом порохового дыма. Кровати, шкафы с женской одеждой и посудой не сильно пострадали. Новые жильцы с удобством расположились на ночь, а уничтожение батареи Колтера в избытке обеспечило их темами для разговора.
Во время ужина на пороге столовой возник дневальный и попросил разрешения поговорить с полковником.
– В чем дело, Барбор? – милостиво отозвался тот.
– Полковник, в подвале что-то неладно. Я не знаю что – там вроде бы кто-то есть. Я услышал шум, когда обследовал дом.
– Я спущусь и посмотрю, – отозвался штабной офицер, поднимаясь из-за стола.
– Я тоже, – ответил полковник. – Остальные могут остаться. Ведите, дневальный.
Они взяли свечу и спустились по лестнице в подвал. Дневальному явно было не по себе. Свеча давала тусклый свет, но когда они спустились, освещения хватило, чтобы увидеть фигуру человека, сидящего на земле у почерневшей стены. Колени его были поджаты, а голова низко склонена вперед. Лицо было повернуто в профиль, но полностью закрыто длинными волосами. Странная длинная борода, гораздо темнее волос, ниспадала на землю спутанными прядями. Мужчины невольно остановились, затем полковник, приняв свечу из трясущихся рук дневального, подошел к человеку и внимательно его рассмотрел. То, что они поначалу приняли за бороду, оказалось волосами женщины. Мертвой женщины. В руках она сжимала мертвого младенца, и обоих крепко прижимал к своей груди, к своим губам мужчина. Волосы мужчины и женщины были в крови. В метре от них, у неровной воронки в полу – свежей ямы, усеянной осколками железа, – лежала ножка ребенка. Полковник поднял свечу как можно выше. Пол комнаты был пробит снарядом, край пробоины ощетинился обломками половиц.
– Подвал не защищен от обстрела, – серьезно констатировал полковник. Ему даже не пришло в голову, насколько глупо прозвучали его слова.
Некоторое время они стояли над группой в молчании. Штабной офицер думал о неоконченном ужине, дневальный – о том, что там такое в бочонке в углу подвала. Внезапно человек, которого они считали мертвым, поднял голову и спокойно взглянул на них. Лицо его было полностью черное, а по щекам шла причудливая татуировка из белых волнистых линий, спускающихся от глаз до самого подбородка. Губы его были белые, как у актера, загримированного под негра. На лбу запеклась кровь.
Штабной офицер отступил на шаг, дневальный – на два.
Полковник, однако, остался на месте.
– Что ты здесь делаешь, дружище? – спросил он.
– Этот дом принадлежит мне, сэр, – прозвучал спокойный ответ.
– Тебе? А, понятно. А это кто?
– Мои жена и ребенок. Я – капитан Колтер.
Офицер из обидчивых [3]
1. О функциях вежливости
– Капитан Рэнсом, вам не полагается знать ни-че-го. Ваше дело – исполнять мой приказ, и разрешите, я его повторю. Если вы заметите какое бы то ни было передвижение войск впереди вашей батареи, открывайте огонь, а если вас атакуют, удерживайте эту позицию как можно дольше. Вы меня поняли, сэр?
– Вполне. Лейтенант Прайс, – это относилось к одному из офицеров батареи, который только что подъехал к ним верхом и слышал слова генерала, – смысл приказа вам ясен, не правда ли?
– Совершенно ясен.
Лейтенант проехал дальше на свое место. С минуту генерал Камерон и командир батареи сидели в седлах, молча глядя друг на друга. Говорить было больше нечего; по-видимому, и так было сказано слишком много. Затем генерал кивнул и тронул коня. Артиллерист взял под козырек медленно, серьезно и до крайности церемонно. Человек, знакомый с тонкостями военного этикета, усмотрел бы в его манере свидетельство того, что он помнит о полученном выговоре. Одна из важнейших функций вежливости – это выражать обиду.
Генерал подъехал к своим адъютантам и ординарцам, поджидавшим его в некотором отдалении, вся кавалькада двинулась вправо и скрылась в тумане. Капитан Рэнсом остался один, безмолвный, неподвижный, как конная статуя. Серый туман, сгущавшийся с каждой минутой, сомкнулся над ним, как некий зримый рок.
2. При каких обстоятельствах людям не улыбается быть убитыми
Накануне бои шли беспорядочно и никаких серьезных результатов не дали. Там, где происходили стычки, дым от выстрелов синими полотнищами висел в ветвях деревьев, пока его не рассеивал дождь. В размякшей земле колеса орудий и зарядных ящиков прорезали глубокие, неровные колеи, и каждому движению пехоты, казалось, мешала грязь, налипавшая на ноги солдат, когда они, в промокшей одежде, кое-как прикрыв плащами винтовки, ломаными рядами брели во всех направлениях по мокрому лесу и залитым водою полям. Конные офицеры, выглядывая из-под капюшонов своих резиновых пончо, блестевших, словно черные доспехи, поодиночке или группами пробирались среди солдат без всякой видимой цели и не вызывая интереса ни у кого, кроме как друг у друга. Там и тут лежали убитые, к их мундирам комьями пристала земля, лица были накрыты одеялами или желтели под дождем, как глина, и вид их, в довершение к прочим унылым деталям пейзажа, придавал общему подавленному настроению оттенок особенно удручающий. Отталкивающее зрелище являли собой эти трупы, отнюдь не героические, и доблестный их пример никого не способен был вдохновить. Да, они пали на поле чести, но поле чести было такое мокрое! Это сильно меняет дело.
Серьезный бой, которого все ожидали, не состоялся, так как из незначительных успехов, выпадавших на долю то одной, то другой стороны в случайных мелких стычках, ни один не был развит. Вялые атаки вызывали хмурый отпор, ни разу не вылившийся в контратаку. Приказам следовали механически, хоть и точно; люди исполняли свой долг, но не более того.
– Солдаты сегодня трусят, – сказал генерал Камерон, бригадный командир федеральной армии, своему адъютанту.
– Солдаты мерзнут, – отвечал офицер, к которому он обратился, – и… да, им не улыбается такая вот перспектива.
Он указал на один из трупов, лежавших в неглубокой желтой луже, на его лицо и мундир, забрызганные грязью из-под колес и копыт.
Оружие, как и люди, казалось, не прочь было уклониться от исполнения долга. Винтовки стрекотали нехотя и как-то бессмысленно. Стрекотание их ничего не означало и почти не вызывало интереса на спокойных участках линии огня и у ожидающих своей очереди резервов. Даже на небольшом расстоянии орудийные выстрелы раздавались слабо и глухо; им недоставало остроты и звучности. Словно стреляли холостыми зарядами. И так этот напрасный день печально миновал, а затем беспокойную ночь сменил новый день, исполненный тревоги.
У каждой армии есть свое лицо. Помимо мыслей и чувств отдельных составляющих ее людей, она мыслит и чувствует как единое целое. И это общее большое сознание мудро своей особой мудростью, которая больше суммы всего того, из чего она состоит. В то унылое утро эта тяжелая, косная громада, ощупью продвигавшаяся на дне белого моря тумана, среди деревьев, подобных водорослям, смутно сознавала, что где-то что-то неладно; что перегруппировки целого дня привели к неправильному расположению ее составных частей, к слепому распылению сил. Солдаты чуяли опасность и говорили между собой о тех тактических ошибках, какие они, при их скудном военном словаре, умели назвать. Офицеры сходились кучками и в более ученых выражениях рассуждали о том, чего опасались не менее смутно. Бригадные и дивизионные командиры тревожно следили за постами связи справа и слева от своих частей, рассылали штабных офицеров собирать сведения, неслышно и осторожно продвигали стрелковые цепи вперед, в предательское пространство между ведомым и неведомым. В некоторых пунктах передовой линии рядовые, видимо по собственному почину, возводили укрепления из тех, какие возможно соорудить без молчаливого заступа и шумного топора.
Один из таких пунктов удерживала батарея капитана Рэнсома, состоявшая из шести орудий. Его люди, постоянно имевшие при себе шанцевый инструмент, усердно работали всю ночь, и теперь черные жерла орудий торчали из бойниц поистине грозного земляного сооружения. Оно возвышалось на небольшом оголенном откосе, с которого можно было беспрепятственно обстреливать впереди лежащую местность на очень далеком расстоянии. Трудно было бы выбрать позицию удачнее. Она имела одну особенность, которую капитан Рэнсом, очень любивший пользоваться компасом, не преминул заметить: она была обращена к северу, тогда как вся армия, он это знал, была обращена фронтом на восток. И действительно, эта часть передовой линии была «отогнута», или, другими словами, оттянута, назад, дальше от противника. Это означало, что батарея капитана Рэнсома находилась где-то близ левого фланга; ибо, если только позволяет характер местности, армия на фронте всегда загибает фланги, являющиеся ее наиболее уязвимыми точками. В самом деле, капитан Рэнсом, по-видимому, удерживал крайний левый участок фронта, так как левее его батареи никаких частей не было видно. Как раз позади его орудий и произошел тот разговор между ним и его бригадным командиром, заключительную и наиболее красочную часть которого мы привели выше.
3. Как без нот играть на пушке
Капитан Рэнсом сидел в седле, безмолвный и неподвижный. В нескольких шагах от него стояли у орудий его солдаты. Где-то – на протяжении нескольких миль – жило сто тысяч человек, друзей и врагов. И все же он был один. Туман придавал его одиночеству такую же завершенность, как если бы он находился в сердце пустыни. Его мир ограничивался несколькими квадратными ярдами мокрой, истоптанной земли вокруг копыт его коня. Товарищей своих в этом призрачном царстве он не видел, не слышал. Обстановка располагала к раздумью, и он думал. По его резко очерченному красивому лицу трудно было судить, каковы его мысли. Оно было непроницаемо, как лицо сфинкса. Зачем оно стало бы выдавать повесть, которую некому было прочесть? При звуке шагов он только посмотрел в том направлении, откуда они послышались; один из его сержантов, казавшийся исполином в неверной перспективе тумана, приблизился к нему и, когда сократившееся расстояние придало ему четкие контуры и нормальные размеры, отдал честь и стал навытяжку.
– Ну что, Моррис? – сказал офицер, ответив на приветствие подчиненного.
– Лейтенант Прайс приказал доложить вам, сэр, что пехота везде отошла. Мы остались почти без прикрытия.
– Да, я знаю.
– Мне приказано передать вам, что наши разведчики выходили на сто ярдов за укрепления и донесли, что на нашем участке фронта сторожевых застав нет.
– Да.
– Они заходили так далеко, что слышали противника.
– Да.
– Они слышали стук колес артиллерии и команду офицеров.
– Да.
– Противник продвигается к нашему укреплению.
Капитан Рэнсом, до сих пор глядевший в сторону от своей позиции, туда, где туман поглотил бригадного командира и его свиту, теперь повернул коня и поглядел в обратную сторону. Потом он опять застыл в полной неподвижности.
– Кто сообщил эти сведения? – спросил он, не глядя на сержанта; глаза его были устремлены прямо в туман поверх головы коня.
– Капрал Хэсмен и рядовой Мэннинг.
Капитан Рэнсом с минуту помолчал. Лицо его слегка побледнело, губы слегка сжались, но, чтобы заметить эту перемену, нужен был наблюдатель более внимательный, чем сержант Моррис. В голосе перемены не было.
– Сержант, поблагодарите капитана Прайса за сведения и передайте ему мой приказ открыть огонь из всех орудий. Картечью.
Сержант отдал честь и растаял в тумане.
4. Мы знакомимся с генералом Мастерсоном
В поисках дивизионного командира генерал Камерон и сопровождавшие его офицеры проехали около мили вдоль линии фронта, вправо от батареи Рэнсома, и здесь узнали, что дивизионный командир отправился на розыски командира корпуса. Казалось, каждый старался найти своего непосредственного начальника – симптом зловещий. Он означал, что никто не чувствует уверенности. И генерал Камерон проехал еще полмили и тут, на счастье, встретил возвращающегося командира дивизии генерала Мастерсона.
– А, Камерон, – сказал старший из двух офицеров, остановив коня и совсем не по-военному перебросив правую ногу через луку седла, – что-нибудь случилось? Надеюсь, нашли хорошую позицию для своей батареи? Если только можно говорить о хороших и плохих позициях в таком тумане.
– Да, генерал, – сказал тот с большим достоинством, отвечающим его менее высокому чину, – расположением моей батареи я очень доволен. К сожалению, не могу сказать того же о ее командире.
– Как, что такое? Рэнсом? А по-моему, он молодец. Мы, армия, должны им гордиться.
Офицеры регулярных войск любили называть себя «армией». Ведь известно, что большие города наиболее провинциальны; так и любая аристократия отмечена наиболее откровенным плебейством.
– Он излишне самостоятелен в своих суждениях. Между прочим, чтобы занять высоту, которую он удерживает, мне пришлось растянуть фронт моей бригады больше, чем мне бы того хотелось. Эта высота находится на моем левом… то есть на левом фланге армии.
– О нет, там дальше еще стоит бригада Харта. Она ночью получила приказ выступить из Драйтауна и подтянуться к вам.
Вы лучше поезжайте и…
Фраза осталась недоконченной; где-то слева вдруг раздалась оживленная канонада, и оба генерала в сопровождении адъютантов и ординарцев, звеня оружием и шпорами, поскакали в том направлении. Но скоро им пришлось перейти на шаг, так как из-за тумана они вынуждены были держаться вблизи линии огня, в полосе, которая кишела войсками, двигающимися поперек их пути. Повсюду линия принимала более четкие и жесткие очертания, по мере того как солдаты хватались за оружие и офицеры, обнажив шпаги, выравнивали ряды. Знаменосцы развертывали знамена, горнисты трубили сбор, появились санитары с носилками. Офицеры садились на коней и отсылали свои вещи в тыл под охраной денщиков-негров. Дальше, в призрачных пространствах леса, слышались шорохи и тихий говор подтягивающихся резервов.
И все эти приготовления были своевременны – не прошло и пяти минут после того, как орудия капитана Рэнсома нарушили тишину выжидания, как все вокруг уже гремело от выстрелов: почти по всему фронту противник пошел в атаку.
5. Как звуки могут биться с тенями
Капитан Рэнсом расхаживал позади своих орудий, которые стреляли часто, но равномерно. Канониры работали проворно, однако без спешки и внешне без волнения. Волноваться, впрочем, было не из-за чего; не так уж сложно направить орудие в туман и выстрелить. Это каждый сумеет.
Люди улыбались своей шумной работе, хотя живость их понемногу спадала. Они с любопытством поглядывали на своего капитана, который встал на стрелковую ступень укрепления и смотрел через бруствер, словно проверяя эффект огня. Но единственным видимым эффектом было то, что там, где раньше висел туман, теперь низко стлались широкие полосы дыма. Внезапно из этой мглы возникло многоголосое «ура», с поразительной отчетливостью заполнившее перерывы между выстрелами. Тем немногим, кто имел время и возможность заметить этот звук, он показался невыразимо странным – такой громкий, и близкий, и грозный, а между тем ничего не было видно. Люди, только что улыбавшиеся своей работе, теперь уже не улыбались, но действовали с сосредоточенной и лихорадочной энергией.
Со своего места у бруствера капитан Рэнсом увидел, как внизу перед ним множество смутных серых фигур выступило из тумана и устремилось вверх по откосу. Но орудия работали теперь быстро и яростно. Они осыпали оживший склон холма градом картечи, визг которой был ясно слышен сквозь грохот разрывов. В этой страшной железной метели атакующие продвигались шаг за шагом, ступая по трупам своих товарищей, стреляли в бойницы, перезаряжали винтовки, снова стреляли и, наконец, падали наземь немного впереди тех, кто упал раньше. Скоро дым так сгустился, что закрыл решительно все. Он оседал на атакующих и, относимый назад, обволакивал обороняющихся. Канониры видели ровно настолько, чтобы обслуживать свои орудия, а когда на бруствере появлялись отдельные неприятельские стрелки – из тех, которым посчастливилось добежать до простенка между двумя бойницами и таким образом оказаться под прикрытием, – вид у них был до того нестрашный, что горсточка пехотинцев едва давала себе труд встречать их штыками и сбрасывать обратно в ров.
У командира батареи во время боя есть дела поважнее, чем разбивать людям черепа, и капитан Рэнсом отошел от бруствера на свое место позади орудий, где и стоял, скрестив на груди руки; рядом с ним стоял его горнист. И здесь, в разгар боя, к нему подошел лейтенант Прайс, только что в самом укреплении уложивший ударом сабли какого-то особенно дерзкого гостя. Между обоими офицерами завязался оживленный разговор, оживленный, во всяком случае, со стороны лейтенанта, который отчаянно жестикулировал и снова и снова кричал что-то в ухо своему командиру, стараясь, чтобы тот услышал его слова сквозь адский рев орудий. Актер, спокойно наблюдающий его жесты, определил бы их как выражение сильного неудовольствия: словно он не одобрял того, что происходило. Неужели он предлагал сдаться неприятелю?
Капитан Рэнсом слушал, не меняя ни позы, ни выражения лица, и, когда лейтенант закончил свою тираду, спокойно посмотрел ему в глаза и в минуту относительного затишья ответил:
– Лейтенант Прайс, вам не полагается знать ни-че-го. Ваше дело исполнять мои приказы.
Лейтенант возвратился на свое место, и, так как бруствер к этому времени совсем очистился, капитан Рэнсом снова подошел к нему с намерением выглянуть. В ту минуту, когда он поднялся на стрелковую ступень, над гребнем появился солдат, размахивающий ярким знаменем. Капитан выхватил из-за пояса пистолет и застрелил его. Солдат качнулся вперед и повис с внутренней стороны насыпи, вытянув вперед руки, все еще сжимавшие знамя. Немногочисленные товарищи убитого повернулись и бросились бежать вниз по склону. Выглянув из-за бруствера, капитан не увидел ни одного живого существа. Он заметил также, что пули перестали бить по стене укрепления.
Он сделал знак горнисту, и тот протрубил сигнал «Прекратить огонь». На всех других участках бой закончился еще раньше – атака южан была отбита; когда и здесь орудия смолкли, воцарилась полная тишина.
6. Почему, когда вас оскорбит A, не обязательно сейчас же оскорблять B
Генерал Мастерсон въехал в редут. Солдаты, собравшись кучками, громко разговаривали и жестикулировали. Они показывали друг другу убитых, перебегали от трупа к трупу. Они оставили без присмотра свои грязные, накалившиеся орудия, забыли, что нужно надеть плащи. Они подбегали к брустверу и выглядывали наружу, а некоторые соскакивали в ров. Человек двадцать собрались вокруг знамени, в которое крепко вцепился руками мертвец.
– Ну, молодцы, – весело сказал генерал, – пришлось вам потрудиться.
Они застыли на месте; никто не отвечал; появление высокого начальства, казалось, смутило и встревожило их.
Не слыша ответа на свое милостивое обращение, обходительный генерал просвистел два-три такта популярной песенки и, подъехав к брустверу, посмотрел поверх его на убитых. Через секунду он рывком повернул коня и поскакал прочь от насыпи, ища кого-то глазами. На хоботе одного из лафетов сидел офицер и курил сигару. Когда генерал подлетел к нему, он встал и спокойно отдал честь.
– Капитан Рэнсом! – Слова сыпались резко и зло, как удары стальных клинков. – Вы стреляли по нашим солдатам – по нашим солдатам, сэр; вы меня слышите? Бригада Харта!
– Генерал, я это знаю.
– Знаете? Вы это знаете, и вы спокойно сидите и курите! О черт, Гамильтон, тут есть от чего выйти из себя. – Эти слова были обращены к начальнику полевой жандармерии. – Сэр… капитан Рэнсом, потрудитесь объяснить, почему вы стреляли по своим?
– Этого я не смогу объяснить. В полученный мною приказ эти сведения не входили.
Генерал явно не понял ответа.
– Кто первый открыл огонь, вы или генерал Харт? – спросил он.
– Я.
– И неужели вы не знали… неужели вы не видели, сэр, что бьете по своим?
Ответ он услышал поразительный:
– Я это знал, генерал. Насколько я понял, меня это не касалось.
Потом, прерывая мертвое молчание, последовавшее за его словами, добавил:
– Справьтесь у генерала Камерона.
– Генерал Камерон убит, сэр, он мертв – мертв, как вот эти несчастные. Он лежит вон там, под деревом. Вы что же, хотите сказать, что он тоже причастен к этому ужасному делу?
Капитан Рэнсом не отвечал. На громкий разговор собрались его солдаты послушать, чем кончится дело. Они были до крайности взволнованы. Туман, немного рассеявшийся от выстрелов, теперь снова окутывал их так плотно, что они сходились все теснее, пока около сидевшего на коне судьи и спокойно стоявшего перед ним обвиняемого почти не осталось свободного пространства. Это был самый неофициальный полевой суд в мире, но все чувствовали, что официальное разбирательство, которое не замедлит последовать, только подтвердит его решение. Он не имел юридической силы, но был знаменателен как пророчество.
– Капитан Рэнсом! – воскликнул генерал гневно, хотя в его голосе слышалась почти что мольба. – Если вы можете добавить хоть что-нибудь, что показало бы ваше необъяснимое поведение в более благоприятном свете, прошу вас, сделайте это.
Совладав с собой, великодушный солдат хотел найти оправдание своей бессознательной симпатии к этому храброму человеку, которому неминуемо грозила позорная смерть.
– Где лейтенант Прайс? – спросил капитан.
Названный офицер выступил вперед; окровавленная повязка на лбу придавала его смуглому мрачному лицу очень неприятный вид. Он понял смысл вопроса и заговорил, не дожидаясь приглашения. Он не смотрел на капитана, и слова его были обращены к генералу:
– Во время боя я увидел, как обстоит дело, и поставил в известность командира батареи. Я осмелился настаивать на том, чтобы прекратить огонь. Меня оскорбили и отослали на место.
– Известно ли вам что-нибудь о приказе, согласно которому я действовал? – спросил капитан.
– Ни о каких приказах, согласно которым мог действовать командир батареи, – продолжал лейтенант, по-прежнему обращаясь к генералу, – мне не известно ничего.
Капитан Рэнсом почувствовал, что земля ускользает у него из-под ног. В этих жестоких словах он услышал голос судьбы; голос говорил холодно, равнодушно, размеренно: «Готовьсь, целься, пли!» – и он чувствовал, как пули разрывают на клочки его сердце. Он слышал, как падает со стуком земля на крышку его гроба и (если будет на то милость Всевышнего) как птица поет над забытой могилой. Спокойно отцепив шпагу, он передал ее начальнику полевой жандармерии.
Ожесточенная стычка [4]
Осенней ночью 1861 года молодой офицер пехоты федеральных сил оказался в самом сердце леса в Западной Виргинии. Район Чит-Маунтин был в ту пору одним из самых диких уголков штата. Однако у офицера не было недостатка в компании: в километре от него расположился затихший лагерь сил Федерации. Также недалеко, быть может, даже ближе, находился враг, число его было неизвестно. Именно из-за этого офицер сидел в этом глухом месте: его поставили в караул охранять спящих в лагере товарищей от неожиданного нападения. Более того, он был командиром отряда, посланного в дозор.
На закате, приняв во внимание особенности рельефа, он выставил извилистую линию постов примерно в трехстах метрах от места, где теперь находился сам. Она пролегала через лес, среди камней и лавровых зарослей. Люди скрывались в пятнадцати – двадцати шагах друг от друга и вели неусыпное наблюдение в полной тишине. Через четыре часа, если ничего не случится, их сменит отряд из резерва, отдыхающего под опекой капитана в некотором отдалении позади и чуть слева. Перед тем как расставить посты, молодой офицер указал двум сержантам место, где его можно будет найти в случае необходимости.
Место было довольно тихое – развилка старой лесной дороги, на двух ответвлениях которой, уходящих вдаль в свете луны, расположились в нескольких шагах позади линии постов сами сержанты. Если бы неожиданное нападение отбросило дозорных назад, а им нельзя оставаться на месте после первого выстрела, люди вышли бы на дороги и добрались до перекрестка, где солдат можно было бы собрать и построить для обороны. Автор этой задумки был своего рода стратегом: если бы Наполеон так же умно спланировал битву при Ватерлоо, он мог бы и выиграть это памятное сражение и его свергли бы несколько позже.
Младший лейтенант Брайнерд Байринг был смелым и деятельным офицером, несмотря на молодость и неопытность по части истребления собратьев-солдат. В первые дни войны он записался на службу рядовым, безо всякой военной подготовки, но потом проявил изрядную отвагу, и его произвели в старшие сержанты. А затем судьба подвела его капитана под пулю конфедератов, в результате чего Байринг и получил свое нынешнее звание. Он уже побывал в нескольких стычках – у Филиппи, Рич-Маунти, Кэррикс-Форд и Гринбрайер – и вел себя достаточно предусмотрительно, чтобы не привлечь внимание старших офицеров.
Он проявлял боевой пыл, но не переносил вида мертвых людей: их желтые лица, пустые глаза и застывшие тела, порой неестественно съежившиеся, а порой неестественно раздутые, производили на него самое тягостное впечатление. Ему неприятно было на них смотреть, и это еще мягко сказано. Несомненно, причиной тому была его чувствительность, обостренное чувство прекрасного, которое оскорблял вид мертвых тел.
Он не мог смотреть на мертвецов без смеси отвращения и малой доли раздражения. Так называемое величие смерти для него не существовало. Смерть следует ненавидеть. Она некрасива, в ней нет ни нежности, ни торжественности – жуткое явление, отвратительное во всех своих проявлениях и при любых обстоятельствах. Лейтенант Байринг был смелее, чем всем казалось, поскольку никто не знал, как он боится того, что было, по сути, его ежедневной обязанностью.
Выставив часовых, дав сержантам инструкции и вернувшись на свое место, лейтенант сел на бревно и начал дежурство. Ради удобства ослабил портупею, достал из кобуры тяжелый револьвер и положил его рядом с собой. Он очень удобно устроился, хотя и не задумывался об этом – так напряженно ждал звуков с фронта, которые могли принести дурные вести (крика, выстрела, шагов сержанта, прибывшего с важными известиями). Из широкого невидимого океана лунного света там и сям вытекали тонкие, рассеянные «ручейки». Они разбивались о ветви и стекали на землю, собираясь в маленькие молочные лужицы среди лавровых кустов. Но их было слишком мало, поэтому свет лишь сгущал окружающую темноту, которую живое воображение лейтенанта с легкостью заполняло всевозможными странными, зловещими, уродливыми или просто гротескными силуэтами.
Тот, кто хоть раз оставался в сердце огромного леса наедине со скрытной и зловещей ночной темнотой и тишиной, и сам знает, насколько иным предстает мир в такие минуты и как даже самые простые и знакомые предметы кажутся странными и чужими. Деревья стоят по-другому: они прижимаются друг к другу, словно испугавшись чего-то. Сама тишина отличается от дневной. Она полнится еле слышным шепотом – пугающими голосами, призраками умерших звуков. Есть в ней и живые звуки, которые больше никогда не услышишь: пение странных ночных птиц, писк мелких животных, наткнувшихся на затаившегося врага или увидевших дурной сон, шорох мертвой листвы – быть может, крыса шмыгнула сквозь кучу листьев, а может, это крадется пантера. Кто там наступил на ветку? Почему так тихо, тревожно щебечут птицы на том кусте? Есть безымянные звуки, бесформенные силуэты, перемещение предметов, которые при этом не двигались, и движение, после которого они остаются на своих местах. Ах, дети солнечного и газового света, как мало знаете вы о мире, в котором живете!
Несмотря на близость бодрствующих и вооруженных товарищей, Байрингу было одиноко. Поддавшись царящему вокруг торжественному и загадочному настроению, он забыл о прихотливой природе ночи. Лес казался безграничным, люди и города перестали существовать. Вселенная наполнилась первобытной таинственной тьмой, без формы и пустоты, и он был единственным немым исследователем ее бесконечной тайны.
Погрузившись в мысли, навеянные этим настроением, он не замечал ход минут.
Тем временем редкие пятна лунного света среди стволов сдвинулись, изменив размер и форму. В одном из них, прямо у дороги, взгляд лейтенанта зацепился за предмет, ранее скрытый темнотой. Предмет находился прямо перед ним, и Байринг мог поклясться, что раньше его там не было. Тень частично скрывала очертания, но это явно была фигура человека. Безотчетно лейтенант подтянул портупею и схватился за пистолет. Он снова вернулся в мир войны, где есть только одна задача – убивать.
Фигура не шелохнулась. Лейтенант поднялся, держа пистолет в руке, и подошел ближе. Человек лежал на спине, на лицо падала тень, но было ясно и так, что он мертв. Байринг вздрогнул и отвернулся с чувством дурноты и омерзения, отошел к бревну и, забыв о военной предосторожности, чиркнул спичкой и закурил сигару. Когда спичка погасла, его снова окутала тьма, и она принесла облегчение: он больше не видел отвратительный предмет. Тем не менее он смотрел в ту сторону, пока очертания покойника не проявились снова. Казалось, тот придвинулся ближе.
– Проклятие! – пробормотал лейтенант. – Что ему нужно?
Но тело, казалось, не испытывало недостатка ни в чем, кроме души.
Байринг отвел глаза и принялся напевать, но оборвал мелодию и снова посмотрел на мертвеца. Его присутствие раздражало, хотя на свете не было соседа тише и спокойнее. Также появилось смутное, неопределенное и незнакомое чувство: не страх, а скорее ощущение близости сверхъестественного, в которое Байринг никогда не верил.
«Это наследственная память, – сказал он себе. – Возможно, потребуется тысяча веков – а может, и десять тысяч, – чтобы человечество избавилось от этого чувства. Когда и где оно зародилось? Давно и, наверное, там, где предположительно была колыбель человеческой цивилизации, – на равнинах Средней Азии. То, что мы сейчас называем суевериями, наши предки-варвары принимали всерьез. Несомненно, считая покойников злонамеренными существами, наделенными странной силой творить злые дела, равно как и собственной волей и способностью исполнять ее, они руководствовались такими соображениями, которые мы теперь не станем рассматривать даже гипотетически. Возможно, они проповедовали какую-нибудь ужасную религию, где такое отношение к мертвым было одной из ключевых доктрин, и жрецы усердно внушали его соплеменникам, так же как современные священники прививают нам мысль о бессмертии души. Когда арийцы постепенно перекочевали на Кавказ и дальше, в Европу, новые условия жизни породили новые религии. Старая вера в коварство мертвого тела исчезла из догматов и даже из народных преданий, но оставила наследие страха, передаваемое из поколения в поколение и ставшее такой же частью человека, как кровь и кости».
Развивая свою мысль, он уже забыл, откуда начал, но тут его взгляд снова упал на труп. Теперь тот полностью показался из тени. Байринг увидел заострившийся профиль, задранный подбородок, все лицо, пугающе белое в лунном свете. На мертвом была серая форма солдата Конфедерации. Мундир и жилет были расстегнуты, обнажая белую рубаху. Грудь неестественно выгнулась, а живот впал, из-за чего линия нижних ребер проступила особенно резко. Руки покойника были раскинуты, левое колено согнуто. Вся поза, как показалось лейтенанту, была словно намеренно просчитана, чтобы наводить ужас.
– Ба! – воскликнул он. – Да этот малый был актер – знал, как лечь.
Он отвернулся и намеренно стал смотреть на дорогу, ведущую к фронту, затем продолжил рассуждения с того места, где отвлекся.
«Возможно, у наших предков в Центральной Азии не было традиции хоронить покойников. В таком случае понятен их страх перед мертвыми, которые и впрямь были источником опасности и зла. Они разносили заразу. Детей учили избегать мест, где лежали мертвецы, и сразу же уходить, оказавшись слишком близко от покойника. Думаю, мне и правда не стоит сидеть рядом с этим приятелем».
Он уже приподнялся, чтобы отойти подальше, но потом вспомнил, что люди на фронте и офицер в арьергарде, который должен его заменить, будут искать его именно здесь. Да и гордость взыграла, ведь если Байринг покинет пост, все будут считать, что он испугался мертвеца. А он не трус и не готов навлекать на себя насмешки товарищей. Поэтому Байринг снова сел на бревно и, чтобы подтвердить свою храбрость, смело взглянул на тело. Правая рука, она была дальше от него, теперь оказалась в тени. Он почти не различал ладонь, которая, как он раньше видел, покоилась у корней лаврового куста. Больше ничего не изменилось, и это немного успокоило, хотя он и не мог сказать почему. Байринг не отрываясь глядел на мертвеца: то, чего мы не хотим видеть, обладает странной притягательной силой, которой невозможно порой противиться. Правда, о женщине, которая закрывает глаза руками и смотрит сквозь пальцы, мы обычно говорим, что ум сыграл с ней злую шутку.
Внезапно Байринг почувствовал острую боль в правой руке. Он оторвал взгляд от врага и посмотрел вниз. Оказалось, он вытащил шпагу и до боли сжал эфес. Также он отметил, что наклонился вперед, напрягшись всем телом, как гладиатор, готовый вцепиться в горло поединщику. Он стиснул зубы и дышал сбивчиво и тяжело. Это он вскоре исправил, мышцы расслабились, и, глубоко вздохнув, он вдруг понял, как все это глупо. И засмеялся.
«О боже! – пронеслось у него в голове. – Что это за звук? Какой безумный демон издал этот порочный хохот, глумясь над людской веселостью?»
Лейтенант вскочил и встревоженно посмотрел по сторонам, не узнав звук своего голоса.
Он больше не мог скрывать от себя собственную ужасающую трусость. Он был напуган до полусмерти! Байринг хотел убежать, но ноги отказали, и он рухнул обратно на бревно, дрожа всем телом. Его лицо взмокло от пота, сам он трясся в ознобе. Даже не мог закричать.
Внезапно за его спиной послышался быстрый топот, будто крупный зверь бежал по дороге, но лейтенант не смел повернуть голову, чтобы посмотреть на него.
«Быть может, к мертвым, лишенным души, присоединились теперь и живые, душой не наделенные? Животное или нет?»
О, если бы он мог убедиться в этом! Но никакое усилие воли не могло заставить его оторвать взгляд от лица покойника.
Да, лейтенант Байринг был умен и смел, но что ему оставалось? Способен ли человек в одиночку одолеть чудовищный союз ночи, одиночества, тишины и смерти, в то время как бессчетная рать предков призывает его душу бежать без оглядки, поет заунывные песни смерти в его сердце, лишая нервы стабильности? Силы были явно не равны, человеческий дух не способен выдержать такое суровое испытание.
Лейтенант был уверен только в одном: мертвец двигался. Теперь он лежал ближе к краю светового пятна, в этом не было сомнений. Он также передвинул руки – смотрите, теперь они обе в тени! Холодный ветер дохнул Байрингу в лицо. Ветви деревьев закачались и заскрипели. Густая тень пробежала по лицу мертвеца, затем на него снова упал свет, потом вновь прошла тень, и вот оно наполовину скрылось в сумраке. Чудовище двигалось! В этот миг единственный выстрел прогремел со стороны линии дозорных – отдаленный, но такой одинокий и громкий, какого еще никто не слышал! Он развеял злое колдовство, сковавшее лейтенанта, разрушил одиночество и тишину, обратил в бегство сонм призраков из Средней Азии, мешающих подняться, и освободил разум и волю современного человека. С криком хищной птицы, завидевшей жертву, Байринг ринулся вперед. Сердце его пылало жаждой битвы!
Теперь с фронта один за другим доносились выстрелы. Было много криков и беготни, грохота копыт и обрывочных боевых кличей. В проснувшемся лагере пели рожки и били барабаны. Через подлесок по обеим сторонам дороги пробирались дозорные Федерации, отступая и беспорядочно отстреливаясь на бегу. Группа, отступавшая по дороге согласно инструкциям, вынуждена была отскочить в кусты, когда мимо них пронеслось полсотни всадников, яростно рубя всех саблями. С криками и выстрелами они проскакали мимо места, где сидел Байринг, и скрылись за поворотом. Мгновение спустя раздался многоголосый грохот ружей, сразу же затихший – конница наткнулась на строй резерва. Затем в ужасном смятении они проскакали обратно, часть лошадей лишилась седоков, некоторые животные тоже получили пулю – они бешено фыркали и приседали от боли. Стычка форпостов закончилась.
На посты выставили свежих людей, произвели перекличку, перестроили отставшие части. Появился наспех одетый командир федералов в сопровождении штабных, задал несколько вопросов, сделал умное лицо и удалился. Простояв час в полной боевой готовности, бригада в лагере пробормотала сквозь зубы пару молитв покрепче и отправилась спать.
Рано утром рабочая команда под началом капитана и в сопровождении хирурга бродила по окрестностям в поисках убитых и раненых. У развилки дороги, чуть в стороне, они нашли два тела, лежащие рядом, – федерального офицера и рядового Конфедерации. Офицер был заколот в сердце, но, видимо, не раньше, чем нанес своему противнику около пяти страшных ран. Мертвый офицер лежал лицом в луже крови, клинок все еще торчал у него из груди. Убитого перевернули на спину, и хирург извлек саблю.
– Боже! – воскликнул капитан. – Это же Байринг! – Он взглянул на второй труп и добавил: – Отчаянно они схлестнулись.
Хирург осматривал саблю. Она принадлежала строевому офицеру федеральной пехоты – точно такая же была у капитана. Фактически это была сабля Байринга. Кроме нее, у убитых не было оружия, только полностью заряженный револьвер на поясе у мертвого офицера.
Доктор отложил саблю и подошел ко второму трупу. Тот был изрублен и исколот, но крови не было видно. Доктор взял мертвеца за левую ступню и попытался выпрямить ногу. От этого тело сдвинулось. Мертвые не любят, когда их беспокоят, – этот выразил свой протест слабым тошнотворным запахом. На месте, где он лежал, лениво копошилось несколько личинок.
Хирург с капитаном переглянулись.
Чикамога [5]
Покинув родительский дом на краю маленького поля, мальчик незамеченным пробрался в лес. Он радовался воле, радовался поджидающим его находкам и приключениям: душа ребенка тысячи лет закалялась в телах его предков, привыкая к бессмертным подвигам во имя открытий и завоеваний – то были победы в битвах, чьи переломные моменты длились столетиями, а победители ставили не походные шатры, но города из тесаного камня. С самой колыбели эта раса с боем проложила себе путь через два континента, и теперь, переплыв великое море, добралась и до третьего, чтобы заново родиться здесь, унаследовав тяготы войны и бремя власти.
Ребенку, сыну небогатого плантатора, было шесть лет. В молодости его отец служил в армии, сражался с дикарями и прошел за флагом своей страны до самой столицы цивилизованной расы на дальнем Юге. Мирная жизнь плантатора не остудила воинский пыл: разгоревшись однажды, он не гаснет до самой смерти.
Отец мальчика любил книги и картины на военные темы, и его наследник, будучи еще в самом нежном возрасте, смастерил себе деревянный меч, хотя даже наметанный глаз отца не смог распознать, что это за оружие. Мальчик носил свой клинок с гордостью, как подобает сыну героического народа, и теперь, пробираясь через залитый солнцем лес, время от времени останавливался, изображая, что нападает или защищается от кого-то, подражая людям, которых видел на гравюрах.
Легкость, с какой он повергал невидимых врагов, стоящих у него на пути, лишила его осторожности, и он допустил обычную тактическую ошибку: гнал противника до тех пор, пока не зашел слишком далеко. Он оказался на берегу широкой, но неглубокой речки, чьи стремительные воды прервали его погоню за неприятелем, со сказочной легкостью перелетевшим через поток. Но бесстрашный победитель не ведал сомнений: дух расы, переплывшей великое море, неудержимо пылал в маленькой груди, и противиться ему было невозможно. Найдя место, где по валунам, лежащим на дне, можно пройти или перепрыгнуть на другую сторону, он пересек реку и настиг арьергард отступающего врага, предав всех мечу.
Благоразумие требовало, чтобы, одержав блестящую победу, он вернулся в лагерь. Но увы, подобно многим сильным полководцам, он не смог ни умерить жажду войны, ни вовремя вспомнить, что прихотливая фортуна порой отворачивается и от величайших мира сего.
Удаляясь от берега, он внезапно столкнулся лицом к лицу с новым, более опасным противником. Угрожающе выпрямившись, навострив ужасные уши и вытянув вперед лапы, на пути мальчика сидел кролик! С испуганным воплем ребенок развернулся и побежал не разбирая дороги. Без слов он звал маму, плакал, спотыкался, колючие ветви безжалостно царапали нежную кожу, а его маленькое сердечко бешено колотилось от страха.
Запыхавшийся, ослепленный слезами, он потерялся в лесу! Больше часа блуждал среди спутанных зарослей, пока усталость не взяла свое. Тогда, отыскав тесный закуток меж двух камней в нескольких метрах от реки, он покрепче сжал свой игрушечный меч – теперь уже не орудие, но товарищ по несчастью – и, всхлипывая, уснул. Лесные птахи весело щебетали над головой, размахивая хвостами, прыгали с дерева на дерево стрекочущие белки, которым не было дела до беды маленького вояки, и далеко-далеко прокатился странный, приглушенный гром, будто армия куропаток выбивала дробь в честь победы природы над сыном ее безвестных покорителей. А на маленькой плантации белые и черные люди в тревоге прочесывали поля и живые изгороди, и материнское сердце обливалось кровью от тревоги за пропавшего сына.
Прошло несколько часов, и маленький соня наконец поднялся со своего ложа. Руки и ноги студила вечерняя прохлада, а сердце – страх темноты. Но сон придал ему сил, и он больше не плакал. Слепой инстинкт побуждал к действию, поэтому он пробрался через заросли и вышел на прогалину – справа текла река, а слева был пологий склон, поросший редкими деревьями.
Сумерки сгущались, над водой поднимался бледный, призрачный туман. Он пугал и отталкивал. Вместо того чтобы вернуться на берег, откуда пришел, мальчик развернулся в противоположном направлении и двинулся к темному лесу, обступающему прогалину со всех сторон. И тут он увидел впереди странный силуэт, который поначалу принял за крупное животное – собаку или свинью, – но точно распознать не смог.
Может быть, это медведь? Он видел медведей на картинках, ничего дурного о них не слышал и даже робко мечтал когда-нибудь встретиться с одним из них. Что-то в движениях силуэта – быть может, некоторая их неловкость – подсказало мальчику, что это не медведь. Но страх заглушил любопытство. Поэтому он стоял на месте и постепенно набирался храбрости, потому что, по крайней мере, у загадочного существа не было чудовищных, грозных кроличьих ушей. Возможно, его впечатлительный разум также подметил знакомые черты в неуклюжих, чудных движениях. Он еще не успел разрешить все сомнения, как увидел, что за первым силуэтом возник второй, и третий, и справа, и слева… Они были повсюду, и все двигались к реке.
Это были люди. Они ползли на четвереньках. Одни – на руках, волоча за собой ноги. Другие передвигались на коленях, безвольно опустив руки. Они пытались подняться на ноги, но падали ничком. Ни одно движение не выходило у них естественным, ни одно движение не повторялось, но все медленно передвигались к кромке воды. Поодиночке, парами и маленькими группами они пробирались сквозь сумерки: некоторые с передышками, некоторые непрерывно – десятками и сотнями.
Их полчища простирались насколько хватало глаз, и казалось, что этот поток никогда не иссякнет. Сама земля как будто ползла к реке.
Некоторые прилегли отдохнуть, да так и не поднялись. Они были мертвы. Другие, остановившись, странно жестикулировали, хватались за голову, вскидывали и вновь роняли руки, протягивали их вперед, как на общей молитве в церкви.
Ребенок заметил не все, подробное наблюдение было бы под силу лишь взрослому, однако он увидел взрослых, которые почему-то ползали, как младенцы. Они, хоть и были одеты в незнакомую одежду, не внушали ему страха. Он начал ходить от одного к другому, заглядывая в лица с детским любопытством. Все лица были белые, на многих красные полосы и брызги. Это – а может быть, что-то в их угловатых движениях и поведении – напомнило ему размалеванного клоуна, которого мальчик видел прошлым летом в цирке, и он засмеялся. А они все ползли и ползли – искалеченные, окровавленные люди, не понимающие, как и ребенок, сколь неуместен его смех над их предсмертной мукой.
Для него происходящее было веселым спектаклем. Негры, принадлежащие отцу, иногда ползали на четвереньках ради забавы мальчика – он даже ездил на них верхом, притворяясь, будто они его лошади. Вот и сейчас он подошел к одному человеку сзади и легко вспрыгнул ему на спину. Человек упал на живот, затем поднялся и бешено сбросил своего маленького всадника на землю, как необъезженный жеребец, повернул к нему лицо с оторванной нижней челюстью – от верхних зубов до самого горла у него было сплошное красное месиво из свисающих ошметков мяса и осколков костей.
Неестественно выступающий нос, отсутствие подбородка и безумные глаза придавали человеку сходство с хищной птицей, обагрившей шею и грудь кровью своей жертвы. Человек поднялся на колени, а мальчик – на ноги. Человек погрозил мальчику кулаком, и тот наконец испугался, забежал за ближайшее дерево и уже без веселости взглянул на то, что происходило вокруг. Люди же, переваливаясь, медленно и мучительно извивались вокруг в чудовищной пантомиме – двигались вниз по склону, как рой гигантских черных жуков, не издавая ни звука, в глубокой, абсолютной тишине.
Призрачный пейзаж, окутанный сгущающейся тьмой, неожиданно посветлел. Кромка леса за рекой озарилась странным красным светом, на его фоне проступило черное кружево стволов и ветвей. Свет упал на ползущие фигуры, и они отбросили исполинские тени, издевательски повторяющие каждое движение на траве. Он сделал резче пятна, исказившие и обезобразившие каждое лицо, и раскрасил белизну щек румянцем.
Он отразился от пуговиц и металлических деталей одежды.
Ребенок импульсивно развернулся к великолепному сиянию и двинулся вниз по склону вместе со своими жуткими попутчиками. За пару минут он опередил большую их часть – невеликое достижение, учитывая его преимущество. Он возглавил марш умирающих, все еще сжимая в руке деревянный меч, и торжественно повел их к реке, время от времени оборачиваясь и проверяя, не отстало ли войско.
По постепенно сокращающейся полоске земли между людьми и рекой были разбросаны вещи, ни о чем не говорившие маленькому полководцу: туго скрученное одеяло, согнутое пополам, концы связаны бечевкой; тяжелый ранец, сломанная винтовка – словом, вещи, которые бросает отступающее войско, след дичи, убегающей от охотников.
Вся земля у излучины была вытоптана и перемешана в грязь пехотой и конницей. Более опытный наблюдатель заметил бы, что следы вели в обоих направлениях – в атаку и обратно. Несколькими часами ранее эти отчаянные, искалеченные люди вместе со своими более удачливыми товарищами, которые теперь были уже далеко, вошли в лес многотысячной армией. Их батальоны, разбиваясь на группы и перестраиваясь в шеренги, обошли мальчика с обеих сторон, чуть не затоптав его. Шум и крики наступления не потревожили его сон. Сражение произошло на расстоянии броска камня от его лежбища, но ружейные и пушечные залпы, «громкие голоса вождей и крик» [6] остались неуслышанными. Он все проспал, сжимая деревянный меч. Он даже во сне как будто участвовал в битве, но так и не узнал ее величие, как не узнали его мертвые, павшие ради славы.
Зарево над кромкой леса в дальней части излучины теперь отражалось от дымной завесы и ярко освещало все вокруг. Оно превратило клочья тумана в золотой пар. Вода сверкала красными отблесками, и красным же светились валуны, выступающие над поверхностью. Но они покраснели и от другого: раненые залили их кровью во время переправы. Теперь по валунам торопливо прыгал направляющийся к пожару мальчик. Стоя на дальнем берегу, он обернулся к попутчикам. Авангард приближался к реке. Самые сильные уже доползли до воды и погрузили в нее лица. Трое или четверо, лежащие без движения, казались обезглавленными. Глаза ребенка расширились от изумления: даже его гибкое воображение не могло объяснить, как им удается дышать под водой. Люди же, утолив жажду, не могли собраться с силами и отползти от воды или поднять голову – они захлебывались. А за их спинами, на опушке, маленький командир разглядел столько же бесформенных фигур, сколько и прежде, но уже немногие из них двигались. Он ободряюще помахал им шапочкой и, улыбаясь, указал мечом в направлении путеводного света – огненного столпа, возглавляющего этот удивительный исход.
Уверенный в преданности своего войска, в свете зарева он легко преодолел полосу леса, взобрался на забор, перебежал поле, вертясь и заигрывая со своей тенью, и приблизился к пылающим развалинам. Разрушено все! Вокруг ни одной живой души. Но ребенка это не заботило: зрелище его развлекло, и он, ликуя, танцевал и подражал пляске огня. Он бегал вокруг развалин в поисках топлива, но все находки были слишком тяжелые, чтобы добросить их до пламени с безопасного расстояния. В отчаянии он швырнул в огонь свой меч, капитулируя перед превосходящими силами природы. Его военная карьера подошла к концу.
Пока он бродил вокруг огня, его взгляд упал на странно знакомые, будто виденные во сне, очертания. Он с интересом разглядывал их, и вдруг плантация и лес словно крутанулись на месте. Маленький мир вывернулся наизнанку. Полюса на компасе поменялись местами.
Горящее здание было его домом!
На мгновение он замер, оглушенный открытием, затем побежал на нетвердых ногах, сделал полукруг вокруг развалин. Там, ярко освещенный пламенем, лежал труп женщины: белое лицо смотрело в небо, вытянутые руки сжимали клочья травы, одежда была в беспорядке, а длинные темные волосы спутаны и покрыты запекшейся кровью. Снаряд оторвал большую часть лба, мозг вывалился из отверстия и стекал по виску – вспененная, увенчанная множеством красных пузырьков серая масса.
Мальчик вскинул руки, замахал дико, безумно. Его крики были бессловесны и неописуемы – что-то среднее между лепетом обезьяны и гоготом индюка – страшный, бездушный, кощунственный звук, дьявольский язык. Ребенок был глухонемым.
Он стоял неподвижно и смотрел на пожар. Губы его дрожали.
Летящий всадник [7]
1
Стояла солнечная осень 1861 года. В лавровых зарослях у дороги в Западной Виргинии лежал солдат. Он вытянулся на животе, упершись носками в землю и положив голову на левую руку, а правой рукой сжимая винтовку. Из-за неестественного положения конечностей и совсем незаметного ритмичного покачивания патронташа, висящего на ремне, он казался мертвым. Однако солдат всего лишь заснул на посту. Если бы его обнаружили, то и вправду убили бы на месте, и казнь стала бы справедливым и заслуженным наказанием за это преступление.
Лавры, где устроился нарушитель воинской дисциплины, росли в излучине дороги, которая уходила вверх по склону на юг, на самой вершине утеса круто сворачивала к западу и около сотни метров тянулась по вершине. Затем она вновь уходила на юг и, петляя, спускалась к лесу. На втором повороте лежал большой плоский камень, он будто смотрел на глубокую долину, откуда поднималась дорога. Камень нависал над высоким утесом – осколок, сорвавшийся с его края, пролетел бы не менее трехсот метров, прежде чем достичь верхушек сосен.
Излучина дороги, где лежал солдат, располагалась на втором возвышении утеса. Если бы не дремота, часовой сейчас мог бы окинуть взглядом не только короткий отрезок дороги и плоский камень, но и край утеса, и долину внизу. От этого вида у него точно закружилась бы голова.
Вся долина была покрыта лесом, за исключением самого дна, где раскинулся небольшой луг. По нему протекал ручей, едва видный с края впадины. С утеса эта прогалина казалась не больше обычного двора, но на самом деле занимала большую территорию. Зелень там была сочнее, чем кроны окружающих деревьев. За прогалиной поднимались громадные утесы, похожие на тот, по которому кто-то неведомым образом проложил дорогу и откуда обозревался этот уголок нетронутой природы. Долина с этой позиции простреливалась полностью, и можно было только догадываться, откуда брала начало дорога, пролегающая по ней, и куда впадал ручей, разделяющий землю пополам в сотнях метров внизу.
Однако даже такой труднопроходимый и дикий уголок люди умудрились превратить в театр военных действий: между деревьями на дне этой ловушки, в которой полсотни человек, заняв стратегические подходы, могли уморить голодом целую армию, скрывалось пять полков федеральной пехоты. Они шли сюда целые сутки и теперь расположились на отдых. С наступлением ночи они планировали вновь выйти на дорогу, подняться на вершину, где сейчас спит незадачливый часовой, и, спустившись по другому склону, около полуночи напасть на вражеский лагерь. Вся надежда была на внезапность, поскольку дорога выходила к арьергарду противника. Если бы случай или неосторожность раскрыли этот маневр неприятелю, войска Федерации оказались бы в безнадежном положении.
2
Спящий часовой, Картер Друз, уроженец Виргинии, был единственным сыном состоятельных родителей, привыкшим к той легкости, манерам и уровню жизни, какие только могли себе позволить богатые люди с хорошим вкусом в горном краю Западной Виргинии. Его родовое гнездо располагалось всего в нескольких километрах от места, где он сейчас лежал. Однажды утром Картер встал из-за стола после завтрака и тихо, но серьезно заявил:
– Отец, полк Союза прибыл в Графтон. Я намерен присоединиться к нему.
Отец немного помолчал, глядя на сына, а затем ответил:
– Что ж, ступай. И что бы ни случилось, выполняй то, что считаешь своим долгом. Виргиния переживет твое предательство. Если мы оба останемся живы до конца войны, то еще поговорим об этом. Тебе, наверное, известно, что твоя матушка находится в критическом состоянии – в лучшем случае она проживет несколько недель, и это время бесценно. Не будем ее беспокоить.
Картер Друз с почтением поклонился отцу, ответившему на поклон с величавым спокойствием, за которым скрывалось разбитое сердце, покинул дом и отправился на службу. Вскоре его преданность, отвага и лихие подвиги принесли ему добрую славу среди боевых товарищей и офицеров. Именно благодаря этим качествам, а также знанию местности, он был отправлен в дозор на опаснейший пост. Однако усталость поборола чувство долга, и Картер задремал.
Какой ангел (добрый или злой) посетил его в сновидениях и оборвал преступный сон? Без движения, без звука, в абсолютной послеполуденной тишине и истоме незримый посланник судьбы прояснил его разум и шепнул таинственное пробуждающее слово, которое никогда не срывалось с человеческих уст, никогда не всплывало в человеческой памяти. Солдат бесшумно поднял голову и взглянул сквозь стволы лавровых деревьев, машинально сжав правой рукой приклад винтовки.
Первое, что он почувствовал, – восторг художника. На колоссальном пьедестале утеса, застыв на выступающем краю плоского камня и четко выделяясь на фоне неба, возвышалась величавая статуя всадника. Изваяние человека сидело на изваянии лошади, прямо и по-военному, но со спокойствием греческого божества, высеченного из безжизненного мрамора. Серая форма хорошо сочеталась с воздушным фоном, металлический блеск снаряжения и упряжи смягчила тень. На шерсти коня не было ни единого светлого пятнышка. Поперек луки седла лежал карабин, ствол которого резко уходил в перспективу. Правой рукой всадник придерживал ружье за приклад, левую руку, сжимающую поводья, не было видно.
Профиль лошади выделялся на фоне неба в мельчайших подробностях, а ее взгляд устремился сквозь воздушное пространство к утесам, виднеющимся вдали. Седок повернул голову. Он смотрел вниз, в долину. Видны были только очертания его виска и бороды. Взбудораженное присутствием врага воображение солдата придало фигуре исполинские, титанические пропорции.
На мгновение Друз испытал странное, смутное чувство, что он проспал всю войну и теперь смотрит на благородное произведение искусства, воздвигнутое на этой вершине в память о деяниях героического прошлого, в которых он принял не самое достойное участие. Это чувство развеялось, когда «группа» пошевелилась: лошадь, не переступая, отклонилась от края утеса, человек остался неподвижен. Опомнившись и внезапно поняв, в каком опасном положении оказалась его армия, Друз аккуратно подтащил к себе винтовку, ухватив ее за ствол, взвел курок и прицелился в грудь всадника. Одно движение спускового крючка – и для Картера Друза все закончится благополучно. И тут всадник обернулся и посмотрел в сторону затаившегося противника – казалось, он видит часового, смотрит ему в глаза, заглядывает прямо в бесстрашное, сострадающее сердце.
Трудно ли убить врага на войне? Врага, раскрывшего секрет, который может стоить жизни тебе и твоим товарищам, врага, который опаснее целой армии? Картер Друз побледнел. Руки задрожали, ноги стали как ватные, статуя перед глазами почернела и закачалась, описывая дуги в пылающем небе. Он отпустил винтовку и поник лицом, затем уткнулся в палую листву. Отважный джентльмен и закаленный солдат, сейчас он почти потерял сознание от обуревающих его чувств.
Но это продлилось недолго: через мгновение он вскинул голову, снова взялся за оружие, палец нащупал спусковой крючок. Его ум, сердце и взгляд были чисты, мысли и совесть подчинились голосу разума. Он не мог пленить врага, малейшая неосторожность – и тот помчался бы в свой лагерь с пагубными вестями. Солдатский долг очевиден: этого человека следует убить из засады – без предупреждения, не тратя время на сомнения или безмолвную молитву. Нужно рассчитаться с ним. Но нет, все-таки есть надежда, что всадник ничего не видел и просто наслаждался безмятежностью пейзажа. Быть может, стоит позволить ему развернуть лошадь и беспечно уехать туда, откуда он прибыл. Конечно, надо бы выяснить, что тот увидел, как только он отъедет. Вероятно, его сосредоточенность… Друз повернул голову и сквозь сотни метров воздуха, будто с поверхности прозрачного моря, посмотрел вниз на долину. И тут увидел извивающуюся цепочку людей и лошадей, идущих через луг, – какой-то бестолковый командир позволил солдатам сопровождения вывести животных на водопой, видный со всех сторон как на ладони.
Друз оторвал взгляд от долины и снова посмотрел на лошадь и всадника, словно паривших в небе, через прицел винтовки. Но в этот раз он целился в лошадь. В его памяти, как строки Священного Писания, прозвучали прощальные слова отца: «Что бы ни случилось, выполняй то, что считаешь своим долгом». Теперь Картер был спокоен, только крепко сжал губы. Он был спокоен, даже безмятежен, как спящий младенец. Ни один мускул не дрогнул на лице, дыхание осталось ритмичным и неторопливым. Он лишь на мгновение задержал вдох перед самым выстрелом. Долг победил, дух велел телу: «Спокойно, не двигайся». И Друз выстрелил.
3
В то же самое время дух приключений или простое любопытство заставили офицера федеральной армии покинуть бивуак, спрятанный среди деревьев на дне долины, и без всякой цели отправиться к небольшой прогалине у подножия утеса. Теперь он размышлял, какие плоды принесет его разведка. В трехстах метрах перед ним, на расстоянии броска камня, над кромкой леса возвышалась гигантская скала: она поднималась так высоко, что у него закружилась голова, когда он взглянул на четкие, изломанные очертания ее вершины на фоне неба. За ровным вертикальным профилем утеса разлилась небесная синева, переходящая в синеву древесных крон на далеких холмах.
Вновь посмотрев вверх на головокружительную высоту, офицер внезапно увидел ошеломляющую картину – человека, верхом на лошади спускающегося в долину прямо по воздуху!
Всадник сидел в седле по-военному прямо и уверенно. Он крепко держал поводья, не позволяя скакуну резко уйти вниз. Его длинные волосы развевались в потоке воздуха, как плюмаж, а руки скрывались в дыму вздыбившейся лошадиной гривы. Тело животного держалось прямо, будто с каждым ударом копыт оно касалось твердой земли. Его движения напоминали стремительный галоп, а потом лошадь выбросила ноги вперед, словно готовясь приземлиться после прыжка. Но она продолжала полет! Офицер смотрел и не верил своим глазам!
В изумлении и ужасе от явления небесного всадника, почти уверенный в том, что его избрали летописцем нового Апокалипсиса, офицер застыл, не в силах противиться нахлынувшим чувствам. Ноги подкосились, и он рухнул на землю. Потом услышал треск среди деревьев, и все стихло.
Офицер поднялся на ноги. Его била дрожь. Боль в ободранном колене привела его в чувство. Взяв себя в руки, он бросился наискосок от подножия утеса в глубь леса, надеясь обнаружить там загадочного всадника. Естественно, поиски были напрасны. Короткое видение слишком сильно потрясло его воображение изяществом и непринужденной легкостью явно намеренного чудесного полета: ему даже не пришло в голову, что небесная кавалерия держала курс отвесно вниз и нужно было искать у самого подножия утеса. Через полчаса он вернулся в лагерь.
Офицер был совсем не дурак и быстро сообразил, что не стоит раскрывать удивительную правду, поэтому промолчал о «чуде». Однако когда командир спросил, не раздобыл ли он полезные сведения, тот ответил:
– Никак нет, сэр. С юга к этой долине подступов нет.
Командир только улыбнулся: у него имелись совсем другие данные.
4
После выстрела рядовой Картер Друз перезарядил винтовку и возобновил наблюдение. Не прошло и десяти минут, как к нему осторожно подполз сержант Федерации. Друз продолжал лежать без движения, не обозначив ни взглядом, ни поворотом головы, что он заметил появление товарища по оружию.
– Ты стрелял? – шепнул сержант.
– Я.
– В кого?
– В лошадь. Она стояла на том камне, довольно далеко впереди. Вы ее не увидите, она прыгнула с обрыва.
Лицо рядового было совсем белым, но больше ничто не выдавало чувств. Ответив, он отвел глаза и замолк. Сержант не понял доклада и, помолчав, произнес:
– Послушай, Друз. Нечего мне тут загадки загадывать. Приказываю отвечать: на лошади кто-то был?
– Да.
– И?..
– Это был мой отец.
Сержант поднялся на ноги и пошел прочь.
– Боже правый! – воскликнул он.
Пересмешник [8]
Стояла ранняя осень 1861 года, приятный день в самом сердце леса в горном районе юго-западной Виргинии. Рядовой федеральной армии Грейрок удобно устроился у корня огромной сосны, прислонившись к стволу и сложив сцепленные в замок руки на винтовку, лежащую поперек вытянутых ног. Голова его откинулась назад, а фуражка съехала на глаза, почти закрыв их. Всякий, взглянув на этого человека, сказал бы, что он спит.
Однако рядовой Грейрок не спал. Задремав, он поставил бы под угрозу интересы Соединенных Штатов, поскольку находился далеко от расположения своей части и мог легко попасть в плен или погибнуть от руки врага. Да и душевное состояние не располагало к отдыху. Причиной волнения рядового было вот что: прошлой ночью его послали в дозор, и он стоял в карауле как раз в этой части леса. Ночь выдалась безлунной, но светлой, тем не менее под сенью леса темнота сгущалась.
Соседние посты находились на значительном расстоянии – дозор выставили слишком далеко от лагеря, и линия часовых растянулась. Война только начиналась, и военные питали ошибочную уверенность, что расположенный далеко от лагеря разрозненный ряд часовых способен защитить позицию лучше, чем выставленный ближе к лагерю и более плотный. И конечно, им было важно как можно раньше узнать о приближении врага, ведь в то время солдаты на ночь раздевались – хотя для военного времени это было чистым безумием. Например, утром печально знаменитого дня 6 апреля в битве у Шайло многие солдаты Гранта, насаженные на штыки конфедератов, были нагие, как какие-нибудь гражданские. Хотя… в том не было вины дозорных. В тот день допустило ошибку командование: оно вовсе не выставило постов.
Однако не будем отвлекаться – нас интересует судьба не армии, а всего лишь одного солдата.
Оставшись один на посту, он простоял два часа, прислонившись к стволу большого дерева, вглядываясь в темноту и пытаясь угадать формы предметов. Днем ранее он стоял на том же самом посту, но теперь все изменилось: мелкие объекты скрылись в темноте, и рядовой мог разглядеть только контуры, которые невозможно было узнать, не видя деталей. Казалось, раньше их здесь не было вовсе. Да и ландшафт, состоящий только из деревьев и подлеска, довольно однообразен – в нем не хватает выделяющихся силуэтов, за которые могло бы зацепиться внимание. Добавьте к этому мрак безлунной ночи, и вы поймете, что для ориентировки в таких условиях необходимы не только острый от природы ум и городское образование.
Так и получилось, что рядовой Грейрок, внимательно изучивший пространство перед собой и вокруг себя, для чего ему пришлось обойти вокруг дерева, потерял чувство направления и тем самым резко понизил свою стратегическую полезность. Потерявшийся на собственном посту, не способный точно указать, откуда ожидать появления противника и где находится спящий лагерь, за безопасность которого он отвечал собственной жизнью, Грейрок понял всю нелепость и опасность сложившейся ситуации и здорово разволновался.
Однако вернуть прежнее расположение духа ему не дали: ровно в ту секунду, когда он понял, в какую передрягу влип, Грейрок услышал шорох листьев и треск упавших веточек и, обернувшись с замирающим сердцем в направлении шума, увидел в темноте расплывчатые очертания человека.
– Стой! – вскричал рядовой Грейрок, как и велели обязанности часового, и подкрепил приказ лязганьем передергиваемого затвора. – Кто идет?
Ответа не последовало. Точнее, последовала короткая заминка, и ответ, даже если таковой был, потонул в звуке выстрела. Тот прозвучал оглушительно в тишине леса и ночи, и не успело гремящее эхо затихнуть, как его подхватили винтовки на постах справа и слева. В течение двух часов каждый штатский, который и пороха-то никогда не нюхивал, рисовал в воображении толпы врага, заполонившие лес, и выстрел Грейрока облек в реальность эти воображаемые полчища.
Пальнув в темноту, все стремглав кинулись в лагерь – все, кроме Грейрока, который понятия не имел, где тот находится. Когда выяснилось, что враг так и не собрался наступать, растревоженные солдаты снова разделись и отправились спать, а дозорных предусмотрительно расставили по местам, выяснилось, что наш рядовой не дрогнул перед лицом врага. Его храбрость удостоилась похвалы от офицера караула, который сказал, что Грейрок единственный из всего наряда обладает редкими моральными качествами человека, «способного поставить на уши преисподнюю».
После инцидента Грейрок отправился искать тело чужака, в которого стрелял, и, как подсказывало ему чутье стрелка, попал. Он принадлежал к тому типу прирожденных стрелков, которые стреляют, не целясь и опираясь лишь на интуитивное чувство направления, и ночью их меткость не хуже, чем днем. Добрую половину своих двадцати четырех лет Грейрок был грозой всех тиров в трех окрестных городах.
Когда поиск не дал результатов, рядовому хватило благоразумия умолчать об этом, и тогда его командир и боевые товарищи посчитали, будто он остался на посту, поскольку не увидел перед собой ничего подозрительного. Это принесло ему заметное облегчение – в любом случае «отличился» он тем, что единственный из всех не сбежал.
Однако рядового Грейрока не удовлетворили результаты поиска, и на следующий день он попросил разрешения выйти за линию часовых, каковое генерал охотно ему дал в счет проявленной накануне отваги. Рядовой отправился на свой пост, сказал часовому, что потерял кое-что (не сильно погрешив против истины), и возобновил поиски человека, которого он предположительно застрелил и теперь надеялся выследить по следам крови.
Но и днем удача не сопутствовала ему: прочесав обширный участок леса и дерзко проникнув на территорию противника, он сдался, уселся у корней большой сосны, где его и застало начало нашей истории, и погрузился в разочарованное раздумье.
Разочарование Грейрока происходило не от гнева жестокой натуры, упустившей жертву своего кровавого деяния. В больших честных глазах, тонко сжатых губах и на широком лбу молодого человека читались совсем другие переживания, как и прямота, чувствительность, смелость и разумность, свойственные его характеру.
«Я расстроен, – говорил он себе, сидя в золотой дымке, окутавшей подножие деревьев, подобно водам призрачного моря, – расстроен тем, что не могу найти тело человека, павшего от моей руки! Неужели я, исполняя долг часового, желаю при этом непременно отнять человеческую жизнь? Зачем мне это? Если нам и угрожала опасность, мой выстрел предотвратил ее; именно это от меня и требовалось. Нет, я действительно рад, что ни одна жизнь не была погублена без нужды. Но я поставил себя в двусмысленное положение. Я удостоился похвалы начальства и зависти товарищей. По всему лагерю носятся слухи о моей отваге. Это несправедливо: я не трус, но меня хвалят за то, чего я не совершал или, напротив, совершил. Все думают, будто я храбро остался на посту, не тратя патроны, хотя именно я открыл стрельбу и остался на месте во время общей тревоги, потому что не знал, куда бежать. Так что же мне делать? Сказать, что увидел врага и выстрелил? То же самое сказали остальные, но им никто не верит. Сказать правду, которая подорвет веру в мою смелость и будет похожа на ложь? Ох, как же я влип. Господи, помоги мне найти того парня!»
С этим пожеланием рядовой Грейрок, которого наконец одолела истома осеннего полудня и убаюкало жужжание снующих в зарослях насекомых, настолько позабыл об интересах Соединенных Штатов, что позволил себе задремать, презрев опасность быть схваченным. И ему приснился сон.
Во сне он был мальчишкой, живущим в далеком прекрасном краю на берегу великой реки. По ней величественно ходили высокие пароходы, увенчанные башнями черного дыма, который предупреждал об их появлении задолго до того, как они преодолевали излучину, и повторял их движения после того, как они уходили за горизонт. И рядом с ним всегда был тот, кому он отдавал свое сердце и душу, – его брат-близнец. Они вместе бродили по берегу реки, вместе исследовали окружающие ее поля, собирали душистую мяту и веточки ароматного сассафраса на холмах, господствующих надо всей округой. За холмами лежал Мир Догадок, а с пологих вершин, если смотреть на южный берег великой реки, можно было разглядеть Сказочную Страну.
Плечом к плечу, сердце к сердцу, сыновья овдовевшей матери, они бродили светлыми тропами по мирным долинам под молодым солнцем, каждый день совершая удивительные открытия. И все эти золотые дни были напоены одним звуком – богатыми, трепетными трелями пересмешника, живущего в клетке над дверью их домика. Они заполняли каждый эпизод сна, как музыкальное благословение. Веселая птаха не замолкала никогда: бесконечные трели, казалось, сами струились из ее горлышка безо всяких усилий, плещась и журча при каждом биении сердца, как воды живого источника. Свежая, чистая мелодия в самом деле была духом того времени, смыслом и толкованием загадок жизни и любви.
Но пришло время, когда сон омрачился горем, и в нем пролился дождь слез. Добрая матушка умерла, домик на краю поля у великой реки снесли, а братьев отдали под опеку двух родичей. Вильям (наш рядовой) переехал в большой город в Мире Догадок, а Джон пересек реку и отправился в Сказочную Страну, в далекий край, где жили люди со странными и жестокими привычками. Именно ему по завещанию матери перешла единственная, по их мнению, ценная вещь – клетка с пересмешником. Братьев разделили, но птицу разделить было нельзя: ее увезли на чужбину, и с тех пор она исчезла из мира Вильяма. Но ее песенка продолжала звучать и во времена одиночества, до конца сна – в его ушах и сердце.
Родственники, усыновившие мальчиков, враждовали между собой и не поддерживали связь. Некоторое время братья обменивались письмами, полными мальчишеского задора и хвастливых рассказов о новых и больших открытиях, о перспективах в жизни и новых покоренных мирах, но со временем письма стали реже, а с переездом Вильяма в большой и великий город связь окончательно оборвалась. Но песня пересмешника не умолкала ни на минуту, и когда спящий солдат открыл глаза и взглянул на окружающий его сосновый бор, именно наступившая тишина оповестила его о пробуждении.
Красное солнце клонилось к западу. В его лучах каждый ствол отбрасывал тень, которая тянулась сквозь золотую дымку на восток, где смешивалась со светом и растворялась в синеве.
Рядовой Грейрок поднялся на ноги, настороженно огляделся, вскинул винтовку на плечо и направился к лагерю. Он прошел, наверное, около километра и пробирался сквозь густые заросли лавра, когда над ними взвилась птица и, присев на ветку дерева неподалеку, разлила в воздухе неистощимый поток жизнерадостных трелей, какими единственное из Божьих созданий может славить Всевышнего. Ей ничего не стоило запеть – она просто открыла клювик, и песня родилась от дыхания, – однако солдат остановился, словно пораженный громом. Он выронил винтовку, посмотрел на птицу, закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок!
В ту минуту он и правда стал ребенком. В душе и в памяти он снова жил на берегу великой реки недалеко от Волшебной Страны!
Через какое-то время он усилием воли взял себя в руки, поднял оружие и продолжил путь, вслух ругая себя за глупость. Проходя мимо прогалины в центре зарослей, он увидел человека, лежащего навзничь на земле, одетого в серую униформу с единственным пятном крови на груди. А в запрокинутом белом лице этого человека он узнал… себя! Тело Джона Грейрока, погибшего от пулевого ранения, еще не остыло. Он нашел свою жертву.
Незадачливый солдат рухнул на колени возле брата, которого по прихоти Гражданской войны погубил собственными руками, и тут же птица над его головой оборвала свою песенку и, подхваченная алым сиянием заката, бесшумно снялась с ветки и улетела в безмятежную лесную даль.
Ни в тот день на вечерней перекличке в лагере федералов, ни позже на имя Вильяма Грейрока не откликнулся никто.
Убит под Ресакой [9]
Лучшим офицером нашего штаба был лейтенант Герман Брэйл, один из двух адъютантов. Я не помню, где разыскал его генерал – кажется, в одном из полков штата Огайо; никто из нас не знал его раньше, и неудивительно, так как среди нас не было и двух человек из одного штата или хотя бы из смежных штатов. Генерал был, по-видимому, того мнения, что должности в его штабе являются высокой честью и распределять их нужно осмотрительно и мудро, чтобы не породить раздоров и не подорвать единства той части страны, которая еще представляла собой единое целое. Он не соглашался даже подбирать себе офицеров в подчиненных ему частях и путем каких-то махинаций в Генеральном штабе добывал их из других бригад. При таких условиях человек действительно должен был отличиться, если хотел, чтобы о нем услышали его семья и друзья его молодости; да и вообще «славы громкая труба» к тому времени уже слегка охрипла от собственной болтливости.
Лейтенант Брэйл был выше шести футов ростом и великолепно сложен; у него были светлые волосы, серо-голубые глаза, которые в представлении людей, наделенных этими признаками, обычно связываются с исключительной храбростью. Неизменно одетый в полную форму, он был очень яркой и заметной фигурой, особенно в деле, когда большинство офицеров удовлетворяются менее бьющим в глаза нарядом. Помимо этого, он обладал манерами джентльмена, головой ученого и сердцем льва. Лет ему было около тридцати.
Брэйл скоро завоевал не только наше восхищение, но и любовь, и мы были искренне огорчены, когда в бою при Стонсривер – первом после того, как он был переведен в нашу часть, – мы заметили в нем очень неприятную и недостойную солдата черту: он кичился своей храбростью. Во время всех перипетий и превратностей этого жестокого сражения, безразлично, дрались ли наши части на открытых хлопковых полях, в кедровом лесу или за железнодорожной насыпью, он ни разу не укрылся от огня, если только не получал на то строгого приказа от генерала, у которого голова почти всегда была занята более важными вещами, чем жизнь его штабных офицеров, да, впрочем, и солдат тоже.
И дальше, пока Брэйл был с нами, в каждом бою повторялось то же самое. Он оставался в седле, подобный конной статуе, под градом пуль и картечи, в самых опасных местах, – вернее, всюду, где долг, повелевавший ему уйти, все же позволял ему остаться, – тогда как мог бы без труда и с явной пользой для своей репутации здравомыслящего человека находиться в безопасности, поскольку она возможна на поле битвы в короткие промежутки личного бездействия.
Спешившись, будь то по необходимости или из уважения к своему спешенному командиру или товарищам, он вел себя точно так же. Он стоял неподвижно, как скала, на открытом месте, когда и офицеры, и солдаты уже давно были под прикрытием; в то время как люди старше его годами и чином, с большим опытом и заведомо отважные, повинуясь долгу, сохраняли за гребнем какого-нибудь холма свою драгоценную для родины жизнь, этот человек стоял на гребне праздно, как и они, повернувшись лицом в сторону самого жестокого огня.
Когда бои ведутся на открытой местности, сплошь и рядом бывает, что части противников, расположенные друг против друга на расстоянии каких-нибудь ста ярдов, прижимаются к земле так крепко, как будто нежно любят ее. Офицеры, каждый на своем месте, тоже лежат пластом, а высшие чины, потеряв коней или отослав их в тыл, припадают к земле под адской пеленой свистящего свинца и визжащего железа, совершенно не заботясь о своем достоинстве.
В таких условиях жизнь штабного офицера бригады весьма незавидна, в первую очередь из-за постоянной опасности и изнуряющей смены переживаний, которым он подвергается. Со сравнительно безопасной позиции, на которой уцелеть, по мнению человека невоенного, можно только «чудом», его могут послать в залегшую на передовой линии часть с поручением к полковому командиру – лицу, в такую минуту не очень заметному, обнаружить которое подчас удается лишь после тщательных поисков среди поглощенных своими заботами солдат, в таком грохоте, что и вопрос, и ответ можно передать только с помощью жестов. В таких случаях принято втягивать голову в плечи и пускаться в путь крупной рысью, являя собой увлекательнейшую мишень для нескольких тысяч восхищенных стрелков. Возвращаясь… впрочем, возвращаться в таких случаях не принято.
Брэйл придерживался другой системы. Он поручал своего коня ординарцу – он любил своего коня – и, даже не сутулясь, спокойно отправлялся выполнять свое рискованное задание, причем его великолепная фигура, еще подчеркнутая мундиром, приковывала к себе все взгляды. Мы следили за ним затаив дыхание, не смея шелохнуться. Как-то случилось даже, что один из наших офицеров, очень экспансивный заика, увлекшись, крикнул мне:
– Д-держу п-пари на д-два д-доллара, что его с-собьют п-прежде, чем он д-дойдет до т-той к-канавы!
Я не принял этого жестокого пари; я сам так думал. Мне хочется воздать должное памяти храбреца: все эти ненужные подвиги не сопровождались ни сколько-нибудь заметной бравадой, ни хвастовством. В тех редких случаях, когда кто-нибудь из нас несмело протестовал, Брэйл приветливо улыбался и отделывался каким-нибудь шутливым ответом, который, однако, отнюдь не поощрял к дальнейшему развитию этой темы. Однажды он сказал:
– Капитан, если я когда-нибудь буду наказан за то, что пренебрегал вашими советами, я надеюсь, что мои последние минуты скрасит звук вашего милого голоса, нашептывающего мне в ухо сакраментальные слова: «Я же вам говорил!»
Мы посмеялись над капитаном – почему, мы, вероятно, и сами не могли бы объяснить, – а в тот же день, когда его разорвало снарядом, Брэйл долго оставался у его тела, с ненужным старанием собирал уцелевшие куски – посреди дороги, осыпаемой пулями и картечью. Такие вещи легко осуждать, и нетрудно воздержаться от подражания им, но уважение рождается неизбежно, и Брэйла любили, несмотря на слабость, которая проявлялась столь героически. Мы досадовали на его безрассудство, но он продолжал вести себя так до конца, иногда получал серьезные ранения, но неизменно возвращался в строй как ни в чем не бывало.
Разумеется, в конце концов это произошло; человек, игнорирующий закон вероятности, бросает вызов такому противнику, который редко терпит поражение. Случилось это под Ресакой, в Джорджии, во время похода, который закончился взятием Атланты. Перед фронтом нашей бригады линия неприятельских укреплений проходила по открытому полю вдоль невысокого гребня. С обеих сторон этого открытого пространства мы стояли совсем близко от неприятеля в лесу, но поле мы могли бы занять только ночью, когда темнота даст нам возможность зарыться в землю, подобно кротам, и окопаться. В этом пункте наша позиция находилась на четверть мили дальше, в лесу. Грубо говоря, мы образовали полукруг, а укрепленная линия противника была как бы хордой этой дуги.
– Лейтенант, вы передадите полковнику Уорду приказ продвинуться насколько возможно вперед, не выходя из-под прикрытия, и не расстреливать без нужды снарядов и патронов.
Коня можете оставить здесь.
Когда генерал отдал это распоряжение, мы находились у самой опушки леса, близ правой оконечности дуги. Полковник Уорд находился на ее левом конце. Разрешение оставить коня ясно означало, что Брэйлу предлагается идти обходным путем, рощей, вдоль наших позиций. В сущности, тут и разрешать было нечего; пойти второй, более короткой дорогой значило потерять какие бы то ни было шансы выполнить задание. Прежде чем кто-либо успел вмешаться, Брэйл легким галопом вынесся в поле, и линия противника застрекотала выстрелами.
– Остановите этого болвана! – крикнул генерал. Какой-то ординарец, проявив больше честолюбия, чем ума, поскакал исполнять приказ и в двадцати шагах оставил своего коня и себя самого мертвыми на поле чести.
Вернуть Брэйла было невозможно, лошадь легко несла его вперед, параллельно линии противника и меньше чем в двухстах ярдах от нее. Зрелище было замечательное! Шляпу снесло у него с головы ветром или выстрелом, и его длинные светлые волосы поднимались и опускались в такт движению коня. Он сидел в седле выпрямившись, небрежно держа поводья левой рукой, в то время как правая свободно висела. То, как он поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, позволяя нам мельком увидеть его красивый профиль, доказывало, что интерес, проявляемый им ко всему происходящему, был естественный, без тени аффектации.
Зрелище было в высшей степени драматическое, но никоим образом не театральное. Один за другим десятки винтовок злобно плевали в него, по мере того как он попадал в их поле действия, и было ясно видно и слышно, как наша часть, залегшая в лесу, открыла ответный огонь. Уже не считаясь ни с опасностью, ни с приказами, наши повскакали на ноги и, высыпав из-под прикрытий, не скупясь, палили по сверкающему гребню неприятельской позиции, которая в ответ поливала их незащищенные группы убийственным огнем. С обеих сторон в бой вступила артиллерия, прорезая гул и грохот глухими, сотрясающими землю взрывами и раздирая воздух тучами визжащей картечи, которая со стороны противника разбивала в щепы деревья и обрызгивала их кровью, а с нашей – скрывала дым неприятельского огня столбами и облаками пыли с их брустверов.
На минуту мое внимание отвлекла общая картина битвы, но теперь, бросив взгляд в просвет между двумя тучами порохового дыма, я увидел Брэйла, виновника всей этой бойни.
Невидимый теперь ни с той ни с другой стороны, приговоренный к смерти и друзьями, и недругами, он стоял на пронизанном выстрелами поле неподвижно, лицом к противнику. Неподалеку от него лежал его конь. Я мгновенно понял, что его остановило.
Как военный топограф, я в то утро произвел беглое обследование местности и теперь вспомнил, что там был глубокий и извилистый овраг, пересекавший половину поля от позиции противника и под прямым углом к ней. Оттуда, где мы стояли сейчас, этого оврага не было видно, и Брэйл, судя по всему, не знал о его существовании. Перейти его было явно невозможно. Его выступающие углы обеспечили бы Брэйлу полную безопасность, если бы он решил удовлетвориться уже совершившимся чудом и спрыгнуть вниз. Вперед он идти не мог, поворачивать обратно не хотел; он стоял и ждал смерти. Она недолго заставила себя ждать. По какому-то таинственному совпадению стрельба прекратилась почти мгновенно после того, как он упал, – одиночные выстрелы, казалось, скорее подчеркивали, чем нарушали тишину. Словно обе стороны внезапно раскаялись в своем бессмысленном преступлении. Сержант с белым флагом, а за ним четверо наших санитаров беспрепятственно вышли в поле и направились прямо к телу Брэйла. Несколько офицеров и солдат южной армии вышли им навстречу и, обнажив головы, помогли им положить на носилки их священную ношу. Когда носилки двинулись к нам, мы услышали за неприятельскими укреплениями звуки флейт и заглушенный барабанный бой – траурный марш. Великодушный противник воздавал почести павшему герою.
Среди вещей, принадлежавших убитому, был потертый сафьяновый бумажник. Когда, по распоряжению генерала, имущество нашего друга было поделено между нами на память, этот бумажник достался мне.
Через год после окончания войны, по пути в Калифорнию, я открыл его и от нечего делать стал просматривать. Из не замеченного мною раньше отделения выпало письмо без конверта и без адреса. Почерк был женский, и письмо начиналось ласковым обращением, но имени не было.
В верхнем углу значилось: «Сан-Франциско, Калифорния, 9 июля, 1862». Подпись была «Дорогая» в кавычках. В тексте упоминалось и полное имя писавшей – Мэриен Менденхолл.
Тон письма говорил об утонченности и хорошем воспитании, но это было обыкновенное любовное письмо, если только любовное письмо может быть обыкновенным. В нем было мало интересного, но кое-что все же было. Вот что я прочел:
«Мистер Уинтерс, которому я никогда этого не прощу, рассказывал, что во время какого-то сражения в Виргинии, в котором он был ранен, видели, как вы прятались за деревом. Я думаю, что он хотел повредить вам в моих глазах, он знает, что так оно и было бы, если бы я поверила его рассказу. Я легче перенесла бы известие о смерти моего героя, чем о его трусости».
Вот слова, которые в тот солнечный день, в далеком краю, стоили жизни десяткам людей. А еще говорят, что женщина – слабое создание!
Как-то вечером я зашел к мисс Менденхолл, чтобы вернуть ей это письмо. Я думал также рассказать ей, что она сделала, – но не говорить, что это сделала она. Я был принят в прекрасном особняке на Ринкон-Хилле. Она была красива, хорошо воспитана – словом, очаровательна.
– Вы знали лейтенанта Германа Брэйла, – сказал я без всяких предисловий. – Вам, конечно, известно, что он пал в бою. Среди его вещей было ваше письмо к нему. Я пришел, чтобы вернуть его вам.
Она машинально взяла письмо, пробежала его глазами, краснея все гуще и гуще, потом, взглянув на меня с улыбкой, сказала:
– Очень вам благодарна, хотя, право же, не стоило трудиться. – Вдруг она вздрогнула и изменилась в лице. – Это пятно, – сказала она, – это… это же не…
– Сударыня, – сказал я, – простите меня, но это кровь самого верного и храброго сердца, какое когда-либо билось.
Она поспешно бросила письмо в пылающий камин.
– Брр! Совершенно не переношу вида крови, – сказала она. – Как он погиб?
