Герой нашего времени с иллюстрациями автора
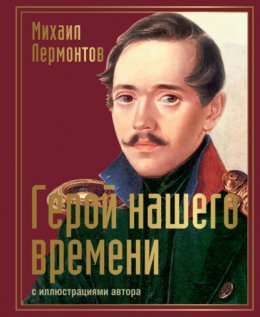
© Маркелов Н.В., предисловие, 2025
© Издательство АСТ, 2025
«Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..»
Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю. Лермонтова
Лермонтов был связан с Кавказом всю свою недолгую жизнь и посвятил ему свои лучшие творенья в стихах и прозе. Все примечательные места, которые посещал поэт, странствуя по кавказским дорогам, запечатлены на его живописных полотнах и многочисленных рисунках. Каждая встреча с горным краем дарила ему новое вдохновенье. «Мной овладел демон поэзии, сиречь стихов», – признавался он в одном из кавказских писем. Здесь поэт провел свои последние дни, здесь была пролита его кровь, здесь он окончил свой земной путь, полный мучительных раздумий и неразделенной любви. За строками таких непревзойденных лермонтовских шедевров, как «Валерик», «Завещание» и «Сон», стоит его драматическая боевая судьба.
«Если будет война, клянусь вам богом, буду всегда впереди»
Друг детских игр, троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей вспоминал, что юный Мишель «лепил из крашеного воску целые картины». Иногда сюжетами этих картин служили эпизоды победоносных сражений Александра Македонского с персами. По другим воспоминаниям, среди детских игр Лермонтову нравились те, «которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля».
Эти военные пристрастия опирались, несомненно, на родовую память будущего поэта. Его дальний предок, основатель рода Лермонтовых в России, шотландец Георг Лермонт был ландскнехтом и в период Смуты служил у поляков, но в 1613 году при осаде города Белого попал в плен и счёл за лучшее перейти в ряды московского войска, на «государеву службу». В русском обиходе стал называться Юрьем, получил чин ротмистра и принял смерть на поле боя под Смоленском, пролив свою шотландскую кровь за новую русскую родину.
Офицерами русской армии были отец, дед, прадед и прапрадед поэта. Дед по матери Михаил Васильевич Арсеньев, в память о котором Лермонтов получил своё имя, был капитаном гвардии, многие из его братьев – офицерами, а брат Никита имел чин генерал-майора. Александр, один из братьев бабушки Лермонтова, урожденной Столыпиной, был адъютантом Суворова и оставил записки о нем. Другой ее брат Николай дослужился до генерал-лейтенанта, еще один – Дмитрий – до генерал-майора, брат Афанасий, которого Лермонтов очень любил и называл «дядюшкой», получил золотую шпагу с надписью: «За храбрость», участвовал в Бородинском сражении. Гувернёрами Мишеля были отставные наполеоновские гвардейцы: сначала Жан Капе, потом капитан Жандро, последнего мальчик «особенно уважал».
Сам Лермонтов, не окончив курса в Московском университете, восемнадцати лет поступил в петербургскую Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Размещалась она на набережные Мойки у Синего моста. Обучение длилось два года, соответственно существовало два класса: младший (второй) и старший (первый). Учащиеся, пехотинцы и кавалеристы, с самого начала значились по своим полкам: так, Лермонтов был зачислен в Школу унтер-офицером лейб-гвардии Гусарского полка и только спустя месяц переименован в юнкера, обмундирован по форме своего полка и представлен его командиру. В это время юный поэт писал Марии Лопухиной: «До сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди – это лучше медленной агонии старика. А потому, если будет война, клянусь вам Богом, буду всегда впереди».
Испытать себя в настоящем бою поэту предстоит еще не скоро, а пока он с успехом постигает воинское искусство. «Лермонтов был довольно силен, – вспоминал его товарищ Александр Меринский, – в особенности имел большую силу в руках и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач…» В очередной раз, когда друзья на спор гнули шомполы гусарских карабинов, в залу вошёл директор школы генерал Шлиппенбах. За порчу казенного имущества оба силача отправились на сутки под арест.
Военные традиции продолжали и другие представители лермонтовского рода. В одно время с поэтом в рядах русских войск несло службу еще несколько офицеров с той же фамилией. Среди его кузенов имелись адмирал и три генерала, а его четвероюродный племянник, впоследствии полный генерал, Александр Михайлович Лермонтов в ходе русско-турецкой войны отличился при освобождении болгарского города Бургаса в 1878 году. За годы военной карьеры он был награжден золотым оружием «За храбрость» и четырнадцатью орденами. Одна из улиц Бургаса названа его именем. Знаменитый российский премьер-министр-реформатор Петр Аркадьевич Столыпин приходился поэту троюродным братом.
Почти на всех портретах Лермонтов изображен в военной форме. Таким же он предстает и в памятниках в Пятигорске и Петербурге, Москве и Пензе, многих других городах. Принято считать, однако, что ни один портрет Лермонтова, взятый отдельно, не дает реального представления о его внешнем облике. Современники находили, что на портретах поэт «польщен». Художник же М.Е. Меликов, хорошо знавший Михаила Юрьевича с детства, признавался, что «никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица» и что, по его мнению, «один только К.П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды…» Сам Брюллов высказался по этому поводу довольно сдержанно, если не сказать – прохладно. «Физиономия заслоняет мне его талант, – признавался великий мастер. – Я, как художник, всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел».
Надо полагать, еще большие трудности вызвала бы у скульптора попытка передать в материале «неправильности» фигуры поэта. Суммируя впечатления современников, можно сказать, что Лермонтов был невысокого роста, «приземистый», с несоразмерно большой головой и широким туловищем, кривоногий, в чем, вероятно, сказывались и последствия тяжелой травмы, полученной в манеже: правая нога была тогда сломана ниже колена, «и ее дурно срастили». По словам Шан-Гирея, в Школе Лермонтов носил прозванье Маёшки – от М-r Mayeux, горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа. Отмечают также его гордую, непринужденную осанку и «необыкновенную гибкость движений».
В ноябре 1834 года Лермонтов был выпущен из Юнкерской школы корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк и 7 декабря в Портретной галерее Зимнего дворца принес присягу «на верность службы». Лейб-гусары стояли в Царском Селе, несли караульную службу во дворце, участвовали в придворных церемониях и празднествах. Еще недавно, мечтая об офицерских эполетах, Лермонтов представлял свою будущую «восхитительную» жизнь, как череду «чудачеств, шалостей всякого рода и поэзии, залитой шампанским». Что касается шалостей и чудачеств, то есть здесь и доля истины, и доля гусарской бравады. Если говорить о поэзии, то вместо шампанского лучше вспомнить «железный стих, облитый горечью и злостью».
За стихотворение «Смерть поэта» Лермонтову пришлось расплачиваться ссылкой. Автора «непозволительных стихов» государь посчитал помешанным. Изъяв бумаги, молодого офицера посадили в Главном штабе под арест. Дело могло кончиться плохо: солдатский мундир в подобной ситуации уже довелось примерить московскому студенту Александру Полежаеву. В наказание царь велел перевести Лермонтова из гвардии тем же чином в армейский Нижегородский драгунский полк, расквартированный в Грузии.
Покидая Петербург, поэт передал в журнал «Современник» свое «Бородино» – первое стихотворение, которое решился отдать в печать, и, если бы его поэтическая карьера на этом прервалась, то и того бы достало, чтобы каждый из нас теперь мог без труда процитировать строки о сожженной пожаром Москве и отступивших басурманах. Описав главную национальную битву, подробности которой были известны ему лишь по рассказам, Лермонтов отправился к полям новых сражений, где теперь ему самому предстояло пролить кровь, свою или чужую. «Вот затрещали барабаны…» – это были барабаны судьбы.
«И влёк за ним аркан летучий младого пленника…»
На Кавказе Лермонтов побывал еще в детские годы. Сюда, к целебным кавказским ключам, его привозила бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева. В Пятигорске, у самого подножия Горячей горы, вблизи источников, располагалась усадьба ее родной сестры Екатерины, по мужу Хастатовой. Побывали бабушка с внуком и в имении Хастатовых – Шелкозаводском, на левом берегу Терека. На правом же – находились еще незамиренные чеченские аулы. Здесь начинающий поэт узнал много интересного: о казаках, горцах, ночных набегах и отчаянных схватках, услышал имя грозного «проконсула Кавказа» – генерала Ермолова. Все это давало пищу фантазии. Из-под пера Мишеля вылились первые кавказские поэмы: сначала «Черкесы», а потом и «Кавказский пленник».
Пушкин совершил поездку на Кавказ в 1820 году. Известно, что его «Кавказский пленник» получил в обществе ошеломляющий успех и вызвал волну подражаний. Правда, реку, в которой тонет черкешенка, Пушкин не удостоил названием, так как Терека к тому времени ещё не видел и проявил тут понятную осторожность, упомянув его только в эпилоге, где возвращался к событиям недавней ещё военной истории и славил победы русского оружия. Подкумок же, на берегу которого он часто сиживал с Александром Раевским, был тогда читателю совершенно неизвестен и совсем не походил на быструю и глубокую реку с пенными волнами, описанную в поэме.
Юный Лермонтов позаимствовал у своего литературного кумира не только название поэмы. Он воспользовался и сюжетной канвой пушкинского оригинала, сумев к тому же исправить, так сказать, географическую неадекватность изображенной там ситуации. Его «Кавказский пленник» хотя и представляет собою даже не подражание, а ученическую попытку переписать заново, на свой манер, пушкинский текст, но в географическом смысле возвращает ситуацию на её законное место: Лермонтов, сообразно имевшимся личным впечатлениям, перенёс действие поэмы на пограничный Терек, разделивший череду казачьих станиц на левом берегу и чеченские аулы на правом. Пленник, правда, находится (как и в пушкинской поэме) в неволе у черкесов, но так в те времена часто называли всех горцев вообще, в дальнейшем же подобных этнографических абстракций Лермонтов избегал. Название Терека он упоминает в тексте шесть раз, описывая при этом, как черкесы преодолевают его бурное течение – верхом или вплавь «на верном тулуке». Для русского пленника река – непреодолимая преграда, отделяющая его от желанной свободы:
- Хотя цепями скован был,
- Но часто к Тереку ходил.
- И слушал он, как волны воют,
- Подошвы скал угрюмых роют,
- Текут, средь дебрей и лесов…
В тексте военный статус пленника (равно у Пушкина) никак не обозначен, но известен детский рисунок Лермонтова, вклеенный в рукопись поэмы, – прекрасная автоиллюстрация, на которой изображён черкес Гирей, скачущий среди гор и влекущий на аркане русского в военной форме:
- Вдруг пыль взвилася над горами,
- И слышен стук издалека;
- Черкесы смотрят: меж кустами
- Гирея видно, ездока!
- Он понуждал рукой могучей
- Коня, подталкивал ногой,
- И влёк за ним аркан летучий
- Младого пленника…
Примечательно, что художники-иллюстраторы – к Пушкину ли, к Лермонтову – тоже не раз изображали пленника в мундире, а то и с эполетами на плечах. Развязку сюжета Лермонтов переписал по-своему: если у Пушкина пленник, переплыв реку, обретает свободу, а черкешенка топится в отчаянии от разлуки с ним, то у Лермонтова пленник, с цепью, распиленной черкешенкой, и вооруженный кинжалом, при попытке к бегству застрелен ее отцом, сама же она после этого кончает жизнь в волнах Терека. Дальняя перспектива «Героя нашего времени» отсюда пока не видна, не все персонажи еще в сборе, да и будет там всё совершенно иначе: не черкешенка освобождает русского офицера, а он, напротив, подстраивает ее похищение и держит у себя в плену.
Свои соображения к развитию сюжета (правда, несколько запоздалые) высказывал и основоположник темы. В 1822 году в черновом письме к Гнедичу Пушкин набросал возможные пути к дальнейшей романизации недавно законченной поэмы: «Легко было бы оживить рассказ происшествиями, которые сами собою истекали бы из предметов. Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником молодой избавительницы моего героя – вот вам и сцены ревности, и отчаянья прерванных свиданий и проч. Мать, отец и брат могли бы иметь каждый свою роль, свой характер – всем этим я пренебрег, во-первых, от лени, во-вторых, что разумные эти размышления пришли мне на ум тогда, когда обе части моего Пленника были уже кончены – а сызнова начать не имел я духа».
Этот предположительный, конспективный, а в некоторых деталях буквально точный план лермонтовской «Бэлы» говорит лишь о том, что будущий (пока только тринадцатилетний!) автор «Героя», переписывая на свой лад пушкинского «Пленника», то есть следуя ходу мысли своего литературного патрона, легко угадывал грандиозный сюжетный потенциал его замысла. Вспомним, что действие «Бэлы» происходит за Тереком, в роли «ездока» выступает любящий Бэлу Казбич; присутствуют на сцене также отец и брат героини. Что касается происшествий, которые «сами собой истекали бы из предметов», то автора повести едва ли возможно упрекнуть в «бедности изобретения». Сам Пушкин признавал, что его «поэму приличнее было бы назвать “Черкешенкой”». Как видим, Лермонтов и здесь попал в самую точку.
«Я сделался ужасным бродягой…»
В первых числах мая 1837 года Лермонтов прибыл в Ставрополь. Город возник как один из пунктов Азово-Моздокской укрепленной линии, указ об учреждении которой был подписан Екатериной II еще в 1777 году. Летом 1826 года проездом в Грузию, где началась война с персами, в Ставрополе побывал знаменитый поэт-партизан Д.В. Давыдов, тогда – генерал-майор кавалерии. Об областном городе вспоминает в первой главе «Путешествия в Арзрум» А.С. Пушкин: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи».
В Ставрополе находился штаб войск Кавказской линии, командовал которыми старый ермоловец генерал А.А. Вельяминов. Начальником штаба служил генерал Павел Иванович Петров, «любезный дядюшка», то есть муж двоюродной тетки Лермонтова. Предполагалось, что поэт примет участие в военной экспедиции за Кубанью: любое проявление доблести под пулями горцев, могло послужить поводом к его прощению и возвращению в Петербург.
В дело вмешался случай: в дороге Лермонтов простудился, попал в Ставрополе в военный госпиталь, а лето провел не за Кубанью в жарких стычках с горцами, а на горячих водах в Пятигорске. «Я приехал на воды весь в ревматизмах, – писал он отсюда другу, – меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить – в месяц меня воды совсем поправили…»
Окончив курс лечения на водах, поэт с наступлением осени отправился на побережье Черного моря, в свой драгунский эскадрон. Но боевые действия были уже остановлены, и войска готовились к встрече императора Николая. «Я приехал в отряд слишком поздно, – с огорчением сообщал Лермонтов, – ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела… я сделался ужасным бродягой, а право я расположен к этому роду жизни». 29 сентября в укреплении Ольгинском он получил предписание следовать в свой полк и подорожную «до города Тифлиса».
Осенью того же 1837 года инспекторскую поездку по Кавказу совершил государь. Посетив Геленджик и Анапу, он высадился на берег в Редут-кале (район Поти). В штабе Кавказского корпуса, между тем, заблаговременно была учреждена особая комиссия, уполномоченная обеспечить безостановочный проезд императора по намеченному маршруту. Спешно приводились в порядок дороги; встречать Николая в Редут-кале отправился командир корпуса барон Г.В. Розен. Проехав Зугдиди, Кутаис, Сурам, Боржомское ущелье, государь оказался в пределах Армении, где посетил древний монастырь Эчмиадзин, а потом отправился в Эривань, откуда проследовал в древнюю столицу Грузии.
Императорский вояж прошел не без пользы для поэта: 11 октября 1837 года в Тифлисе во время пребывания там Николая был отдан высочайший приказ о переводе «прапорщика Лермантова Лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом». Решающую роль в прощении и возвращении его в гвардию сыграл, как ни странно, шеф жандармов граф А.Х. Бенкендорф. В письме родственника поэта – А.И. Философова по этому поводу сообщалось следующее: «…граф Орлов сказал мне, что Михайло Юрьич будет наверное прощен в бытность Государя в Анапе, что Граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить Государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция…»
Большое кавказское приключение подходило к концу. Той осенью Лермонтов исколесил сто дорог, – как признавался сам, «изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани»; был в Тифлисе, в Кахетии и Азербайджане, а возвратный путь на север проделал по Военно-Грузинской дороге.
Несколько раз он подвергался опасности пленения. «Два раза в моих путешествиях, – писал он Святославу Раевскому, – отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), и чуть не попались шайке лезгин». Позднее в его странствиях был еще случай, когда поэт едва ушел от настигающей его погони. По рассказу журналиста и издателя А.А. Краевского, Лермонтов подарил ему свой кинжал, которым однажды отбивался «от трех горцев, преследовавших его около озера между Пятигорском и Георгиевским укреплением. Благодаря превосходству своего коня поэт ускакал от них. Только один его нагонял, но до кровопролития не дошло. – Михаилу Юрьевичу доставляло удовольствие скакать с врагами на перегонку, увертываться от них, избегать перерезывающих ему путь». Рассказ этот подтверждают и воспоминания кавказского офицера П.И. Магденко, попутчика в одной из поездок поэта. По его словам, Лермонтов «указывал нам озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне».
Подводя итог затянувшейся кавказской одиссеи, поэт заметил: «Здесь, кроме войны, службы нету», и справедливость этих слов ему впоследствии довелось в полной мере испытать на собственном опыте. Он еще очень молод (ему только 23 года) и полон планов, хочет ехать в Мекку, в Персию или проситься в экспедицию в Хиву с генералом Перовским. Ехать всё же пришлось под Новгород – к новому месту службы. В гродненских гусарах поэт прослужил недолго, числился на лицо менее двух месяцев, дважды получал отпуск по 8 суток и выезжал в Петербург. Вскоре хлопоты бабушки увенчались успехом: внука удалось вернуть в родной для него лейб-гвардии Гусарский полк.
«Пока русские будут говорить русским языком…»
Сезон 1837 года на Кавказских водах выдался на редкость удачным, а в литературном смысле даже перспективным: этим летом Белинский познакомился в Пятигорске с Лермонтовым и впоследствии мог по личным наблюдениям судить о реалистических достоинствах «Княжны Мери».
На Кавказе Лермонтов задумал цикл повестей, связанных между собой общим героем. Большой крови он ещё не видел, и война в его романе проходит только приглушенным фоном. Мужские персонажи здесь в большинстве офицеры Кавказского корпуса. О Максиме Максимыче мы знаем, что служить он начал еще при Ермолове, получив при нем два чина за дела против горцев. Лет десять он стоял с ротою в Чечне, в крепости за Тереком, у Каменного Брода. С Грушницким главный герой успел побывать в экспедиции; в действующем отряде тот получил ранение пулей в ногу. В Пятигорске у источника Печорин замечает, что «несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные».
Боевые действия не затрагивают, разумеется, района Горячих или Кислых вод, но дыхание близкой войны ощутимо и здесь: это и казаки на сторожевых вышках в степи и пикетах, и часовые на валу кисловодской крепости. Ночная стычка Печорина с Грушницким и драгунским капитаном, получившим удар по голове кулаком, а потом и поднятая ужасная тревога с криками и ружейной пальбой – все это спровоцировало в городе толки о нападении черкесов. «Многие, – иронически замечает в дневнике Печорин, – вероятно, остались в убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте». Вспомним, что и убитого на поединке Грушницкого условлено отнести «на счет черкесов». Тема оружия то и дело мелькает на страницах «Героя», играя важную роль в ряде ключевых эпизодов, да и кончается все повествование рассуждением Максима Максимыча об особенностях черкесских винтовок и шашек.
Имея в виду современные читательские запросы, роман можно бы представить и как «криминальное чтиво»: четыре убийства (Бэлы, ее отца – старого князя, Грушницкого и Вулича), ряд покушений (главного героя, например, сначала хотят утопить в Черном море, потом подло, то есть практически безоружного, застрелить на дуэли, а когда это не удается, Грушницкий грозит зарезать его ночью из-за угла, и, наконец, пуля пьяного казака в «Фаталисте» срывает ему с плеча эполет). Молодую девушку, Бэлу, похищают и склоняют к сожительству, потом похищают вновь и убивают ударом кинжала. Еще контрабанда, кражи, подслушанные заговоры, погони… К тому же повествование построено так, что автор-рассказчик будто проводит следствие: опрашивает очевидцев, раскапывает «компромат» в виде интимных записок героя, а при личной встрече с ним составляет его словесный портрет.
Тут следует вспомнить, что начинался роман когда-то с тифлисской главы. Во всяком случае, сохранился листок, исписанный лермонтовской рукой, начинающийся словами «Я в Тифлисе» и содержащий план повести, действие которой протекает в различных местах грузинской столицы. Повествование ведется, как и в дневнике Печорина, от первого лица, а именно от лица служащего на Кавказе русского офицера. Набросок этот, в двадцать пять строк, и есть, скорее всего, самый ранний творческий импульс к написанию «Героя нашего времени». Как бы там ни было, И.Л. Андроников, внимательно изучивший этот отрывок, пришел к выводу, «что из записи “Я в Тифлисе” родились сюжеты обеих повестей – и “Тамани” и “Фаталиста” – и что эта запись представляет собой самый первоначальный план записок Печорина».
Едва приметные отголоски этой задуманной, но не осуществленной Лермонтовым тифлисской главы сохранились в окончательном тексте романа. Максим Максимыч, завершая свой рассказ о Печорине, замечает, что месяца три спустя после гибели Бэлы тот был назначен в егерский полк и уехал из Чечни в Грузию. Встретив же какое-то время спустя своего старого приятеля во Владикавказе, Максим Максимыч опять-таки говорит ему, что думал найти его в Грузии, вновь соотнося какие-то оставшиеся не известными нам события с пребыванием Печорина в этом краю. Что именно там могло происходить, становится известно из лермонтовского наброска.
Русский офицер в поисках любовного приключения увязывается за грузинкой. Она обещает ему свою благосклонность, но требует за это вынести из ее дома труп. Герой бросает покойника в Куру, предварительно сняв с него кинжал. Потом ему делается дурно, его находят в беспамятстве и относят на гауптвахту. Где находится дом грузинки, он забыл. Тогда кинжал предъявляют оружейнику Геургу, который говорит, что делал его для русского офицера. От денщика офицера узнают, что тот долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, но дочь вышла замуж, а через неделю офицер пропал. Таким образом, история с загадочным мертвецом объяснилась, но опасные похождения нашего героя еще не окончены. Грузинка и ее муж выслеживают его. Ночью муж нападает на него и пытается сбросить с моста, но офицер опережает его в этом намерении. Как видим, и здесь в развитии сюжета главенствует детективный элемент: два убийства, покушение на убийство, сокрытие следов злодеяния, слежка, поиски места преступления, опрос свидетеля и даже вещественная улика, которая приводит к разгадке, – кинжал убитого офицера, опознанный оружейным мастером.
На первых же страницах своего пятигорского дневника, набрасывая психологический абрис Грушницкого, Печорин предрекает уже и роковую развязку их отношений: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать». Дальнейшее развитие событий претворяет этот прогностический тезис в жизнь или, в данном случае лучше сказать, в смерть. Антагонизм героев по ходу сюжета достигает высшей, буквально экстремальной степени. «Нам на земле вдвоем нет места…» – говорит Грушницкий за мгновенье до того, как с пулею в груди навсегда исчезнуть с уступа отвесной скалы. Дуэль (как действо) была для прозы тех времен ситуацией почти неизбежной, обойтись без нее в «Герое» Лермонтов не мог. Но поединок с Грушницким лишь частный случай той круговой конфронтации, которая и составляет сущность отношений Печорина с другими персонажами романа.
В «Тамани» он выдерживает опасную схватку с ундиной в лодке, когда ее сильный толчок едва не сбрасывает его в море. Действия противоборствующих сторон или, словами героя, «отчаянная борьба» достигает здесь «сверхъестественных усилий». Из удовольствия, как говорит Печорин, подчинять своей воле всё, что его окружает, он затевает и свой притворный роман с Мери, легко переиграв в психологическом поединке наивную московскую княжну. Дикарка Бэла – пленница русского офицера и находится в русской крепости. Поступки Печорина тут более всего напоминают правильную осаду. Согласно комментарию Максима Максимыча, «долго бился с нею Григорий Александрович». Потом, этот странный спор о предопределении с Вуличем, метафизический поединок, когда один из противников ставит на кон двадцать червонцев, а другой собственную жизнь. Разве что доктор Вернер не захвачен конфронтацией, но он – доверенное лицо героя, его секундант. Да Максим Максимыч, заведомо отдавший себя воле победителя: «Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».
Враждебные отношения Печорина и Красинского в неоконченной «Княгине Лиговской» также, предположительно, должны были разрешиться дуэлью. В «Маскараде», «Казначейше» и «Штоссе» поединок ведется за карточным столом. О «Калашникове» за очевидностью ситуации можно, кажется, только упомянуть. Одна из самых впечатляющих сцен в поэме «Мцыри» – бой с барсом. Противники, человек и зверь, принадлежат разным мирам, но «упоение в бою» уравнивает их. Звериный статус барса несколькими штрихами легко дезавуирован («Он застонал, как человек…», «Он встретил смерть лицом к лицу…»). Мцыри в то же время осознает себя в схватке более зверем, чем человеком:
- Я пламенел, визжал, как он;
- Как будто сам я был рожден
- В семействе барсов и волков
- Под свежим пологом лесов.
- Казалось, что слова людей
- Забыл я…
В череде испытаний, посланных автором своему герою, бой с барсом – высшее, самое драматичное, хотя эпизод, кажется, и не предопределен логикой сюжета; это поединок в чистом виде, турнирный или, если угодно, даже ритуальный. Вся изложенная картина наводит на мысль уже о способе художественного мышления Лермонтова, коренящемся в свойствах его личности. Перескакивая через многочисленные признания современников о несносном, трудном, дурном характере поэта, напомним читателю лишь одно, принципиально важное, высказывание А.И. Герцена: «В отличие от Пушкина Лермонтов никогда не искал мира с обществом, в котором ему приходилось жить: он смертельно враждовал с ним – вплоть до дня своей гибели».
В частной жизни Лермонтов был столь же неуступчив. Современник передает рассказ Н.П. Колюбакина, кавказского знакомца Лермонтова (впоследствии генерала, а в то время молодого офицера; многие видят в нем прототип Грушницкого): «Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периодически ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным».
Знаменитый бретер Руфин Дорохов (его историю записал А.В. Дружинин) поведал, как при первом знакомстве с Лермонтовым дело у них тоже едва не дошло до дуэли: «На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, – мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо».
19 февраля 1840 года чиновник Петербургского цензурного комитета Петр Корсаков закончил чтение рукописи, представленной молодым гвардейским офицером. Вещица эта с несколько претенциозным названием была Петру Александровичу знакома и раньше: именно он цензуровал столичный журнал «Отечественные записки», где роман печатался по частям. Речь там шла о любовных похождениях одного кавказского офицерика, не более того, и с политической стороны все обстояло вполне благонадежно. Вымарав проформы ради несколько строчек, где автор имел слишком смелое суждение о делах потусторонних, Корсаков сделал пометку: «Печатать позволяется» и отложил перо в сторону. Тревожно заныло, затрепетало чувствительное цензорское сердце. И – не обмануло. Выпущенное в свет сочинение в типографии Ильи Глазунова отпечатали быстро: в середине апреля первая тысяча экземпляров появилась на прилавках. А вскоре книга легла на стол высочайшего цензора всей России – государя императора Николая Павловича…
Белинский, вспоминая пятигорское лето, в рецензии на роман заметил, что «бывшие там удивляются непостижимой верности, с какою обрисованы у г. Лермонтова даже малейшие подробности», и осторожно намекнул на военную ситуацию в регионе: «Тут не одни черкесы: тут и русские войска, и посетители вод, без которых не полна физиономия Кавказа…» В оценке Лермонтова великий критик проделал довольно быструю эволюцию. В одном из его писем той поры звучат еще снисходительно-одобрительные нотки: «Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субьективно-салонного взгляда на жизнь…» В том же 1840 году в своей пространной, даже огромной, статье о «Герое», равной по объему «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисту» вместе взятым, Белинский, хотя и нашел отдельные «недостатки художественности», но уже пересказал роман полностью и, что называется, близко к тексту, а многие страницы выписал целиком и, более того, высказал сожаление, что размеры статьи не позволяют ему выписать еще больше. Спустя три года, уже после смерти поэта, в рецензии на третье издание «Героя» Белинский писал об этой книге, что «никто и ничто не помешает ее ходу и расходу – пока не разойдется она до последнего экземпляра; тогда она выйдет четвертым изданием, и так будет продолжаться до тех пор, пока русские будут говорить русским языком…»
Император Николай усмотрел в романе только одно светлое пятно – характер Максима Мыксимыча. Вторую часть нашел «отвратительной, вполне достойной быть в моде». Сентенция, изложенная монархом в письме к императрице, прозвучала резко и раздраженно: «Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать эти наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора…»
Проницательнее же всех из критиков оказался Фаддей Булгарин, в «Северной пчеле» сразу назвавший «Героя» лучшим романом на русском языке. Говорят, что злодея «подогрела» бабушка поэта, Е.А. Арсеньева, послав ему свеженький томик и пятьсот рублей ассигнациями в придачу.
«Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест…»
Лермонтов рисовал всю свою жизнь, а в детстве еще с увлечением лепил. Как вспоминал А.П. Шан-Гирей, юный Мишель «был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно прилично и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арабеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги».
Младший товарищ поэта по Юнкерской школе князь Николай Манвелов отмечал, что «Лермонтов имел обыкновение рисовать всегда во время лекций». Как правило, это были портреты самих юнкеров или их командиров, а также всевозможные карикатурные сценки школьного быта. Манвелов запомнил «по содержанию многие рисунки Лермонтова, отличавшие собственно интимное настроение его: его личные планы и надежды в будущем, или мечты его художественного воображения. К этой категории рисунков относятся многочисленные сцены из военного быта и преимущественно на Кавказе с его живописною природою, с его типическим населением, с боевой жизнью в том крае… Мечтая же о своей будущности, Лермонтов любил представлять себя едущим в отпуск после производства в офицеры и часто изображал себя в дороге… Ямщика своего он всегда изображал с засученными рукавами рубахи и в арзамасской шапке, а себя самого в форменной шинели и, если не в фуражке, то непременно в папахе. Вообще, сколько помню, рисунки Лермонтова отличались замечательной бойкостью и уверенностью карандаша, которым он с одинаковым талантом воспроизводил как отдельные фигуры, так и целые группы из многочисленных фигур в различных положениях и движениях, полных жизни и правды».
О встрече с поэтом в Царскосельском парке рассказал художник Моисей Меликов: «Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашёл значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами… Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости…»
Детское увлечение рисованием у Лермонтова было связано с несомненным природным дарованием и впоследствии вылилось в бесконечное множество беглых и, как правило, несколько шаржированных зарисовок. Его рука, вооруженная карандашом или пером, с необыкновенной легкостью могла передать характерные черты чьей-то внешности, воссоздать динамику движений, набросать пейзаж или сюжет незатейливой бытовой сценки. Прекрасно получались лошади: легкие, грациозные, со всадниками и без оных, скачущие во весь опор или замершие, – можно сказать, что это был фирменный знак Лермонтова-художника. В особенности же его увлекало изображение боевых действий. Если полистать альбомы, хранящие его рисунки, можно увидеть, как много места занимают среди них сцены войны. Здесь и уланы, и конные егеря, казаки, вооруженные горцы, перемещения войск, бесконечные схватки, перестрелки, засады, эпизоды сражений.
Служа в царскосельских гусарах, Лермонтов не только не оставил своего увлечения, а, напротив, решил брать уроки живописи. Его учителем стал художник П.Е. Заболотский, впоследствии академик живописи, создавший к тому же два достоверных портрета своего талантливого ученика. Уроки Заболотского не прошли даром: свежие впечатления кавказских странствий отразились на нескольких полотнах, написанных Лермонтовым. «Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, – сообщал поэт другу, – и везу с собою порядочную коллекцию…»
Свет на обстоятельства, при которых создавалась эта «порядочная коллекция», проливают записки Василия Боборыкина, товарища Лермонтова по Юнкерской школе, служившего в то время во Владикавказе. В заезжем доме он застал такую картину: «М.Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая… Я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати – сорока верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал кроки окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюминовали эти очертания».
В это же время Лермонтов создал свой автопортрет: на фоне гор, в форме офицера Нижегородского полка и бурке, накинутой на плечи. Рука опирается на рукоять шашки. Взгляд грустен и задумчив. Портрет предназначался в подарок Варваре Лопухиной.
«С Кавказа он привез несколько удачных видов своей работы, писаных масляными красками», – вспоминал о поэте Аким Шан-Гирей. Среди этих «удачных видов» такие несомненные лермонтовские шедевры, как «Вид Тифлиса», «Вид Пятигорска», «Башня в Сиони» и, отметим в особенности, «Крестовая гора», о которой хочется сказать несколько подробнее.
Крестовый перевал – высшая точка Военно-Грузинской дороги, проложенной в самых недрах Кавказа. Над перевалом возвышается гора с тем же названием. «Лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке», – писал с дороги Лермонтов Раевскому. Вид Крестовой надолго врезался ему в память. На полотне, слева и справа, поднимаются крутые гранитные утесы, обрамляя заснеженный склон Крестовой, реющей на фоне голубого неба. Сразу вспоминаются строки из повести «Бэла»: тут и «груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье», и «глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням». У подножия горы – военный пост и чуть поодаль – одинокая повозка, поднимающаяся на перевал. Такую обстановку осенью 1837 года здесь, видимо, и застал поэт, странствующий «с подорожной по казенной надобности». В том, что на картине изображена именно гора Крестовая, сомнений нет: и на полотне, и в реальном ландшафте ее отличает высокий каменный крест, установленный на вершине. О каменном кресте, поставленном здесь «по приказанию г. Ермолова», Лермонтов упомянул и в романе «Герой нашего времени».
С Кавказа Лермонтова вернули в гвардию – в Гродненский гусарский полк, стоявший под Новгородом. Сослуживец поэта Александр Арнольди впоследствии отмечал, что «в свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест».
В данном случае речь идет о картинах Лермонтова «Воспоминание о Кавказе» и «Черкес». Слова о быстроте, с которой поэт рисовал или писал маслом, вполне справедливы. Ближайший из его друзей Святослав Раевский не раз наблюдал, как в минуты раздумий Лермонтов заполнял лист бумаги «быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т. п. Соображения Лермонтова сменялись с необычайною быстротой, и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко…»
В сентябре 1838 года поэт попал под арест из-за короткой сабли, с которой явился на парад. Нет худа без добра, и в часы невольного досуга была написана картина на кавказский сюжет: мужчина в папахе везет на арбе девушку, не подозревая, что в придорожных кустах его ждет засада.
Лето и осень 1840 года поэт провел в военных экспедициях в Чечне и Дагестане. Листы походного альбома быстро заполнялись: вечные его всадники, отряды, схватки и перестрелки. Есть и пейзажные зарисовки, от которых веет щемящей тоской. Пустынные чеченские предгорья и затерянные среди ущелий селения горцев. Вероятно, поэт набросал их где-нибудь на походных биваках, отдыхая душой среди короткого затишья.
Живописное наследие Лермонтова невелико, но бесценно: 13 картин, 44 акварели и множество рисунков, представляющих собой по большей части беглые наброски. Сюжеты этих рисунков не всегда ясны, изображенные на них лица не всегда могут быть установлены, тем не менее, это чрезвычайно важное дополнение биографических сведений о поэте и свидетельство совершенно особого склада его художественного мышления. Как отмечал исследователь его творчества Н.П. Пахомов, «на протяжении всей жизни Лермонтова художник в нем жил рядом с поэтом».
«Я мало жил и жил в плену…»
Немногие, думается, из современных русских читателей догадываются, что лермонтовский Мцыри, один из самых ярких и любимых персонажей отечественной классики, по национальности – чеченец! Написав когда-то в детстве, в подражание Пушкину, «Кавказского пленника», теперь Лермонтов ситуацию совершенно перевернул: пленником у него становится не русский, а горец. Мцыри, конечно, чеченец не этнический, а, можно сказать, литературный. Для Белинского он – «пленный мальчик черкес» (черкесами тогда часто называли всех горцев), у Шевырева – «чеченец, запертый в келью монаха», а в советской критике появилась уже и совершенно отвлеченная формула – «юноша-горец». Сам Лермонтов нигде в тексте поэмы об этом определенно не говорит, но по ряду деталей можно все-таки судить и о национальной принадлежности его героя. Вспомним сцену поединка с барсом и слова Мцыри: «Как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков…» Все это замечательно перекликается со строками «илли» – чеченской героической песни:
- Мы родились той ночью,
- Когда щенилась волчица,
- А имя нам дали утром
- Под барса рев заревой…
По одной из версий, в поэме Лермонтова отразилась судьба известного художника Петра Захарова. По рождению Захаров чеченец, его родной аул Дады-Юрт в наказание за набеги и в назидание всей остальной незамиренной Чечне в 1819 году был уничтожен русскими войсками. Облитого кровью трехлетнего ребенка, взятого из рук умирающей матери, солдаты доставили Ермолову, который захватил мальчика с собой в штаб-квартиру корпуса. Об этом потом в поэме «Мцыри» и упомянул Лермонтов:
- Однажды русский генерал
- Из гор к Тифлису проезжал;
- Ребенка пленного он вез.
- Тот занемог, не перенес
- Трудов далекого пути;
- Он был, казалось, лет шести…
Первоначально автор избрал эпиграфом к поэме французское изречение: «On nа qщne seule patrie» (Родина бывает только одна), но впоследствии заменил его строкой из Библии.
Пленника Ермолов крестил и передал под присмотр казаку Захару Недоносову, откуда пошла и фамилия – Захаров. Когда ребенок подрос, его взял на воспитание двоюродный брат Ермолова – генерал П.Н. Ермолов, командир 21-й пехотной дивизии. Обнаружив незаурядные способности, Захаров учился в Петербургской Академии художеств, завершив курс с серебряной медалью. Стал известным живописцем, за портрет Ермолова, выполненный в 1843 году, был удостоен звания академика. На портрете Ермолов изображен как человек своей эпохи, а вернее, как человек и эпоха, то есть личность столь же грандиозная, как Кавказские горы за его спиной, а эпоха – столь же грозная, как черное грозовое небо над ними. На полотне художник сумел передать внушительный облик генерала, отразив в нем всю мощь его исполинской и властной натуры. Суровое, хмурое лицо повернуто к зрителю. Тяжелый, подавляющий взгляд; выдержать долго такой взгляд невозможно, и, может быть, поэтому он направлен не прямо на зрителя, а чуть в сторону. В выражении лица генерала читается оттенок недовольства, неудовлетворенности или даже горечи. В то время, когда создавался портрет, Ермолов давно находился не у дел и был лишен реальной власти. Но у Захарова он по-прежнему полон сил и несгибаемой воли, по-прежнему неуступчив и упрям.
Считают, что Петр Захаров был знаком и с Лермонтовым, даже написал его прекрасный портрет в мундире лейб-гвардии Гусарского полка. Позднее по фотографии, сделанной с этого портрета, фирмой Брокгауза в Лейпциге и была выполнена гравюра, которая с первым отдельным изданием лермонтовской «Песни про купца Калашникова», вышедшем в 1865 году, распространилась по России и стала известна читающей публике. В особом же послесловии от издателя сообщалось следующее: «К настоящему изданию мы прилагаем новый портрет М.Ю. Лермонтова, отличающийся особенным сходством, как утверждают лица, близко знавшие покойного поэта». Оригинал портрета хранится ныне в Институте русской литературы в Петербурге, однако авторство его не считается бесспорным.
Перед схваткой с барсом Мцыри испытывает «жажду борьбы и крови», причем испытывает неожиданно для себя, ибо прежде, говорит он, «рука судьбы вела меня иным путем». Чеченец, ставший русским художником, – это судьба, и рукой судьбы тут послужил сам Ермолов; может быть – не слишком доброй рукой, так как аул Дады-Юрт был уничтожен именно по его приказу. Портрет генерала художник подписал так, как и обычно это делал: «П. Захаров, из чеченцев». С трех лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне русской культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне: чеченец. Родина бывает только одна.
Побывав на Тереке в детские годы, Лермонтов видел жизнь пограничных казачьих станиц и в более зрелую пору, когда «изъездил Линию всю вдоль» во время первой кавказской ссылки. Существует предание, что именно здесь, в станице Червлёной, Лермонтов написал свою «Казачью колыбельную песню». В хате, где поэт остановился на постой, он услышал, как молодая казачка напевает над колыбелью. Присев к столу, Лермонтов тут же набросал стихи, ставшие впоследствии народной песней:
- По камням струится Терек,
- Плещет мутный вал;
- Злой чечен ползет на берег,
- Точит свой кинжал…
По тем же впечатлениям Лермонтов написал и стихотворение «Дары Терека», названное Белинским «поэтической апофеозою Кавказа». По строю и звучанию оно близко гребенскому казачьему фольклору. Волны Терека приносят в дар старцу Каспию «кабардинца удалого» – воина, погибшего на поле битвы, а потом и «дар бесценный» – труп молодой казачки, окровавленной жертвы какой-то неизвестной нам трагической любовной истории:
- По красотке молодице
- Не тоскует над рекой
- Лишь один во всей станице
- Казачина гребенской.
- Оседлал он вороного
- И в горах, в ночном бою,
- На кинжал чеченца злого
- Сложит голову свою…
Дважды повторив формулу о злом чеченце, Лермонтов следует, скорее, народной поэтической традиции, а вовсе не стремится подчеркнуть непримиримость к извечному врагу. Напротив, в «Бэле» он преклоняется перед «способностью русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить», о чем он позже (и более подробно) расскажет в очерке «Кавказец».
«Чеченский след» в поэзии Лермонтова не всегда очевиден. В стихотворении «Валерик» он сам называет имя своего кунака-чеченца Галуба, но это, по-видимому, условный персонаж, в черновом автографе есть и другие варианты (Юнус и Ахмет). Чеченская тема звучала бы здесь сильнее, но многие строки Лермонтов из окончательного текста вычеркнул:
- Чечня восстала вся кругом:
- У нас двух тысяч под ружьем
- Не набралось бы…
- Уж раза три чеченцы тучей
- Кидали шашки наголо…
Изображая «тревоги дикие войны», Лермонтов умел увидеть происходящее и глазами тех, с кем судьба свела его в непримиримой схватке. Старик-чеченец, поведавший ему историю Измаил-Бея, абрек Казбич и пленный юноша Мцыри – эта череда лермонтовских персонажей-чеченцев говорит о его глубоком интересе к народу, находящемуся в смертельной вражде с его собственной родиной. В образе Мцыри нашел выражение мир идей и чувств самого Лермонтова, и в самых горьких и одновременно самых главных словах поэмы – «Я мало жил и жил в плену…» – отчетливо слышен собственный голос поэта.
«Штыки горят под солнцем юга…»
Свежий воздух Кавказа еще долго кружил ему голову. «Для меня горный воздух – бальзам», – признавался поэт в письме из Петербурга к Святославу Раевскому, а узнав, что тот собирается на юг, сделал для него особое уведомление: «Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно: ты вернешься поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее…»
В 1835 году товарищ Лермонтова по Юнкерской школе князь Александр Иванович Барятинский, командуя сотней черноморских казаков, участвовал в боях за Кубанью, где получил тяжёлое пулевое ранение в бок. Чудом остался жив и привёз с Кавказа первую боевую награду – золотую саблю с надписью: «За храбрость».
Успехи Лермонтова в этом смысле были, как видим, гораздо скромнее. Но пока он колесил по дорогам Кавказа, в печати появилось его «Бородино». Теперь вышла «Песня про купца Калашникова», следом за ней «Казначейша». Вернувшись в столицу, Лермонтов, по его выражению, «пустился в большой свет». Его принимали в лучших салонах, и хорошенькие женщины выпрашивали у него стихи. В списках в Петербурге ходила и поэма «Демон».
Поэма о любви падшего ангела к земной женщине, начатая Лермонтовым в четырнадцатилетнем возрасте, претерпела впоследствии множество переделок, но, по-видимому, так и не была доведена до желанного совершенства: известно восемь (или даже девять!) ее редакций. Яркими красками она заиграла именно по возвращении поэта с Кавказа: действие было перенесено в Грузию с ее роскошной природой, а героиней стала «княжна Тамара молодая», дочь седого Гудала.
Красавица Мария Соломирская призналась поэту, что увлечена его Демоном и могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое существо. Поэма была представлена даже ко двору, и, ознакомившись с нею, шеф гвардии великий князь Михаил Павлович поинтересовался, кто кого создал: Лермонтов ли – духа зла или же дух зла – Лермонтова?
Известно, что Лермонтов готовил поэму к печати, но первые отрывки из нее вышли в свет только после его смерти, а полностью «Демон» был впервые опубликован за границей – в Карлсруэ в 1856 году. В России первое издание вышло еще четыре года спустя. Публикация текста «Демона» до сих пор вызывает трудности. Автографа, который утвердил бы окончательную авторскую волю, не сохранилось. Из многочисленных списков наиболее авторитетным признается «лопухинский»; в 1838 году Лермонтов подарил его любимой женщине – Варваре Лопухиной. Как заметил один из исследователей, текст «Демона» навсегда останется «колеблющимся». Восхищавшийся «Демоном» Белинский оставил противоречивую все же оценку, признавая, что «это детское, незрелое и колоссальное создание».
16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло столкновение Лермонтова с сыном французского посланника бароном Эрнестом де Барантом. Француз был на четыре года моложе поэта и занимал незначительную должность в своем посольстве. Был принят в свете и ухаживал за княгиней Марией Щербатовой, которой увлечен был и Лермонтов. Злые языки страшнее пистолета, как выражался классик. Кто-то нашептал Баранту лермонтовский стишок, написанный когда-то давно, еще в юнкерах, и совсем по другому поводу, да только, на беду, упоминались в тех строках и некая княгиня, и ее ухажер-француз.
Словесной перепалкой дело не кончилось. Дрались на шпагах, а когда клинок у Лермонтова сломался, перешли к пистолетам: Барант дал промах, а поэт выстрелил в сторону. Дуэли в России были под запретом; последовало неизбежное: арест и военный суд. Сидеть на этот раз пришлось в Ордонанс-гаузе, а потом на Арсенальной гауптвахте. Душою Лермонтов часто уносился к «синим горам», и память кавказских странствий стала выплескиваться на бумагу: «Дары Терека», «Демон» и «Мцыри», одна за другой выходят повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань». Готовятся к печати книги: «Стихотворения» и «Герой нашего времени». «Просился на Кавказ, – пишет он в это время Марии Лопухиной, – отказали, не хотят даже, чтобы меня убили». Из Петербурга поэта выслали снова, вторично исключив из гвардии, и, что особенно унизительно, его, кавалериста, на этот раз отправили в пехоту, в армейский Тенгинский полк. «Счастливого пути, господин Лермонтов, – бросил вдогонку император Николай Павлович, – пусть он очистит себе голову…»
Летом 1840 года Лермонтов вновь оказался в Ставрополе. Хорошо зная Кавказ, изъездив его от Кизляра до Тамани и от Ставрополя до Тифлиса, поэт, тем не менее, не участвовал еще ни в одной экспедиции против горцев. Теперь такая возможность стала реальной: Лермонтов был причислен к Чеченскому отряду генерала А.В. Галафеева.
Покинув лагерь близ Грозной в первых числах июля 1840 года, Галафеев пересек Сунжу, прошел Ханкальское ущелье и с боями продвинулся к Гойтинскому лесу. Затем последовал переход к Урус-Мартану и селению Гехи, где вскоре и произошли главные боевые столкновения операции. На своем пути войска уничтожили ряд чеченских селений. «А чтобы произвести большое моральное влияние на край, – доносил в рапорте Галафеев, – то они направлены были через гехинский лес…» Похожей фразой начинает описание военных действий и Лермонтов в своем «Валерике»:
- Раз – это было под Гихами —
- Мы проходили темный лес…
Каждый шаг вперед здесь давался потом и кровью. Движение осуществлялось порядком, который на армейском жаргоне называли «ящиком»: артиллерия и обоз в центре, пехота несколькими цепями шла по обеим сторонам, предупреждая нападение противника с флангов; смешанные, более подвижные отряды кавалерии и пехоты составляли авангард и арьергард.
«Моральное влияние» возымело незамедлительный результат: в темном гехинском лесу Галафеева ждала засада. В течение трех дней чеченцы, собрав значительные силы, готовились встретить врага. В местах, удобных для обстрела, устраивались завалы из срубленных деревьев. 11 июля у переправы через реку Валерик вспыхнул кровопролитный бой, развивавшийся по обычной в таких случаях схеме: осыпав русскую колонну градом пуль, горцы укрывались за стволами деревьев. В ответ следовал орудийный залп, и начинался штурм завалов, чреватый большими потерями для атакующих. Кончалось все жестокой рукопашной схваткой, практически резней, о чем, собственно, и сообщает Лермонтов своим читателям:
- …Верхом помчались на завалы
- Кто не успел спрыгнуть с коня…
- «Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы,
- В приклады!» – и пошла резня…
Произведением, в котором наиболее полно и ярко отразились боевые впечатления поэта, навсегда осталось его большое стихотворение «Валерик». Это, как сообщает Лермонтовская энциклопедия, «развернутое описание походной жизни и военных действий на Кавказе, кровопролитного боя на р. Валерик между отрядом генерала Галафеева и чеченцами 11 июля 1840, в котором участвовал Лермонтов. Обе стороны понесли большие потери, но существенного военного успеха достигнуто не было…»
В доверительном письме другу поэт вопреки запрету военных властей («описывать экспедиции не велят») приводил некоторые подробности дела, страшные картины которого спустя долгое время все еще стояли перед его глазами: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью…»
Работая над стихотворением «Валерик», Лермонтов выбросил оттуда многие строки, рисующие жуткие подробности сражения. Вовсе не потому, что щадил будущего читателя, а в поисках точного образа, чтобы в привычной уже обыденности войны передать весь ужас происходящего. Пытаясь утолить жажду, герой «Валерика» хочет зачерпнуть воды из горной реки, но «мутная волна была тепла, была красна…»
30 декабря 1840 года командир Отдельного Кавказского корпуса генерал Е.А. Головин направил рапорт военному министру, ходатайствуя о награждении офицеров, отличившихся в валерикском сражении. Здесь же следовало и описание боевых действий, а напротив имени Лермонтова стояли слова: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
В испрашиваемой награде – ордене святого Станислава 3 степени было отказано. «Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, – с огорчением признавался поэт в одном из писем, – так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».
Увидеть свой «Валерик» напечатанным Лермонтов не успел. В заключительных строках этого стихотворения он высказал заветное и, по-видимому, глубоко выстраданное желание, поэтическая формула которого состоит из двух взаимодополняющих и в то же время взаимоисключающих частей:
- И беспробудным сном заснуть
- С мечтой о близком пробужденьи…
Первое, как мы знаем, исполнилось, к несчастью, слишком скоро. Исполнилось ли второе – этого мы не узнаем уже никогда.
«Я вошел во вкус войны, – признавался поэт, – и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые бы не показались приторными». За экспедицию в Малой Чечне в октябре-ноябре 1840 года, когда одно из сражений вновь разгорелось на берегах Валерика, Лермонтов был представлен к награде золотой саблей с надписью: «За храбрость». Награждение золотым оружием считалось необыкновенно почетным, и обладатели этой вожделенной боевой регалии очень ею дорожили. Однако и здесь судьба отвернулась от поэта, и представление успеха не имело. Впоследствии имя Лермонтова еще раз было внесено в наградной список «за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г.». Генерал П.Х. Граббе испрашивал для него орден святого Владимира 4 степени с бантом. По прошествии нескольких месяцев, 30 июня 1841 года, дежурный генерал Главного штаба граф П.А. Клейнмихель уведомил Головина что «Император… не изволил… изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».
Государь мог в награде и не отказать. Казенные бумаги столь же неспешным порядком ушли бы назад, в Тифлис. И там, в штабе корпуса, их получили бы только осенью. Так что утешить поэта такая награда все равно не могла, к этому времени он был уже мертв и покоился в пятигорской земле.
«Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам…»
Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то время, когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее, оно прозвучало здесь несколько раз. Дважды – в устах Максима Максимыча, благоговейно упомянувшего «Алексея Петровича», при котором он «получил два чина за дела против горцев». Бравый штабс-капитан, как старый кавказец, не имел нужды пояснять попутчику, о каком именно Алексее Петровиче идет речь, и автор, дабы не оставлять в неведении своих читателей, вынес фамилию полководца в отдельное примечание.
Два чина, полученных при Ермолове, – это тоже выражение для посвященных, совершенно особый знак отличия, ибо кавказский главком был предельно скуп на похвалы и награды. Второе, три страницы спустя, упоминание его имени нашим штабс-капитаном связано уже с другой чертой Ермолова – его чрезвычайной строгостью к нарушениям по службе. Отказ от любезно предложенного ему рома непьющий Максим Максимыч объясняет своему спутнику следующим образом: «Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд…»
На страницах романа мы обнаружим еще и рассуждения автора по поводу ермоловского креста на Военно-Грузинской дороге. Более того, описывая Пятигорск в повести «Княжна Мери», Лермонтов из множества водных лечебниц предпочел упомянуть только Ермоловские ванны. Вот строки из журнала Печорина: «В одиннадцать часов утра, – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома». Новенький, чистенький городок, каким мы видим Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан кавказскому главкому, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. Именно Ермолов положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. В стихотворении, написанном здесь еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних костылях». Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем Ермолова. В Пятигорске и по сей день одни из лучших ванн носят название Ермоловских.
О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик»:
- Вот разговор о старине
- В палатке ближней слышен мне;
- Как при Ермолове ходили
- В Чечню, в Аварию, к горам;
- Как там дрались, как мы их били,
- Как доставалося и нам…
Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову частное письмо от его бывшего адъютанта П.Х. Граббе (в то время командовавшего войсками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ генерала – покорителя Кавказа в стихотворении «Спор»:
- От Урала до Дуная,
- До большой реки,
- Колыхаясь и сверкая,
- Движутся полки…
- И, испытанный трудами
- Бури боевой,
- Их ведет, грозя очами,
- Генерал седой…
«Спор» – стихотворение странное. Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, несопоставимой даже с физической высотой спорящих Казбека и «Елбруса», буквально космической, охватывая взглядом чуть не полмира от Урала до Нила. Странность же его в том, что после пронзительных, щемящих, облитых кровью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветствует неотвратимого, «страшно-медленного», завораживающего движения неисчислимых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относительно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его победоносного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени. Но Ермолов или кто-то другой – разве у русских мало боевых генералов?
«В полдневный жар в долине Дагестана…»
Имени этого человека в хрониках Кавказской войны всегда сопутствует эпитет «храбрый». Ранений у него было больше, чем наград. При штурме Варшавы, ещё молодым офицером, он потерял глаз. На Кавказе получил пули в ногу, голову и в грудь навылет. В Севастополе – две контузии и ещё одну рану. Его наградили золотым оружием с надписью: «За храбрость». Но более памятной, чем все ордена и награды, была для него маленькая серебряная медаль за взятие штурмом дагестанского аула Ахульго. Звали этого человека Мориц Христианович Шульц. Имя этого храброго штабс-капитана, дослужившегося потом и до генеральских погон, могло бы, пожалуй, затеряться в кавказских хрониках, если бы не одно особое обстоятельство, отметина судьбы: Шульц стал прототипом или, в данном случае позволительно сказать, протогероем лермонтовского «Сна».
Блокада и осада высокогорной твердыни Шамиля продолжались 80 дней. Военные действия достигли на этот раз тех мест, замечает военный историк, «куда до этого времени еще никогда русское оружие не проникало; они сопряжены были с такими затруднениями естественными и с таким упорным сопротивлением со стороны неприятеля, какие прежде едва ли встречались…»
Что касается Шульца, то под Ахульго он получил несколько пуль. В день последнего сражения, указывая путь штурмовой колонне, он был тяжело ранен в грудь навылет. В горячке боя о нём не сразу вспомнили, и он ещё долго лежал под палящими лучами среди павших. В минуты, когда сознание возвращалось к нему, он вспоминал о любимой девушке, оставшейся в России.
Руководивший осадой генерал Граббе полагал наградить героя следующим чином. Но царь Николай I собственноручно начертал резолюцию о производстве Шульца в полковники. Его перевезли в госпиталь в Темир-Хан-Шуру, потом он лечился на водах в Пятигорске и за границей. Вернувшись на Кавказ, Шульц встретил Лермонтова и рассказал ему свою историю. Это было в Ставрополе или Пятигорске (здесь сведения расходятся) и, скорее всего, в 1840 году. Лермонтов, переведенный тогда из гвардии в Тенгинский пехотный полк, участвовал в экспедициях в Чечне и Дагестане под командой генералов Граббе и Галафеева, в памяти которых ещё отчётливы были апокалиптические картины разрушенного боем Ахульго. О Шульце заставляет вспомнить строка лермонтовского «Завещания» («Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен, был…»), написанного в это же время.
Свою историю Шульц рассказывал много раз, прибавляя уже и ту замечательную подробность, что Лермонтов использовал её как поэтический сюжет. Возможно, время стирало в его памяти какие-то детали. Возможно, его слушатели добавляли потом что-то и от себя. Один из них, писатель А. Бежецкий передает, например, слова Лермонтова, сожалевшего, что он не попал в экспедицию под Ахульго. Более известны воспоминания Шульца (тогда уже генерала) в пересказе Г.К. Градовского.
Молодым офицером наш герой сделал предложение родителям любимой девушки, но получил отказ. Его сочли не слишком выгодным женихом. Но она обещала ждать. Шульц отправился на Кавказ – заслужить чины и награды. За Ахульго он получил Георгиевский крест. Возвращаясь из-за границы, в Дрездене, возле Рафаэлевой Мадонны чудесным образом встретился со своей возлюбленной. Потом, на Кавказе, рассказал об этом Лермонтову. «Рассказал, – продолжает Шульц, – и Лермонтов спрашивает меня:
– Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?
– Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе… Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених.
Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает меня и говорит:
– Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?
И он прочёл мне свое известное стихотворение: “В полдневный жар в долине Дагестана…”»
За Ахульго Шульц получил в награду Георгиевский крест. Была установлена и серебряная медаль на георгиевской ленте – единственная, насколько нам известно, за всю шестидесятилетнюю историю Кавказской войны медаль, посвященная отдельному сражению. На одной ее стороне значилось: «За взятие штурмом Ахульго 22 авг. 1839 г.» Другую украшал вензель Николая I. Не берусь судить, можно ли отнести к боевым наградам Шульца стихотворение Лермонтова. Если да, то эта награда, как и все остальные, была оплачена кровью.
Храбрец Шульц передавал слова Лермонтова о том, что он сам хотел бы пройти через испытания, выпавшие на долю нашего героя: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это, говорят, была удивительная экспедиция… Ах, я желал бы все испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые минуты, но все-таки желал бы их испытать…» Кто знает, какие бессмертные творенья мог оставить нам поэт, пройди он через адское пламя, полыхавшее на вершинах Дагестана. Но Ахульго – не Бородино, и дальнее зарево этой битвы теперь едва различимо в исторических потемках. Нерукотворным же памятником ее героям навсегда остался лермонтовский «Сон».
«Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен был…»
В повести «Княгиня Лиговская» Лермонтов дает характеристику своему главному герою, принимавшему участие в войне с поляками: «Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат…» Эти же слова в полной мере можно отнести и к самому Лермонтову, никогда не ронявшему чести русского офицера. Говорить о его возможной военной карьере трудно даже предположительно. Он собирался выйти в отставку, издавать свой журнал и писать большой роман из кавказской истории. Двое из его однокашников, А.И. Барятинский и Д.А. Милютин, повоевав на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршала, многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и остался в нашей памяти в скромном звании поручика Тенгинского пехотного полка.
Служака из него получился неважный. Выйдя из Юнкерской школы корнетом, первого (и единственного) повышения в чине он дождался только через пять лет. «Ученье и маневры, – признавался поэт, – производят только усталость». Как-то раз наш корнет появился на разводе с короткой, чуть ли не игрушечной саблей. Шеф гвардейского корпуса великий князь Михаил Павлович велел сабельку снять и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, а Лермонтова отправил на 18 суток гауптвахты. В другой раз поэт поплатился арестом за неформенное шитье на мундире. Если не считать дисциплинарных взысканий в Школе, то за время службы Лермонтов был арестован не менее четырех раз и провел в заключении в общей сложности около трех месяцев. За дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом был предан военному суду. Дважды его могли разжаловать в рядовые. На постоянные переезды поэт потратил за свою короткую жизнь целый год. Болезни, отпуска, а потом и практически самовольная отлучка на воды в 1841 году – все это заставило Лермонтова провести вне строя еще несколько месяцев. Он успел послужить в четырех разных полках, а из своего родного, лейб-гвардии Гусарского, был исключен дважды и отправлен в армейские части «тем же чином», что на деле означало все-таки понижение, так как гвардейский офицер имел «старшинство» перед армейским того же звания.
«Вкус войны», о котором Лермонтов, явно бравируя, писал другу, оказался солоноватым от крови и безмерно горьким. Она накладывает на душу свой мертвящий отпечаток, и герой «Валерика» наблюдает ее чудовищные сцены уже «без кровожадного волненья», просто как «представленье» или «трагический балет» и с горечью замечает:
- Меж тем товарищей, друзей
- Со вздохом возле называли;
- Но не нашел в душе моей
- Я сожаленья, ни печали…
Впоследствии, передавая в доверительной беседе события того давнего страшного дня, Лермонтов пережил состояние, близкое к нервному срыву. «Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой… – вспоминал Ю.Ф. Самарин. – Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь».
Земной путь поэта оказался коротким и трудным. Саднящее чувство внутренней боли сопровождало его до самой могилы. «Что же мне так больно и так трудно?» – спрашивал он себя накануне роковой дуэли. Герцен писал, что у Лермонтова «стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь».
В стихотворении «Завещание», написанном по боевым впечатлениям 1840 года, можно увидеть предсказание Лермонтовым своей собственной судьбы:
- А если спросит кто-нибудь…
- Ну, кто бы ни спросил,
- Скажи им, что навылет в грудь
- Я пулей ранен был…
Пораженный Белинский пытался понять, в чем же заключается впечатляющая сила этих строк. В стихотворении, писал он, «голос не глухой и не громкий, а холодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образами, но небрежно и прозаично…» Возможно, поэта уже томило предчувствие близкого конца, а может быть и то, что самая горькая проза, облеченная в его стихи, сама по себе становилась пророчеством.
Николай Васильевич Маркелов, историк, писатель, научный сотрудник Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Герой нашего времени
Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы.
Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых… Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!
Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..
Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!
Часть первая
I. Бэла
Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.
Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.
Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.
Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.
За моею тележкою четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился: он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.
– Мы с вами попутчики, кажется?
Он молча опять поклонился.
– Вы, верно, едете в Ставрополь?
– Так-с точно… с казенными вещами.
– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?
Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.
– Вы, верно, недавно на Кавказе?
– С год, – отвечал я.
Он улыбнулся вторично.
– А что ж?
– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места… Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих… Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!
– А вы давно здесь служите?
– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче[1], – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил два чина за дела против горцев.
– А теперь вы?..
– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..
Я сказал ему.
Разговор этим кончился и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.
– Ведь этакий народ! – сказал он, – и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие…
До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.
– Завтра будет славная погода! – сказал я.
Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.
– Что ж это? – спросил я.
– Гуд-гора.
– Ну так что ж?
– Посмотрите, как курится.
И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.
Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей. и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана…
– Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою, – в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? – спросил он извозчика.
– Не было, господин, – отвечал осетин-извозчик, – а висит много, много.
За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.
Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.
– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.
– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!
– А вы долго были в Чечне?
– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, – знаете?
– Слыхал.
– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..
– А, чай, много с вами бывало приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.
– Как не бывать! Бывало…
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.
– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я своему собеседнику, – у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.
– Нет-с, благодарствуйте, не пью.
– Что так?
– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропадший человек!
Услышав это, я почти потерял надежду.
– Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.
– Как же это случилось?
– Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой – этому скоро пять лет. Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?» – «Точно так, господин штабс-капитан», – отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно… ну да мы с вами будем жить по-приятельски… Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, – к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.
– Его звали… Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха… Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..
– А долго он с вами жил? – спросил я опять.
– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!
– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.
– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездит: всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, яман[2] будет твоя башка!»
Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» – отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.
У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.
– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.
– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной… забыл как по-ихнему, ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему… как бы сказать?.. вроде комплимента.
– А что ж такое она пропела, не помните ли?
– Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.
Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» – «Прелесть! – отвечал он. – А как ее зовут?» – «Ее зовут Бэлою», – отвечал я.
И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий… А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..
В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я, – уж он, верно, что-нибудь замышляет».
Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.
Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек якши!»[3]
Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? – подумал я, – уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.
– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!
«А! Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу.
– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания, – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, – это было за Тереком, – я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себе аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам… Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагеза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.
И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.
– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе весь за твоего Карагеза.
– Йок[4], не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.
– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат, – ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, – а шашка его настоящая гурда[5]: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга – такая, как твоя, нипочем.
Казбич молчал.
– В первый раз, как я увидел твоего коня, – продолжал Азамат, когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! – сказал Азамат дрожащим голосом.
Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был помоложе.
В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.
– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом – чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха… Хочешь, дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, – и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?
Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса[6]:
- Много красавиц в аулах у нас,
- Звезды сияют во мраке их глаз.
- Сладко любить их, завидная доля;
- Но веселей молодецкая воля.
- Золото купит четыре жены,
- Конь же лихой не имеет цены:
- Он и от вихря в степи не отстанет,
- Он не изменит, он не обманет.
Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:
– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.
– Меня? – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу.
Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.
– Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, – не лучше ли нам поскорей убраться?
– Да погодите, чем кончится.
– Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! – Мы сели верхом и ускакали домой.
– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.
– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая, – ведь ускользнул!
– И не ранен? – спросил я.
– А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой.
Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:
– Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.
– А что такое? Расскажите, пожалуйста.
– Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.
Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.
Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..
Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:
– Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..
– Все, что он захочет, – отвечал Азамат.
– В таком случае я тебе ее достану, только с условием… Поклянись, что ты его исполнишь…
– Клянусь… Клянись и ты!
– Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет тебе калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.
Азамат молчал.
– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом…
Азамат вспыхнул.
– А мой отец? – сказал он.
– Разве он никогда не уезжает?
– Правда…
– Согласен?..
– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. – Когда же?
– В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов: остальное – мое дело. Смотри же, Азамат!
Вот они и сладили это дело… по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что – Казбич разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.
– Азамат! – сказал Григорий Александрович, – завтра Карагез в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня…
– Хорошо! – сказал Азамат и поскакал в аул.
Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, – только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.
– А лошадь? – спросил я у штабс-капитана.
– Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком[7]. Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице – и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье.
– Что с тобой? – спросил я.
– Моя лошадь!.. лошадь!.. – сказал он, весь дрожа.
Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал…»
– Нет! Урус яман, яман! – заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс.
В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге… Вдали вилась пыль – Азамат скакал на лихом Карагезе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок… Вот кругом него собрался народ из крепости – он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов – он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.
– Что ж отец?
– Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?
А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..
Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.
Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил… Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – только он притворялся, будто не слышит.
– Господин прапорщик! – сказал я как можно строже. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?
– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он, не приподнимаясь.
– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.
– Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!
– Я все знаю, – отвечал я, подошед к кровати.
– Тем лучше: я не в духе рассказывать.
– Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать…
– И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.
– Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!
– Митька, шпагу!..
Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:
– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.
– Что нехорошо?
– Да то, что ты увез Бэлу… Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, – сказал я ему.
– Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.
– Вовсе не надо!
– Да он узнает, что она здесь?
– А как он узнает?
Я опять стал в тупик.
– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу…
– Да покажите мне ее, – сказал я.
– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился… Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.
