АИСТЫ
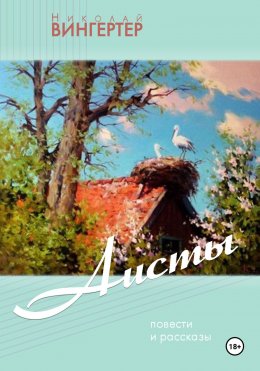
СОДЕРЖАНИЕ:
Аисты 2
Попрошайка 21
Овцы и люди 28
Обман 53
Рыжая 62
Пал-Палыч 66
Наваждение 74
Ведьма 101
Не договорились 108
Гороскоп 120
Заблудший 142
Паутина 190
Хороший человек 208
Коля 229
Бестия 243
Слуга 285
Работник и ангел 378
АИСТЫ
(рассказ)
Дом Викуловых стоял на отшибе села, но выселками это место никто не считал, к нему даже шла отдельная дорога, выложенная бетонными плитами, а двухэтажный дом и большой двор, окруженные со всех сторон фруктовыми деревьями, со стороны выглядели как зажиточное поместье. По сути это было крестьянское, фермерское подворье площадью с футбольное поле, где имелись и добротные хозяйственные постройки: амбар, сараи и вольеры для живности, навес для хранения разной техники. Жил здесь сам хозяин Иван Викулов и его жена Марта. Среди местных считалось, что богаче них в селе нет, но никто не завидовал, как часто бывает среди людей, потому как знали, что достаток Викуловых был у Ивана, во-первых, от отца, построившего этот дом, во-вторых, благодаря трудившимся «не покладая рук с утра и до ночи» самим Ивану и Марте, которые лишь в самые напряженные дни уборки урожая прибегали к найму сторонних работников, и тех никогда не обижали, честно платили за работу. Иван и Марта удивительно походили друг на друга, словно были брат и сестра. Он, высокий блондин с правильными, волевыми чертами лица и добрыми глазами радужкой цвета синих ирисов; она, ему под стать, с русой косой и серо-голубыми выразительными глазами, в сиреневой тени ресниц которых можно было порой видеть затаившуюся печаль.
Повстречались они и узнали другу друга во время учебы в сельскохозяйственном техникуме, где он осваивал механику, она ветеринарное дело. Никто из их окружения и не сомневался в том, что они должны быть вместе, созданы друг для друга. Марта, выросшая, как и Иван, в селе, приняла его предложение, они создали семью и стали жить в доме его отца, у которого он был поздний и единственный. Старший Викулов, давно овдовевший, был несказанно рад появлению в его доме хозяйки, стал ждать новое поколение Викуловых, и однажды, – а было это еще пять лет назад, во время одного из тихих вечерних семейных ужинов, любуясь молодыми, – сорвалось у него с языка, о чем постоянно думал:
– Мои дорогие, не откладывайте с детишками, как это теперь модно-принято. Дети – благодать божья! Мартушка, – так он сразу стал нежно обращаться к невестке, – уж ты прости меня, старого, за нескромность, даже фривольность, но не зря ведь ещё в старину говорили, что до замужества, девка – это одно дело, но после – «Бабёнка должна быть с ребёнком».
Молодые после его слов растерялись, щеки Марты пошли густым румянцем, Иван, опешивший поначалу, спохватился:
– Отец, ты с ума сошёл! Что такое говоришь? Разве так можно? И потом, Марте предложили место старшего зоотехника в соседнем агрокомплексе. Должен понимать, что работа серьезная, ответственная, возможен рост.
Старик закашлялся и сказал:
– Понимаю, сболтнул лишнего. Так получилось. Прошу прощения! – Было видно, как он смутился своей же смелости и откровенности с невесткой, которую в сущности мало знал, но каким-то шестым чувством человека долго живущего и простого, не привыкшего к сантиментам, видел в ней ум и понимание. И он не ошибся.
– Папа (Марта с первых дней стала так обращаться к Викулову старшему), всё верно говорите. Я сама так думаю. Действительно, как без дитя. – Она повернулась к мужу: – Тебе замечу вот что, когда рожу дитя, после этого разве перестану быть старшим зоотехником. – Она на мгновение задумалась и хитро улыбнулась: – Лошадь после того, как принесёт жеребёнка, разве перестаёт быть лошадью, она также продолжает работать, а жеребенок растет. Думаю, ничего нового не открываю. Материнство – оно важно и нужно, но и женщина должна чего-то в жизни достигнуть, а не превращаться в пожизненного раба своего дитя.
Её слова приятно удивили старика, он, несмотря на больные ноги, словно по стойке «смирно» вскочил, вышел из-за стола, приковылял к Марте и обнял ее:
– Иван, сын! Ты слышал? Да Марта умнее нас с тобой! Доченька, дай Бог тебе здоровья и счастья! – Он прослезился. – Я ведь вот ещё что сказать хотел очень важное, раз такой получился разговор. Книжек в своей жизни немного я прочитал, всегда было некогда, работа и работа. Теперь, к концу жизни, как-то пришло мне в голову взять Святую книгу, которая всегда лежала у жены в комоде. И знаете, дорогие, что меня сильно впечатлило, – слова, которые вроде сам знал и понимал, но это одно, другое дело – увидеть их в книге. – Он вышел и вернулся с небольшого размера Библией, раскрыл закладку и стал читать подчеркнутое карандашом из Екклесиаста: – «Труд мой, которым трудился, должен оставить человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. Так иной человек трудится всю жизнь со знанием и успехом, а оставляет всё человеку не трудившемуся. И это суета и зло великое».
Старик положил на стол Библию, но не перекрестился, как принято в таких случаях, – он не был воцерковлённым, не знал ни Таинств Покаяния и Причастия, ни другой церковной атрибутики, важной для истинно верующих, – Викулов-старший, передохнув, произнёс сакраментальное, но весомое:
– Я очень счастлив, что труд своей жизни могу оставить сыну, достойному, воспитанному в уважении к труду. И я очень-очень желаю вам, чтобы и вы могли когда-то также, с большой радостью, оставить дела рук своих вашим детям…
Прошёл после того памятного дня год, потом ещё год, и ещё. Иван успешно вёл хозяйство, у Марты удачно складывалась карьера в крупной аграрной фирме. Но старший Викулов так и не дождался внуков. Он больше не затевал прежний разговор о наследниках, но в минуты слабости, огорчаясь, только твердил, что виной всему сам, наверное, ведь и у него сын появился, когда дожил чуть не до пожилого возраста; так, похоже, на их роду написано. После ухода отца, возникшая в доме пустота, тяжело переживалась Иваном и Мартой. У них было перед отцом какое-то патриархально-первобытное чувство вины, которое почти не встречается среди современных людей, что не оправдали его надежды, так и не успели подарить радость общения с внуком или внучкой. Трудно было обоим скрыть это настроение, чтобы не травмировать друг друга, потому что сильно любили друг друга, жалели друг друга. И они, как муж и жена, старались изо всех сил исправить положение, и не было предела в том их молодой страсти и желания. Но время шло, а ничего не менялось. Недоуменно разводили руками и врачи, не находя ни у одного препятствий к рождению ребенка. Весной особенно обострялось чувство горькой реальности, с которой столкнулись, усиливалось осознание какой-то пустоты жизни и потеря веры в то, что исполнится их мечта. У Марты, когда в природе всё пробуждалось, а она сама, как в наказание, носила имя с названием первого месяца весны, невольно усиливалось желание материнства. Как у зоотехника, прямо участвующего в создании ею самой условий для возникновения новой жизни у многочисленных подопечных на фермах, а потом наблюдающей появление их детенышей на свет, её сознание в такие минуты просто ломалось под наплывом чувств, которые не могла скрыть. И она, придя домой, часто не поужинав, уходила в спальню, просила её не тревожить, закрывала шторы, чтобы не было света, укладывалась в постель, накрывшись с головой, чтобы не было слышно никаких звуков, старалась забыться сном. Но сон приходил редко, чаще возникал становившийся всё навязчивее страх, и она страдала бесконечно от не дававших покоя мыслей, что женщина она «пустая», грешна в чём-то и это её наказание, но в чём, не знала и не могла объяснить. Появилась и боль физическая – мигрень, от которой начинала страдать ночь напролёт, не находя себе места ни в развороченной от припадков болезни постели, ни, когда уставшая, в холодном поту, садилась на край кровати, уставившись безмолвно в угол комнаты, или вставала и стояла подолгу перед распахнутым настежь окном, покуда её не отрезвляли пронизывающий холод и сырость зимней ночи. И рождались в такие минуты в её сознании мысли самые невероятные, какие у человека появляются от безысходности и отчаяния. Она, никогда не обращавшаяся к религии, не только начинала вспоминать всех богов, выдуманных человечеством, от Будды, Митры, Зевса или Христа, но впадать в анимизм, вспоминать, какие слышала приметы, гадания на зачатие ребенка; и начинала вдруг строить планы на предстоящий летом отпуск, чтобы съездить в монастырь, молиться у одного из известных списков иконы Матери Божьей, потом поехать обязательно на Кавказ, где, как рассказывали, есть быстрая река, в которую на рассвете сначала нужно войти для омовения, затем подняться на гору и просить себе у солнца дитя. Всё это видел и слышал Иван (Марта и не скрывала), понимавший, что так дальше продолжаться не может.
Викулов, всегда бывший в работе, отдых себе позволял только в воскресенье, которое любил, наслаждаясь домашним покоем и уютом, спокойным общением с любимым человеком за завтраком; и, казалось, ничто не могло отменить эти редкие часы для обоих, ставшие хорошей привычкой, но всё изменилось вместе с поведением Марты в последнее время. Теперь для него прежде чудесные воскресные утренние часы, когда оставался дома, превратились в тяжелое испытание. Завтраки готовил сам, а приготовив, не мог дождаться Марты, которая, как ему казалось, словно нарочно задерживалась, хотя (он знал) уже давно встала, была одета, но была занята одним и тем же – безмолвным стоянием у окна со своими мыслями, что-то высматривающая на улице. Вот и сейчас она не спешила в столовую, несмотря что два раза звал её, а на столе остывали яичница, для нее сваренная каша, и заваренный кофе. Он встал и подошел к дверям, чтобы снова её позвать. В этот раз, лишь приоткрыв дверь, услышал, как Марта что-то вполголоса читает, держа перед собой листок бумаги. Он не стал её отвлекать, дождался пока положила листок на тумбочку у изголовья кровати. Она вышла, молча уселась за стол, принявшись за еду, и через время попросила её извинить, что заставила ждать. Повторялось такое уже не первый раз. Марта стала другой, но все равно его самым дорогим и любимый человеком, для него по-прежнему открытым, ласковым и ничего от него не скрывающим. Он спросил, что она читала. Марта, застеснявшись сначала, сказала, что ей на работе сотрудница дала молитву. С этими словами прошла в спальню и принесла сложенный в четверть листок. Были в нем слова «…Отъиди бес нечистый, дух проклятый, на сухiя древа, на мхи и болота, там твое житiе-пребыванiе, там оставайся, а не в рабе Божией (имя речi)». В заглавии было «Заговор от порчи». Это же не молитва, сказал Иван. Марта извинительно и устало улыбнулась, пожала плечами:
– Ну да, не молитва… Можно я пойду и прилягу?
– Конечно, милая.
Когда она ушла, он прибрал на столе и вышел курить на крыльцо, налегке, без верхней одежды. Запалил в задумчивости сначала одну, потом вторую сигарету, выпуская густые облака дыма, оглядывая сверху свой большой двор, крыши ближних домов села, всматриваясь в сизую даль, где под черным паром были его поля. День только начинался, и он, не привыкший ни на минуту к покою, не зная, чем и как себя теперь занять, решил сходить туда, чтобы проверить, который уже раз, как созревает земля для боронования под яровые. Он зашёл в дом, одел куртку и сапоги, и пошёл по улице. Сельчане тоже давно были на ногах, возились по хозяйству, и он то и дело здоровался с кем-то, кивал головой, но не останавливался для досужих разговоров, идя к своему полю, по-прежнему занятый думами о Марте, ловя себя на мысли, что в последнее время всё чаще старался бывать меньше дома, чего не было никогда, чтобы быть одному, не видеть уставшее, измученное лицо Марты. Его не без оснований пугал её вид, боязнь, что жена скоро будет на грани помешательства, и для себя твёрдо решил, что как только закончит основные весенние полевые работы, поговорит с Мартой о приёмном ребенке. Не покидала его память и о давнишнем с отцом разговоре, в котором старик искренне радовался, что у него сын, есть кому передать нажитое. «Я кому оставлю моё огромное хозяйство, дело, которым занят? Что станет с ним?.. Отец построил дом и был счастлив, а вдвойне, что оставил дом для меня. Я живу теперь в его доме, и это мой дом. А кто будет жить в нашем милом, добром доме после?..» – думал Иван, скоро шагая под шуршание резиновых подошв по песку-гравию просёлка.
После мартовской нескончаемо переменчивой погоды – ветров и морозных утренников – наступили погожие апрельские дни, солнце поднималось всё выше, и почва начала потихоньку прогреваться. Иван окинул взглядом поле. По времени уже было начать обработку почвы, потому что пробилась первая сорная трава – мятлик и ежовник. Иван взял в ладонь горстку земли, сильно сдавил в кулаке так, что превратилась в комок, и уронил. Комок рассыпался. «Да, пора! – вслух подтвердил Иван. – Сырость почти вся ушла, на неделе можно начинать». Он, довольный хотя бы этим, повернул назад.
Викулов уже подходил к дому, как навстречу попалась старуха Козырева. Старуха, как старуха, но не совсем такая, как другие старухи, потому как с виду обычная, жила все же непривычно. Водился за нею грешок – она не просто выпивала, но была запойной, тогда словно кто-то невидимый срывал с неё покров благообразия, её прорывало, без умолку болтала, неся что ни попади, а то и вовсе чудила. И обращались к ней не по имени-отчеству, не фамильярничая даже, а прозвищем – Кена. Пристало оно к ней из-за того, что из живности у неё была всегда только одна коза, даже когда меняла её, то у новой козы кличка оставалась прежней – Кена. Так и прилепилось к самой хозяйке: Кена. Была она одинока, односельчане относились к ней по-разному: кто-то посмеивался-подтрунивал, кто-то жалел, а кто-то откровенно стеснялся её присутствия и сторонился, но для всех встреча с нею не была особенно желанной. Иван исключением не был. Он с детства знал Козыреву, помнил приписываемые ей слова, фразу, ходившую среди сельчан: «Каждый человек одинаково умный и дурак, вот и все вы не умнее меня будете». Многие повторяли частушки, которые она либо сама сочиняла, либо где-то слышала, вроде такой, когда однажды стала петь после того, как ездила к кому-то в Ленинград:
По их Питеру гулять, -
воды по колено;
питерского целовать,-
брать с собой полено.
Ивану с детства запомнилась другая:
Слушайте меня, ребята.
Нескладушки буду петь:
на дубу свинья пасется,
в бане парится медведь.
Вот и теперь, завидев Ивана, Кена – сутулая, со сморщенным личиком, повязанная поверх головы пестрым платком, шаркая калошами, подошла близко к нему и вдруг запела:
Я по полюшку гуляю,
мне в деревне тесно;
Хоть и мало я пою,
зато интересно.
Он попытался отойти, но неожиданно схватила его за полу куртки и сказала:
– Что бежишь? Думаешь, как и все, что Кена дура! А ты так не думай. Надо уметь иной раз остановиться, оглядеться, послушать, глядишь: что-то новое узнаешь, чего в спешке не замечаешь.
Пьяной Кена не была, – так ему сначала казалось. Да и взгляд у неё вдумчивый, глаза ясные. Он остановился и сказал:
– Я так и не думаю.
– Знаю, ты славный парень! Разве мог быть другой у Викулы. Хороший был мужик. Было время, меня с ним даже дразнили: жених и невеста… – Она что-то вспомнила и в ней вдруг снова взыграла привычное веселье, совсем не старушечье озорство. Она лихо пропела:
Меня матушка любила,
и папаша нежил;
но как поздно задержусь,
хворостины держат.
Викулов снова хотел уйти, но она остановила его, улыбнулась дружелюбно, продолжала уже просто и спокойно:
– Послушай лучше, что скажу. Знаю о твоей истории, как Марта мучается. Не спрашивай откуда? В деревне все и про всех знают, я тем более. Так вот, не сочти за блажь-дурь мою, но привиделась мне птица на крыше дома твоего, птица-аист. Теперь и сама не знаю: спьяну или во сне. Но точно был аист. Может знак какой тебе и Марте? Потому и решила сказать. Может, впрямь поможет?
Первое, что подумал Иван, оторопело уставившись на Козыреву: «Не зря, видимо, говорят – ненормальная». Она уловила его взгляд и сказала:
– Бог вам в помощь!
– Так Бог или аисты?
– А и то, и другое. Птица, она ведь ближе к Богу, чем мы, люди.
– Ты всё нарочно придумала, хочешь, наверное, выпить?
– Иван, я думала, ты умный, оказывается, как все – дурак. Но… поживём-увидим! – Она пошла, снова что-то напевая вполголоса.
Пошёл домой и Викулов. Пройдя немного, его взяло сомнение: «А вдруг?.. Для чего-то ведь Кена повстречалась мне сегодня с утра, хотя не видел её давно, тем более никогда не разговаривал с нею. Может быть, Кена сумасшедшая, но разве меньше сумасбродства у Марты с её приворотами, которыми стала увлекаться».
По мере того, как подходил к дому, Викулов задумался о том, где мог бы у него свить гнездо аист. «Старую кирпичную трубу разобрали, когда провели природный газ, котельную в доме обустроили отдельно, вывели высокую трубу из нержавейки, – рассуждал вслух Викулов. – Плоские крыши сараев и навесов, очевидно, не годятся, чтобы их приглядел аист. В соседнем селе видел гнездо на придорожном телеграфном столбе, относительно невысоком, метров восемь. Стало быть, – решил он, – поставлю у себя такой же, закреплю его к постройке, где складируются тюки с сеном».
На следующий день, как только Марта уехала на работу, он отложил свои дела с подготовкой техники, а принялся за аистов «дом». Нужной длины и толщины стройную еловую лесину он имел в хозяйстве, и дело было за малым – вкопать её у постройки вдоль опорной стропильной балки крыши и стянуть проволокой с балкой: конструкция должна получиться основательная.
Он позвонил своему хорошему приятелю и попросил приехать на пару часов с краном-вышкой. Когда Иванов друг приехал, и они всё обсудили, то и задумались: а что сооружать поверху лесины? Сошлись быстро во мнении, что нужно съездить в соседнее село и посмотреть настоящее гнездо аистов. И поехали тут же.
Поставленная ими кран-вышка у столба со старым гнездом аистов вызвала интерес среди местных, которые их обступили. Посыпалась куча вопросов. Иванов друг оказался находчив. Он выглянул из кабины и сказал:
– Задание выполняем важное, государственное! Объезжаем район для ревизии гнёзд аистов.
– А зачем? – спросил неуверенно и недоверчиво худой старик с газетой и в роговых очках. – В жизть такого не было!
– Эх, отец! Жизть прежде была одна, теперь стала другая, ещё не такое бывает, страна то ведь тоже другая.
– Для чего? – не унимался старик, снявший очки, которые, видимо, были для чтения, пытаясь разглядеть Ивана, стоявшего на высоте в корзине вышки.
– Всё просто. В следующий раз привезём яйца страусов, подложим в это гнездо и другие, прилетят аисты и станут высиживать вместе с аистятами страусят.
– Шутники! Такого не бывает.
– И я говорю, что раньше не было, теперь будет. У страуса вона какие яйца! Почти как у слона. Не воробьям же их высиживать, аист для этого дела самая подходящая птица. Научный эксперимент! Лично министр сельского хозяйства придумал, чтобы увеличить в стране поголовье страусов.
– Разве что так… – старик, похоже, задумался.
Они вернулись назад. Иван ничего замысловатого в устройстве аистами гнезда не увидел, кроме переплетенных меж собой как попало, на первый взгляд, сучьев, камыша, обрывков верёвок, тряпок (были даже куски строительной минеральной ваты), что оставалось, как это не странно, конструкцией крепкой. Он решил на макушке лесины установить крестовину, подобную тем, что устраиваются под новогодние ёлки, только наоборот, а на ней закрепить старую плетеную корзину с низкими бортами, которой пользовались для переноски овощей с огорода. Они быстро управились. Прощаясь с приятелем, Викулов сказал:
– Про страусов ты зря так со стариком. Мне его жаль, он тебе и впрямь поверил.
– Вовсе не зря. Пусть голову поломает, говорят, что полезно, глядишь и поверит. – Он улыбнулся и подмигнул Ивану. – Ты ведь тоже хочешь верить.
Викулов промолчал. Но ему вдруг вспомнилась известная фраза о том, что «если у человека будет вера величиной даже с горчичное зернышко, то для него не будет в жизни ничего невозможного».
Марте, лишь пришла с работы, сразу бросился в глаза, возвышающийся на участке столб с корзиной наверху. Иван ей рассказал о встрече со старухой Кеной, с чего всё и началось. Она сначала грустно улыбнулась, так что у неё то ли от жалости к себе, то ли избытка чувств к мужу за проявленную, трогательную заботу о ней, проделанный немалый труд, выступили слёзы. Она обняла Ивана и прижалась мокрым лицом. Он осторожно отстранился, отер слезы, поцеловал в глаза и сказал:
– Всё будет хорошо! Аисты нам помогут!
Марта утвердительно кивнула головой. И как часто бывает, когда какие-то внешние, подчас кажущиеся незначительными, случаи влияют на последующее поведение человека, если не на всю его жизнь, так и в её тревожной душе появилось загадочное ощущение чего-то нового, что обязательно не только может, а должно произойти. Надежна и вера большинства мнительных и склонных к сантиментам людей – в том нет никакого открытия – всегда опираются на нечто материальное, ощутимое, как, например, у язычника-друида священный дуб; иудея скрижали, посланные Моисею; у доброго христианина иконы, частички мощей Святых, как и прочее у разных народов. «Аисты, приносящие детей», – эта веками существующая, придуманная кем-то красивая сказка-примета, вдруг для неё стала почти такой же материальной основой веры, что у них с Иваном действительно сбудется их желание о ребёнке… И наступили в семье Викуловых дни, которые внесли в их до того скучное и гнетущее настроение ожидание события, которое непременно должно случиться, ну, хотя бы начнется с появление аистов. Только лишь начинался рассвет, как Марта выглядывала в окно спальни на торчащий над крышей сеновала столб. Но проходили день за днём, а никто на него не прилетал, на нём сидели лишь вездесущие воробьи, да постоянные пернатые жители в их округе – пара сорок. Весна набирала силу, и уже по небу шли куда-то на север косяки гусей, прилетели враги местных садоводов скворцы, уничтожавшие урожаи черешни и клубники; появилась трясогузка, горихвостка, ласточки, но больших белых птиц с черной отметиной не было. И снова у Марты время от времени начинались приступы хандры, былое доброе настроение ухудшалось, и она, чтобы скрыть своё состояние, старалась не встречаться взглядами с Иваном, не обидеть его; он в ответ молчал и находил кучу отговорок тоже не общаться с нею, уходил, чтобы себя чем-то занять. И так продолжалось неделю и вторую.
Потом наступил обычный рабочий день, каждый был занят своим делом. Марта сидела у себя в конторе, когда к ней вбежал Иван, редко навещавший её на рабочем месте. Был он взволнован, сразу не мог выговорить, что хотел, схватил её за руку и, со словами «аисты», потащил на улицу. Очень-очень высоко в совершенно безоблачном небе была видна большая стая птиц, только их чёрточки. Их было много, они парили, кружась на месте, не было слышно их голосов, как бывает у перелётных журавлей, значит, это могли быть только аисты. Не только Иван и Марта, другие её сотрудники вышли посмотреть на прилёт аистов. Через время, стая, словно поприветствовав людей, медленно стала уходить. А Иван и Марта, радовавшиеся как малые дети, поехали к себе в надежде, что в их дворе тоже появятся аисты. Каким же было разочарование обоих, что к ним никто не спустился из этой стаи, не прилетел и в следующие несколько дней. Ничего не изменилось. Марта оставила привычку спозаранку выглядывать в окно.
Событие, почти не ожидаемое, произошло, как водится, внезапно. В воскресенье, когда они завтракали, на улице неистово стала лаять их дворняга, свободно гулявшая по двору. Иван вышел на улицу посмотреть, может кто подошёл, тут же обомлел от удивления. Собака вертелась под лесиной, заглядывая вверх, а там, в корзине с совершенно невозмутимым видом стоял аист, озираясь вокруг себя. Марта вышла следом и не верила своим глазам, в ней снова пробуждалось необъяснимое чувство, что надежда и вера обязательно сбудутся, она станет матерью. Она осторожно, боясь спугнуть птицу, подошла к краю крыльца и спросила у мужа:
– А он не улетит?
– Зачем же ему улетать, если только прилетел. Видишь, как по-хозяйски осматривается, что-то, может, не нравится с нашей корзиной. Но это теперь его проблемы-заботы, ему виднее. Марта, а ты будь смелее, они ведь к людям привычные, только близко к себе не подпускают, на нашу дворнягу, как видишь, ноль эмоций.
– А почему он один?
– Наверно, не успел жениться.
– Остроумно!
– Думаю, что где-то летит его подруга, а до тех пор аист готовит гнездо для семьи, как у них заведено, у нас, людей, не все так поступают.
Птица их словно поняла, вдруг расправила крылья, запрокинула голову на спину так, что нижняя часть клюва оказалась вверху, и стала в таком положении ударять челюстями одна о другую, громко и сильно трещать, будто здороваясь с хозяевами, и таким образом им говоря:
– Вы добры ко мне! И я постараюсь вас отблагодарить тем же. Вы чем-то даже на меня похожи, как и я, на двоих ногах, но очень жаль, что нет у вас крыльев, а то бы взлетели ко мне наверх, здесь так здорово, отсюда открывается чудесный вид на окрестности, такая красота: дальний лес, поля, озеро с лугами, где, уверен, немало найдется еды. А самое главное, я у вас в полной безопасности, могу вывести потомство, сохранить своих деток, потому что на меня в ваших краях не охотятся, как в Африке, где я провожу зиму, и где похожие на вас, но другие совершенно люди, меня ждут только для того, чтобы убить и съесть.
Восторгу Марты не было предела. Она стала от радости кружиться, прыгать, возносить к небу руки, складывать ладони в благодарении. Немного успокоившись, убежала в дом, крикнув оборачиваясь к Ивану, что сегодня у них праздник, она готовит мужу на обед его любимые картофельные клёцки со сметаной и жареным луком. Они остатки дня без конца выходили смотреть на птицу в ожидании, что прилетела его пара. Но аист был один и в этот день, и следующий, но не покидал свой «новый дом». Иван стал видеть аиста гуляющего в поисках корма на окраине поля и у заболоченного берега реки, аист постоянно носил «строительный материал», поднимая и расширяя гнездо. Подруга аиста появилась на третий день, она прилетела, видимо, ночью. Аисты теперь были вдвоём, настало их время любви. Они взлетали с гнезда, делая в воздухе несколько резких ударов крыльям, потом почти невидимыми движениями, как в танце, поднимались всё выше и выше широкими кругами-спиралями, забираясь так высоко, что почти растворялись в небе. Но через какое-то время вдруг появлялись совсем с другой стороны, уставшие и счастливые, что обрели друг друга, что вместе, ведь вдвоём в гнезде теплее. Выходя из дому, люди приветствовали птиц громко словами, птицы в ответ трещали клювами и были заняты своими птичьими хлопотами-заботами, продолжая строить гнездо, летели вслед за Иваном в поля, выискивая в поднятой пахотой земле мелкую живность, паслись на других пажитях. Его поражала забота аиста о своей подруге. Он наблюдал, как аист, достав из норки зазевавшуюся полёвку, подзывал её к себе, совсем как это делают петухи, приглашая кур на найденное зёрнышко, или, бывало, аист гордо нёс добычу в клюве и бросал к её ногам. В начале мая, когда солнце уже не просто грело, а нагревало гнездо в ясные дни, у птиц наступила самая важная в их жизни пора: аисты ждали пополнения в семействе. Теперь бесконечные полеты из гнезда и в гнездо совершал один аист, а его подруга высиживала яйца. Он заботливо носил ей самые невероятные кулинарные изыски – дождевых червей, лягушек, мышей и даже мелких ужей и рыбу, чтобы хватило сил согревать яйца и дать жизнь будущим птенцам. Наконец, и она начала улетать, они поочередно меняли другу друга, но никогда не оставляли гнездо, это значило, что у них вылупились птенцы. Викуловы дали птицам человеческие имена: аиста за его бодрый, сильный характер, назвали Гриша, его подругу, которая была поменьше, изящней, кто-то бы сказал «гламурной», ласково – Глаша.
Марта была очень увлечена происходящим на её глазах с аистами, её интерес был настолько сильным, что она могла часами стоять и наблюдать, как в занимательном кино, что происходит в этом птичьем семействе, никак не могла дождаться, переживала, когда же появятся птенцы. Её кто-то из знающих соседей успокоил, что птенцы встают на ноги только через месяц, а в гнезде до вылета живут около двух месяцев. Она дождалась, когда птенцы поднялись, и это стало целым событием. Над краем корзины появились три маленькие головы, которые озирались, вертя похожими на морковку маленькими клювами, начали прыгать в гнезде, потом всё смелее и отчаяннее махать крылышками. Это выглядело забавно и увлекательно. Родители-аисты, было похоже, гордились своими малышами, устраивая обыкновенно рано утром, лишь забрезжит рассвет, – птицы не спят подолгу в отличие от людей, – такой концерт-трескотню на весь двор, птенцы в этом оркестре им вторили чуть спокойнее (анданте), что уже никому во дворе было не до сна. Иван сердился, что его в такую рань заставляют оторваться от такой притягательной, особенно в утренние часы, подушки. В конце июля окрепшие аистята стали, как заправские парашютисты, летать из гнезда. Они подскакивали сначала вверх, затем, едва начав падать, резко, инстинктивно, расправляли крылья, делая два-три взмаха, и их словно подхватывал невидимый поток воздуха – они спокойно, вытянув вперед шеи и с направленными кзади ногами, как и их родители, красиво устремлялись вслед за ними, чтобы учиться птичьим премудростям для самостоятельной жизни.
Так продолжался еще месяц. Птенцы заметно повзрослели, превратившись почти в таких же, как старшие, больших птиц, и это была уже небольшая стая. В гнездо они возвращались вместе всё реже, пропадая на разных пажитях, чтобы набрать сил для предстоящего перелёта на зимовку. Но отец и мать аисты в гнездо прилетали по-прежнему всегда вдвоём. Они опускались в него, стоя всегда почему-то на одной ноге и бок о бок друг к другу, спрятав клюв меж длинных перьев шеи, и в таком положении оставались подолгу, держась с достоинством, величаво, поглядывая своими большими круглыми глазами за тем, что происходит во дворе. А когда кто-то из Викуловых выходил из дому, было встрепенутся, шумно помашут крыльями, и Викуловы больше не сомневались, что аисты их так приветствуют и объясняются на своём языке, который уже можно было понять и людям, говорят:
– Скоро настанет пора прощаться. Очень хлопотно собираться в дальнюю дорогу, а сколько не собирайся – всего не предусмотришь. Совсем не хочется улетать, ведь у вас было так прекрасно, мы были счастливы. Обязательно будем снова вместе в следующем году. Желаем и вам счастья, пусть сбудутся все ваши мечты!
Но и аисты, оказывается, не всё знают наперед, всей семьёй им улететь не удалось. Случилась беда. В тот погожий августовский день Иван ремонтировал комбайн, как вдруг к нему во двор на велосипеде влетел местный паренёк и сбивчиво, очень эмоционально стал что-то рассказывать, размахивая руками, показывая в сторону реки, упоминая аистов. Викулов его остановил и попросил сказать спокойно. Оказалось, что мальчишки рыбачили и стали очевидцами необычной сцены, которая случилась у них на виду. Несколько поодаль от них паслись аисты, – все село уже знало, что это аисты, живущие у Викуловых. Неожиданно послышался сильный шум, птицы заметались, появился протяжный то ли свист, то ли крик, похожий скорее на писк. Когда туда прибежали рыбаки, увидели, что один из аистов лежит в крови, другие, увидев приближающихся людей, отлетели в сторону. И мальчишка повёл Викулова к месту происшествия. Иван сразу узнал Глашу. У нее была кровоточащая рана плечевой кости правого крыла, им она не могла двигать, и перекушены перепонки и пальцы ноги. Птица полулежала на траве, завидев его, пыталась подскочить, чтобы взлететь, но у неё не получалось, она падала, как подкошенная. Иван попросил мальчишку съездить снова в село и привезти старую простыню или покрывало, сам осмотрелся вокруг. У него не было сомнения, что на аиста напала крупная выдра. Многим сельчанам (рыбаки постоянно находили остовы объеденных рыб, или характерный помет этого животного) было известно, что в этом месте реки было логовище выдры. Аисты, очевидно, слишком близко подошли к пологому берегу речки, где в это время выдра выгуливала своих детёнышей, опасаясь за них, и напала на Глашу. Метила выдра, очевидно прокусить шею, так как хорошо известен этот её главный приём на охоте, – прокусывая голову или шею жертвы, она тем самым стремилась как можно скорее обездвижить её. Птица, напуганная нападением зверя, и на людей смотрела как-то боком, вполоборота головы, вздрагивая время от времени всем телом, и прикрывая веком красный глаз; но потихоньку, от усталости ли большой, или безысходности и обреченности своего положения, стала успокаиваться и, наконец-то, доверилась человеку. Иван уложил её на простыню и под восторженные взгляды мальчишек, которых просил не шуметь и не разговаривать, понёс Глашу домой.
И начались для перелётной, дикой птицы дни необычные в её жизни. Лететь в Африку по заключению Марты она, чтобы проделать тысячи километров, не могла. Марта наложила ей лангету на крыло и ногу, и посадила в закрытый вольер, в котором держали кур и цесарок. Домашняя птица поначалу к новой гостье, гораздо их крупнее, имевшей к тому же огромный клюв, относились с осторожностью и даже страхом, сторонясь и обходя стороной. Потом, всегда суетливый и многоголосый курятник, привык ко всегда молчавшей новенькой, которая подолгу стояла в углу на одной, здоровой ноге. Да и Глаша никак не находила общего языка с обитателями вольера. Кур, хотя они и были почти такие же, как она, белые (привезены из инкубатора), считала слишком наглыми и совершенно безмозглыми, а цесарок, очень красивых в их ярком оперении, наоборот, находила скучными и заносчивыми, и те, и другие были весь день заняты одним – бесконечными разборками между собой и вознёй в земле. Глаша и ела отдельно, не из общих кормушек с комбикормами и зерном, люди её кормили совсем другим, в её «меню» не было, правда, привычных мышей, червей или лягушек, но всегда рыбья мелочь, которую стали постоянно приносить местные рыбаки, корки хлеба, а ещё очень полюбившиеся Глаше сосиски. И специально для неё стояло ведро воды, тогда как куры и цесарки пили из низеньких жестяных корыт. Не привыкшая к неволе, Глаша с тоской смотрела сквозь металлическую сетку вольера на улицу, наблюдая как происходит смена времени года. Она не знала и не видела, как собрались в далёкий путь её сородичи, как их стая долго кружилась, прощаясь, над селом. Её такое же врождённое состояние необходимости перелета в края тёплые сталкивалось с действительностью, в которой оказалась, птицу это делало понурой; а когда стало становиться всё холоднее, серое небо посылало вперемешку с ледяными дождями и первые снежинки, птица стала и мерзнуть; перестал быть ярким даже её морковный клюв, и потускнели и без того грустные глаза. Люди, подзабывшие, что аист не курица, которая может переносить и небольшие морозы, что аист может простыть и заболеть, вовремя спохватились, перевели Глашу и весь птичий двор раньше обычного на «зимнюю квартиру», в закрытый и теплый сарай. Но время делало своё дело, птица постепенно не только освоилась с чуждыми для неё домашними пернатыми, задавая им время от времени трёпку, если мешали хоть в чём-то, и совсем перестала сторониться человека; заживали и физические раны. Марта в один из дней, когда Глаша стала к ней подходить сама, брать из рук сосиску, сняла с птицы гипсовые повязки. И Глаша почувствовала долгожданную свободу в движении, размахнулась по-настоящему сильными крыльями, вдруг запрокинула голову и впервые устроила трескотню клювом, что от неожиданности по сараю в испуге заметались куры и цесарки. Марта нежно провела ладонью по шее Глаши, погладила её ещё раз, – птица не сопротивлялась, – тогда Марта осторожно стала перебирать пальцами маховые перья, счищая с них остатки сухого гипса. Птица и теперь не шевелилась, только изредка поворачивала голову, косясь красным глазом над согнувшейся над нею спасительницей. И в какой-то момент Марта не просто видела этот взгляд, ей казавшийся забавным, потому что птица, привыкшая к ней, проявляла уже и явное любопытство, но ей показалось, что Глаша, подёрнув веком, словно подмигнула, чтобы сказать:
– У тебя, Марта, тоже всё хорошо. Ты же должна помнить, как мы с моим другом аистом весной говорили тебе, что и у вас в семье всё наладится, и у вас будет свой аистёнок. Так вот, я уже начинаю видеть этого аистёнка…
Марта опешила от внезапно посетившего её состояния, словно колдовства. Она оставила птицу, зашла домой, присела, и только теперь вспомнила и подумала о том, что чувствует себя последнее время не вполне здоровой, постоянно присутствует ощущения дискомфорта, но в постоянных хлопотах-заботах и круговерти будней, никак до сих пор не удавалось себе уделить внимание. Холодок у неё пробежал по спине, когда подумала, как всё это несколько непривычно для неё, и не может ли быть связано с её женскими делами. Она серьёзно задумалась, но в этот день и следующие дни мужу ничего не сказала, потому что и раньше бывали у неё временные изменения по-женски, стала наблюдать себя, измерять базальную температуру, находя её повышенной, хотя не имела при этом никаких симптомов подозревать себя в простуде, каком-либо воспалении. В конце недели, она заехала в аптеку купить специальные тесты. Первая же проба, а потом и последующие, давали положительный ответ на её самый трудный в последние годы вопрос. Она пошла к врачу. Её затеплившуюся надежду врач уверенно подтвердил. Если бы можно было в этот момент измерить весами счастье Марты, как и любой другой женщины в их многолетнем ожидании материнства, то его было так много, что Марта могла одарить им всё человечество. Когда она приехала домой, первое что сделала, вошла в сарай к Глаше и вывалила перед ней целую кучу её любимых сосисок, которых купила впрок по дороге. Сосиски ловко подбрасывала и глотала не только Глаша, но растащили из-под её носа-клюва другие набежавшие обитатели птичника. Марта всё смотрела на Глашу, не уходила, и у неё наворачивались слёзы, которые не могла сдержать, и думала о том, что не может быть напрасна вера в хорошее, вера творит чудеса. И Марта, поглаживая ладонью спинку птицы, сказала вслух, к ней обращаясь: «Глаша – ты действительно птица-счастье!»
А дальше всё пошло своим чередом. Марта носила под сердцем своего «аистёнка», дожидаясь будущего лета, когда он появится на свет. Птица-счастья, ставшая совершенно ручной, настолько освоилась и привыкла в птичнике, что, казалось, она здесь жила всегда и будет навсегда. Но прошла зима, наступила снова весна, обитателей птичника опять выпустили в вольер, а Глаше было разрешено в порядке исключения свободно ходить по двору, что она с удовольствием и делала, засовывая свой длинный клюв часто куда не надо, но всё ей прощалось, и не было отбоя от любопытных сельчан, особенно детворы, которые приходили к Викуловым в усадьбу поглазеть, как в зоопарке, на Глашу, которая вроде как и и перестала быть диковинкой для всех, но вызывала искреннее удивление, – ведь прижилась же перелётная, дикая птица у человека. Глаша никого не боялась и не стеснялась, особенно выделяя мальчишек-рыбаков, приносивших ей пойманных на удочку мелкую плотву, густеру и пескарей. Птица всё время передвигалась вперевалку или небольшими скачками, лишь редко взмахивая крыльями, словно опасалась за них и берегла. Но в один из дней Глаша привычными для аистов резкими подскоками вдруг разогналась, сделала несколько взмахов и полетела, сделав небольшой круг над двором, и опустилась, но не на землю, а в гнездо. Природа брала своё! Инстинкт птицы брал верх, это был её, птичий, не человеческий дом. Она первой, до прилёта её сородичей, заняла его, чтобы продолжить свой род, как и Викуловы, в роду которых вскоре произошло долгожданное пополнение.
ПОПРОШАЙКА
(рассказ)
1.
1990 год. Караганда. В пелене падающего снега подземный переход кажется огромной черной пастью сказочного чудища, по зубам-ступенькам которого бесконечно текут пешеходы. В переходе тесно и сыро. Электрические светильники в застоявшемся воздухе горят тускло, и от этого лица людей – цвета болотной тины.
Рассветает по-зимнему поздно. Непогода передается настроению прохожих, и они, как пингвины, идут друг за другом, понурив головы, и, кажется, не видят ничего, кроме башмаков, идущих впереди. Не замечают они и старую попрошайку, которая уныло смотрит на стоящую перед нею пластмассовую кружку.
Уже полчаса она тихо мерзнет под шарканье подошв и беззвучное круженье снежинок, но даже из любопытства никто не приостановится, не посмотрит в её сторону. А посудина так и остаётся с пустым дном.
Старуха одета в искусственную, со свалявшимся и затёртым мехом шубу, поверх которой крест-накрест повязана изъеденная молью шерстяная шаль. В разбитые полусапожки заправлены мужские брюки. Обувь ей тесна, у неё мерзнут ноги, и она часто сучит ими, пытаясь согреться. От долгого и однообразного сидения её клонит в сон. Старуха смежает веки, медленно роняет на грудь голову и всхрапывает… Неожиданно в её сторону делает шаг девочка-подросток, и в кружке запрыгала и легла вверх решкой первая монета. Старуха сначала благодарно крестится, потом переводит взгляд на монету. "Решка! Плохое начало", – думает она лениво.
Словно угадав ее мысли, к кружке снова долго никто не подходит. Старухе кажется, что у неё уже промерзли не только ноги, но и мозги. Они не хотят думать. А и думать ей не о чем. "Только бы до вечера набрать на "красненькую", – донимает единственная мысль.
При воспоминании о вине её лицо светлеет, а потом на нём появляется улыбка, похожая на гримасу. Вино ей поможет дожить и этот день, как многие другие, снимет противное нытье в суставах, и скулы перестанут болеть. Боль терзает уже четвёртые сутки, как зубная, хотя зубов у неё почти нет, если не считать два догнивающих верхних резца. Но до нужной суммы еще далеко… Кружка чаще "молчит", лишь изредка позвякивает металлом. Она снова опускает голову и сильнее втягивает её в плечи, спасаясь от мороза.
За многие годы бродяжничества и пьянства её память так одряхлела, что старуха уже и не помнит толком, кто она и откуда. Обрывки воспоминаний подсказывают, что она Линда, что когда-то была скромной сельской девушкой с большой светлой косой, а отца звали Йонас. Картины того времени окрашены в зелёный цвет. Перед глазами всплывают и душистые липы, и возвышающийся над ними купол костела, а за ним, под горой, мягкие волны Нямунаса. Потом память окрашивается в цвет выгоревшей под солнцем степи, где она оказалась против своей воли, где много и долго работала, но зачем, для чего и для кого – не знала. Понимала только, что несправедливо, незаслуженно оторвана от родных мест чужими людьми. Когда окончилась война, освободили, но домой не пустили. Снова работать, пусть и для себя, – не захотела. Решила, что имеет право на отдых. Но он затянулся. Нашлись люди, с которыми казалось хорошо. За пышные, янтарные волосы и большие, слегка навыкат глаза, её прозвали Русалкой. Это прозвище так и осталось с нею до старости. А потом были суды за бродяжничество, мелькали вокзалы, случайные встречи, спецприёмники, окрасившие остальную память в чёрный цвет… И лишь изредка, словно просветы при переворачивании её черных страниц, – светлая зелень лип, костёл и хор мальчиков… Последнее время их голоса иногда звучат в ушах, проникая в очерствевшее сердце, и оно начинает учащенно биться, когда из далекого детства, вместе с плывущим над Нямунасом колокольным звоном, доносится торжественное: "Cristus natus est nobis, adoremus Domino" ("Христос родился ради нас, восславим Господа". Лат.) Рождественской литургии… Она засыпает под неё, забываясь крепким сном праведной грешницы. И видится ей синий бархат ночного неба над спящим городом, а по бархату сверкающими нитями нашито множество серебряных звезд. Вдруг одна из них отрывается и падает, падает и кричит: "Помогите! Я Линда, я же Линда!.. "
Просыпается старуха от резкого металлического звука. Она протирает глаза и не верит им. Среди медяков и редких белых монеток лежит железный рубль. Поднимает голову и видит перед собой хмельное лицо.
– Чё, бабка, думаешь, все жмоты? – толстяк, покачиваясь ванькой-встанькой, копался в кармане полушубка. Вытащил рублевую бумажку и тоже бросил в кружку: – Сегодня, бабка, праздник, Рождество. Гуляй!
"Рождество! Хор мальчиков, как это я забыла, – думает она. – Ах, добрый толстяк! Все толстяки добрые, особенно пьяные. Тогда они совсем глупы и порой даже не могут отличить старуху от молодой. В прошлом году один пьяный толстяк предложил ей за целых десять рублей…» Её забавляет это воспоминание, она смеётся провалившимся ртом, но захлёбывается, и смех переходит в гнусавый, с хрипотцой, кашель.
2.
После тёмного перехода белый снег резко ослепляет, и старуха какое-то время стоит, прикрыв ладонью глаза. Потом достаёт платочек с завязанными в него рублями и горстью мелочи, ещё раз все пересчитывает, удовлетворенно качает головой и идёт дальше.
Снегопад закончился. По небу плывут грязно-серые клочья туч, между которыми иногда проглядывает низкое зимнее солнце. Густым, пышным снегом завалило весь город. И кажется, что на крыши домов, машин, на кроны деревьев нахлобучены громадные белые шапки.
На крыльце винного магазина колышется черная, взъерошенная толпа. Старуха, не обращая внимания на её гвалт, привычным движением ноги открывает дверь подсобки. Приняв из рук знакомого грузчика бутылку, она заботливо укладывает ее на дно холщовой сумки.
Вечереет. Небо почти очистилось, из его бездонной сини на земле льется мороз. Линда спешит к Старому рынку. Там, в заброшенной, но сухой пристройке, которая постоянно подогревается вытяжной вентиляцией павильона "Национальные блюда", нашла себе пристанище.
Скользко. Люди уже утоптали снег, и он покрылся коркой льда. Второпях старуха оступилась и упала навзничь, сильно ударившись правым боком о камень бордюра. Вздыхая и охая от резкой боли, она поднимается и подтягивает к себе отлетевшую сумку. Под сумкой на снегу красное пятно. Старуха испуганно хватается за бок. Но, кажется, он в порядке. Тогда она начинает рыться в сумке.
Её крик оглашает улицу. Прохожие от неожиданности оборачиваются и видят посредине тротуара на коленях бродяжку, прижимающую к груди разбитую бутылку и голосящую, словно хоронит родное дитя. С бутылкой разбилась и её надежда на несколько часов забвения, которое приносит вино. Теперь ночью в грязном, заброшенном углу встретят её бессонница и мучительное ожидание нового дня. Бормоча посиневшими губами невнятное, мелкими шажками, обессиленная, она бредёт к себе.
Дверь поддаётся с трудом. Её встречает чернильная тишина. Она уже собирается улечься на сваленное в угол тряпье, как вдруг ловит чей-то затаенный взгляд. Старуха испуганно отскакивает в сторону, сильно ударяется головой о низкую притолоку, падает, в голове шумит, чужие глаза к ней приближаются.
– Русалочка, ты что ль? Приплыла, не захлебнулась еще?
Молодая сильная рука за ворот шубы легко отрывает её от пола, и старуха видит перед собой безобразную Зинку-толстую, которая за пять рублей обслуживает на рынке торговцев с юга.
Молодуха, раскрывая широко рот с толстым, как у обезьян, надгубьем, дышит ей в лицо луком и кислым пивом.
– Когда сдохнешь, старая?
Старуха пытается вывернуться, но хватка на «загривке» крепкая. Тогда она жалобно просит:
– Зиночка, я ночую здесь уже месяц. Пусти меня, Зиночка. Это моё место.
– Чё ты сказала? Твое место?! – захохотала та, сотрясая вместе с собой Русалочку. Потом сложила левой рукой кукиш и ткнула его старухе. – Вот тебе! Ты чё, купила его? Я покажу твое место…
Она волоком подтащила старуху к дверям, распахнула их и пнула старую бродяжку.
Русалочка повалилась на грязный, затоптанный снег. Стала шарить вокруг себя рукой. Но сумки не было. Она встала и подошла к дверям.
– Зина, отдай сумку.
Дверь не отворялась. За нею только хихиканье Зинки-толстой и жиденький мужской басок.
Старуха прислонилась к стене и тихо заплакала.
"Не зря во сне падала звезда, не зря, – думает она. – Видимо, отжила свое".
А ночь надвигается по-зимнему рано. Старуха напряженно всматривается в темноту своими рыбьими глазами. Темнота сегодня её непривычно пугает. Она часто крестится и, как многие, когда им плохо, шепчет сухими, обветренными губами имя Христа. Мороз все усиливается. Она плотнее кутается в свои одежки, затягивает крепче концы шали и идет искать приют.
3.
Город окутан темно-синей ночью. На улицах горят редкие фонари, и из-за сильного мороза над ними висят светлые столбы, которые уходят высоко вверх и, кажется, касаются громадины апельсиновой луны, словно приклеенной к черному горизонту.
Все известные Русалочке места для ночлега заняты. Покружив по городу, она устало падает на заснеженную скамейку, стоящую на безлюдной автобусной остановке. Стужа одолевает её. Она поджимает под себя ноги, соединяет рукава, съеживается и становится похожей на нахохлившегося от холода воробья. Но так долго сидеть невозможно. В правом боку, которым ударилась, что-то словно лопается. Старуха охает, валится на скамейку боком и зажмуривается с мыслью, что умирает. Проходит несколько минут, внезапно поднявшийся ветер бросает ей в лицо пригоршню снега. Она открывает глаза и напротив видит всё тот же заваленный снегом городской сквер и молочный свет фонаря, освещающего остановку. А боль в боку то утихает, то вновь усиливается.
В её окоченевшем сознании теплится единственное: "Куда идти?" Вдруг она вспоминает, что можно проехать в приемник-распределитель для бродяг и самой сдаться милиции. "Что с того, что на время потеряю свободу, – вяло думает она. – Зато сейчас там тепло и дадут горячего". Мысль о теплом помещении волнует её. Старуха через силу поднимается и садится в автобус. Выходит она на городской окраине. На неё сразу же голодным зверем набрасывается ледяной, колючий ветер. Кажется, что он проникает сквозь каждую ниточку одежды, отнимая последнее тепло у старого хилого тела. Идти ей почти два километра, и всё на ветер, степью. Она прикрывает ладонью лицо, но, не видя дороги, спотыкается и падает. Встаёт и, нагнувшись вперед, медленно бредёт, проваливаясь в снежные наносы. Временами силы совсем оставляют её. Она отворачивается от ветра, чтобы перевести дыхание. Видит перед собой мерцающие вдали огни города. Они манят к себе. Но там она никому не нужна. И бродяжка снова идет к теплу и горячей похлебке, до которых уже недалеко, которые должны быть там, за чернеющей в снегу карагачевой рощицей.
А вьюга всё злее и напористей. Снежные змейки поземки обвиваются вокруг ног старухи, лезут ей в лицо; резкий порыв ветра сбивает с головы шаль, и на морозе полощутся жиденькие седые волосенки. Старуха останавливается в изнеможении, старается натянуть шаль на голову, но ветер не дает, и она сначала приседает на корточки, а потом совсем садится в снег. Поправляет шаль, силится встать, но тело не слушается. Вновь начинает болеть бок. Она решает немного передохнуть, чтобы набраться сил.
Старуха отворачивается от ветра, пытается ладонью растереть нос и щеки, которых совсем не чувствует. Сидеть хорошо. От усталости слипаются веки. Через пять минут ей уже становится теплее. Теплом наливаются пальцы рук и ног, потом всё тело. Жарко. Она уже неосознанно развязывает концы шали, сбрасывает с плеч шубу. Сладкая зевота растягивает её губы. Очень хочется хотя бы немного поспать, и она медленно валится в снег… Сон приходит к ней сразу. Она снова видит зеленый луг за рекой, стайку лип и за ними, красные стены сельского костела, из окон которого слышны звуки торжественной Рождественской литургии… Вторя им, метель в ветках близких кустов карагача слагает свою грустную мелодию и наметает растущий на глазах снежный холмик на том месте, где спит старая попрошайка.
ОВЦЫ И ЛЮДИ
(рассказ)
1.
Есть в одном из глухих, забытых властью и богом, уголков российской Прибалтики – прошлом Восточной Пруссии – село Подъёлки. Там и случилось то, о чем до сих пор вспоминают и говорят местные, и не только.
В Подъёлках всего-то три двора, расположенных по одной прямой через примерно сотню метров; каждый в прошлом был самостоятельной усадьбой с домом довоенной постройки из красного кирпича, под красную черепичную крышу, и такими же капитальными хозяйственными строениями. Человеческие руки очень редко или совсем не прикладывались к ним последние десятилетия, чтобы поддерживать всё это в должном виде. Поэтому дома и сараи имеют жалкий вид: крыши провалились из-за того, что черепица не перебиралась и, как следствие, просели сопревшие стропила; только стены, сложенные из хорошего кирпича под шов, по-прежнему выглядят внушительно и добротно. За поселком в прошлом действительно был еловый бор, поэтому кто-то недолго утруждал себя подысканием нового названия к бывшему прусскому поселению, и удачно дополнил топонимику местности таким красивым названием: «Подъёлки». Но еловый бор давно и бесхозяйственно вырубили; теперь всё это пространство занимает подлесок из сорных деревьев и кустов – осины, мелкого березняка и боярышника, – польза от которых только в том, что их местные без конца рубят на дрова, а подлесок довольно быстро восстанавливается, да еще в нём много грибов, – любимого развлечения приезжающих сюда по выходным горожан.
В Подъёлках ранней весной поселился новый житель – Василий Мокшин, человек немногословный, шестидесяти лет, из отставных мичманов. Лицо у него было самое простое, даже немного грубое, и всегда красное, как обветренное, но запоминалось глазами, на первый взгляд тоже обыкновенными, с серым райком, однако каким-то неуловимым следом усталости, поэтому, добрыми и приветливыми. Сам он был невысок ростом, но телом ещё очень крепок, и с большими увесистыми кулаками; на земле стоял, как многие моряки, всегда чуть расставив ноги, и это вызывало у посторонних невольно уважение и даже опасение. Он был давно один, разведясь с женой, не дождавшейся его из долгого похода, много лет назад. С тех пор не рискнул больше жениться, полагая, что из этого ничего путного, если не получилось сразу, – не получится; в этом его убеждала и каждая женщина, из бывших у него потом. Ни одна из них не стала родной и близкой, а рано или поздно становились для него такими же чужими, как любой посторонний человек, например, в городском трамвае. Детей у него не было, и, как для большинства таких мужчин, одиночество было самым трудным испытанием в жизни. Он стал считать себя человеком несчастным, справедливо как-то заметив, что счастье не в деньгах или славе, а такой простой вещи – когда тебя кто-то ждет. Мокшин мучительно и долго переживал своё одиночество, иногда ему казалось, что он уже свыкся с ним, но наступали часы, дни и ночи, когда оно терзало его душу такими невозможными страданиями, как при тяжелом физическом недуге, что он не знал, чем заняться, куда податься. Днем он не мог дождаться, когда настанет вечер, он уснет, и так пройдет ночь; но наступала ночь и бессонница, и он теперь уже нетерпеливо ждал утра, чтобы быстрее встать, и что-то делать, чем-то заняться; и весь мир из-за этого казался ему бесконечной пыточной камерой, так что порой даже не хотелось жить.
Именно в такое мгновение, когда он вышел на пенсию, и осел бобылем в однокомнатной городской квартирке, к нему пришло необычное решение – продать её, уехать из города, который ещё больше усиливал чувство одиночества, и поселиться ближе к природе. Это означало для него самое главное: хотя бы какую-то деятельность, хлопоты на ближайшее будущее. Он продал квартиру и выкупил в одном из коммерческих банков закладную, под которую некий селянин по фамилии Урбан из Подъёлок, заложил под денежный кредит половину дома, да так и не расплатился; банк был вынужден продать эту половину дома.
Первый раз Мокшин увидел дом зимой, тогда его крыша была покрыта слоем пушистого инея, вокруг стояли такие же белые деревья, контрастировавшие с ярко голубым морозным небом и натоптанными местными жителями сизыми паутинками тропинок. Дом ему показался величественным, похожим на сказочный терем. Теперь, в конце марта, месяце распутицы и хлябей небесных, когда Мокшин приехал в Подъёлки на изрядно поношенном «Форде» с разной домашней утварью, дом в густой и сырой пелене тумана уже не был сказочным, напротив, казался мрачным сооружением, какие любят показывать в фильмах-ужасов. Ощущение мрачности картины дополняли своим гортанным протяжным карканьем несколько ворон, раскачивавшихся на мокрых ветвях ясеней.
Мокшина это не смутило. Первым делом он громко хлопнул в ладоши, вызвав звук, похожий на выстрел; вороны тут же снялись с веток и, перестав горланить, перелетели на крыши соседних домов. «Так-то вот, – подумал Мокшин, – вместо вас заведу петухов». Он стал носить из машины в дом вещи, и за целый час рядом не появилось ни души, лишь мельком видел за занавесками окна второй половины дома, где, знал, живут старик со старухой, их любопытные лица. Мокшин съездил в город ещё раз, и ещё, и на машине и небольшом прицепе перевез всё свое нехитрое имущество, которое заранее приготовил в узлах, мешках, или упаковках разобранной по частям мебели.
Началась его новая жизнь. С утра до вечера в течение недели он мыл две комнаты и кухню, переклеивал обои, сдирал старую краску и красил заново окна и двери, – создавая жилой дух в доме, уповая на то, что это временное улучшение, только начало, а летом примется и за подвал, и крышу, и двор капитально. За эту же неделю он узнал и остальных жителей села. Своих соседей по дому старика и старуху Новиковых. Живущих в доме слева от его дома многодетную семью тракториста по фамилии Сирота. Живущих в доме справа от его дома в первой половине немолодую вдову Валю Мишину, во второй половине Михаила Сторожева – пожилого и тоже одинокого, работавшего ветеринаром в центральном селе Красное, что лежало в двух километрах от Подъёлок.
В первых числах апреля низкие облака разогнал сухой южный ветер. Потеплело. Вышло долгожданное солнце, и под его яркими лучами неказистые Подъёлки снова похорошели, словно их кто-то подновил.
Мокшин, соскучившийся по общению с людьми, простой и добрейший человек, которого его долгое одиночество не сделало эгоистом, для которого большой радостью было всегда помочь кому-то и поделиться с кем-то – качество ныне редкое в людях – решил, что в деревне не должен жить нелюдимо, а первым делом познакомиться с соседями, поэтому в субботу пригласил их на обед. У него в доме не хватало места усадить всех рядом, и он сколотил из досок две лавки, стол, накрыл его прямо на улице.
Первыми пришли Павел и Вера Сироты, вежливо поздоровались с Мокшиным и осторожно присели на краю лавки. Павел был в спортивных брюках и футболке с короткими рукавами; Вера в простом ситцевом платье и кофточке, поверх головы у нее был повязан узлом на затылок, платок. По ним было видно, что они не так часто бывают в званых гостях, больше привычны к простому, без условностей этикета, быту; обстановка для них была в новизну, заметно чувствовали себя неуверенно. Это быстро проявилось, когда за стол сели старики Новиковы, и Вера, глянув на них, на заставленный закусками стол, непринужденно и наивно развела руками и сказала:
– Чудно как-то всё это! – Быстро спохватилась, что обронила какое-то неправильное слово, обернулась к Мокшину: – Я хотела сказать, что у нас в Подъёлках такого сроду не было так вот накрыть стол. Ей богу! – Почему-то при этом перекрестилась.
– Вот и напрасно, – сказал Мокшин. «Набожная что ли?» – подумал он. – Это в городе живут по клеткам и, прожив десяток лет в одном подъезде, не знают, кто над ними или под ними ещё в доме. В деревне, я так всегда считал, всё должно быть иначе.
Их прервали появившиеся, словно сговорившись, Мишина, одетая во всё черное, и Сторожев тоже в черном костюме и ярко красном галстуке.
– Все в сборе, – сказал Мокшин, поднявшись с места. За ним поднялись остальные. – Да вы сидите, – жестом указал он. – Я с удовольствием пригласил вас, чтобы немного отметить мое появление в Подъёлках, познакомиться. Меня, вы знаете, зовут Василий, для кого-то Василий Васильевич. Больше тридцати лет ходил в море, начинал на гражданском флоте рыбаком, потом служил на военном, как видите, – он жестом провел по трем юбилейным медалям и военно-морскому знаку с Андреевским флагом, прикрепленным к черному кителю, который одел по такому случаю. – Обычно у людей бывает наоборот, а у меня так вот получилось… Одним словом, всю жизнь отдал морю. Мне порой говорят: романтичная у вас была работа. Неправда. В жару море – это отупляющее голову скучное пространство, а корабль, как нагретый утюг. В непогоду море – сущая преисподняя. Романтика для бездельников и дураков. Человек не рыба, должен жить на земле, а в воде рыбы пусть и живут… – Он закашлялся от волнения. – Ну, да ладно, в горле сухо, наливаем, дорогие гости! Но всё одно, по давнишней традиции, сначала за тех, кто в море, им очень трудно.
– Верно, – сказал Новиков, – даже лекторам ставят стакан с водой. Глянь, какая! – он кивнул в сторону большой бутылки-графина с водкой, и было видно, что он уже давно смотрит и думает только о ней. – Такой никогда не пробовал.
– Чем рад, – сказал Мокшин. – Стал сам обносить гостей бутылкой, и никто, кроме вдовы, попросившей вина, не отказался.
– Она хотя бы и горькая, но не травит, как вино, – сказал тракторист, опуская на столешницу гранённый стаканчик. – Взять к примеру мой трактор,– продолжал он, – влей в него плохую или разбавленную водой солярку, разумеется, не пойдет, ему нужна энергия. Так и человеку… – многозначительно закончил он.
– Но в вине, я слушал однажды передачу, говорили, что есть витамины, – поддержал тему ветеринар.
– Именно, говорили! – передразнил его старик. – Ты сиди больше при своем телевизоре, – совсем оглупеешь! Вот Василич, сразу видно, бывалый человек, поставил пол-литра красненькой, зато сразу и полтора белой. Давай ка, Василич, теперь за тех, кто на суше…
Мокшин снова всех обнёс. Стопки он выставил граненые, на сто грамм, наливал их до верху. Выпили сразу, и между сидевшими за столом вскоре появилась почти осязаемое единение, которое словно невидимой нитью связало их, сделало откровенными, будто они на самом деле в этом временном сближении за спиртным пытаются доискаться до какой-то истины. Гости застучали вилками, кто-то ножами, предупредительно разложенными Мокшиным у приборов. Приготовленные им нехитрые закуски из нарезки сыра и колбас, мясных и овощных салатов, какими не часто баловались жители Подъёлок, стали тоже общей для всех темой. Соседи не скрывали восторгов и благодарности хозяину за угощение. Возник даже небольшой спор, когда к Сироте под руку засунула морду пришедшая вслед за нею из дому собака. Сидевшая рядом вдова больно ткнула собаку в бок и сказала:
– Ещё чего! Тебя только не хватало?
Собака взвизгнула, отбежала в сторону и, тяжело вздохнув, легла, опустив голову на накрест сложенные лапы, уставившись на подвыпивших людей трезвыми глазами.
Мокшин взял кружок колбасы, подозвал её к себе. Та подошла и ловко сняла с его большой ладони колбасу, дружелюбно завиляла хвостом.
– Лады Василич, – сказал старик Новиков. – Она хотя бы и сука, а видишь – ласковая! Тоже любит уважение.
– Как же ей не ластиться, если колбасой кормят, – вставила сердито вдова. – Небось сроду колбасы не видела…
– А ты не обобщай, – обиженно сказала Вера Сирота. – Больно твоя псина что-то видит…
– Колбасы на всех хватит, – дружелюбно улыбнулся Мокшин, – ещё есть, нарежу. А вот скажите, кроме собак и кошек, я другой живности не видел.
– Держали в своё время и скотинку, – сказала старуха Новикова. – Коровка была, и свиньи, даже лошадь. А теперь сил нет, да как-то и ни к чему. К примеру, мы с дедом молоко не пьем, как выпьешь, почему-то понос, есть мясо нет зубов… Старость, думаю. – Она посмотрела в сторону мужа, добавила улыбнувшись: – А у деда моего есть петух. Все хочу его на бульон пустить, не разрешает.
Старик, сгорбившийся за столом, услышав про петуха, сам, как птица, проснувшаяся на насесте, резко приподнялся и обвел всех горделивым взглядом.
– И не дам, он заслуженный!
– Это чем же? – спросил Мокшин.
– До тебя здесь жил Урбан Мишка, – сказала старуха. – Лихой человек. Вот и твою квартиру, почитай, пропил да промотал невесть как. Не сказать, что так уж сильно пьёт, не больше других, но весь с какой-то гнильцой в душе, главное, нечист на руки. Но, леший, никогда ведь не попадался. А тут случилась такая история два года назад, осенью. Петух, как любая птица, любил не просто пить из ведра, которое я всегда ставила курам у ледника, в конце сада, а вскакивать на край; случалось не раз, что ведро бывало пустым, опрокидывалось и его накрывало, а всё одно глупый, али любопытный, вскакивает на край ведра, чтобы заглянуть в него. Так, видимо, было и в то утро. В вечера ведро забыла наполнить, лёгкое, оно опрокинулось и накрыло птицу. А в это время в ледник, который мы не всегда закрываем, залез Урбан. Набрал в мешок банок с моими заготовками, и шёл, конечно же, осторожно, крадясь. В тот момент у него на пути и зашевелись ведро… Урбан с испугу так сиганул в сторону, что упал и сломал ногу. Его старик и застал стонущим среди разбросанных банок… Наш участковый благодарил потом нас, а Урбана даже судили, но не посадили, отделался штрафом… Теперь вроде как поумнел, говорят, дома у него нет больше, живет и работает при церкви в Красном.
– Его и наш батюшка, отец Серафим даже уважает, – сказала Вера Сирота. – Кто же не знает, что к Мише Урбану снисходила особая благодать… Вы об этом слышали? – обратилась к Мокшину. – Даже по телевизору показывали, что у его курицы были особые, небесного цвета яйца.
– Не слышал, – сказал Мокшин.
– Ну как же! Прошлой осенью курица, что жила в сторожке Урбана, вдруг снесла голубое яйцо. Батюшка сказал, что это особый знак. Яйцо всем показывали, приезжали с телевидения, снимали специальное кино про курочку и её голубые яйца. Красивая была курочка.
– Почему была?
– Отчего-то померла через месяц, но снесла она примерно с десяток таких яиц. Из города приезжали богатые люди, Урбан им продавал каждое по тысяче рублей. Сама видела, когда приходила мыть полы при церкви, я там тоже работаю, прибираюсь. Люди говорили потом, что яйца те целебные, от самых тяжелых хворей излечивали.
Гости снова выпили. Водка уже действовала на людей, они становились всё веселей и разговорчивее.
– Тетя Катя, – повернулся Сирота к старухе Новиковой, – вы тут всё про петуха так хорошо сказали, а ведь у нас с Верой тоже есть какая-никакая живность – Яков, забыли, что ль?
– Это кто? – спросил Мокшин.
– Козел. – ответил Сирота.
– Здорово! – сказал Мокшин.
– И коза у вас есть?
– А пошто ему жена! – засмеялся Сирота. – Козел он и есть козел, к тому же выложенный.
– Как это? – переспросил Мокшин.
– Сразу видно, городской ты человек. Это означает, что кастрированный. Мне этим козликом вместо денег за распашку огорода было дело расплатились. Решили с Верой, что подержим козлика на мясо, поэтому Сторожев и выложил ему, значит, все, козлятина после этого нежнее и вкуснее бывает. Сначала дети Яшкой забавлялись, вырос он, считай, вместе с младшенькой, стал у нас вроде члена семьи. Как после этого его забивать? Так и живет у нас уже четыре года. А хошь, приведу его прямо сейчас?
Не дождавшись ответа Мокшина, Сирота встал и неровной походкой пошел в сторону своего дома. Не прошло и пяти минут, как он привел на верёвке упиравшегося, напуганного большим количеством народа, козла. Сирота сел на край лавки, поставил рядом козла, продолжая держать веревку.
– Вот Василич, ещё тебе гость! – он погладил свободной рукой козла. – Добрейший, скажу тебе, козёл. Правда, Яша?
– Животина серо-белой масти с сильно загнутыми, но небольшими рогами, в ответ промолчала, облизнув сиреневым языком тонкие козлиные губы, и настороженно взирала выпученными глазами на пьяных людей.
Мокшин с любопытством разглядывал Яшку, который одним своим присутствием забавлял толпу, и спросил:
– Чем его можно угостить?
– Разумеется ста граммами, – сказал Сирота. Засмеялся. – Угостить можно всегда. Кто не любит угощения?
– Конфетой?
– Да что ты, Василий Васильевич, – сказала Новикова. – Он же не собака. Самое любимое у коз и овец – кусочек хлеба, ещё лучше, если хлебушек потерт солью.
Мокшин взял кусок ржаного хлеба, посыпал соли и протянул козлу. Тот сначала отвернулся, потом резко вырвал у него из рук хлеб и стал жевать, медленно двигая челюстями.
– Подумать только! – сказал Мокшин. – Какое приятное создание. Вот спасибо, – он обратился к Сироте, – вы сильно, скажу вам, подняли мне настроение. Если можно, я буду иногда кормить Яшку хлебом.
– Отчего нет. Он будет всегда рад.
– А сейчас, дорогие соседи, – сказал Мокшин, – от меня небольшие подарки. Они незамысловатые, но всегда сгодятся. – С этими словами он ушел в дом и скоро вышел, неся большую картонную коробку. Поставил её на стол и вытащил из неё две стопки: вафельные белые полотенца и тельняшки с трусами.
– По паре полотенец для женщин, а по тельняшке с трусами мужчинам. – Он заулыбался, видя удивленные лица соседей. – Трусы, сами понимаете, – усмехнулся, – не простые, а военно-морские, таких сейчас ни в одном магазине не купить… А если серьезно, добра у меня этого не мало. Мне вовек не сносить. Но всё получено по закону, этим добром со мной расплатились вместо денежного довольствия, когда увольнялся. Так что пользуйтесь на здоровье.
Люди, мало видящие радости в своей нелегкой сельской жизни, растроганные таким вниманием чужого человека, жали Мокшину по очереди руку, старик Новиков его даже обнял, а вдова прослезилась… Для них всех продолжался ставший неожиданно таким приятным обычный апрельский день.
Через месяц, на майских праздниках, Мокшин копал грядки за домом. Густо проросшая кореньями пырея, дикого клевера и одуванчика земля, давно не поднимавшаяся под лопату, давалась с трудом. Непривычный к такой работе, он даже немного устал и собирался пойти в дом отдохнуть и попить чаю, как его окликнули: «Хозяин!»
Мокшин обернулся. За штакетником забора стоял высокий, с болезненной худобой мужчина. Неестественным на фоне этой худобы выглядело его полное из-за отечности и пастозное, как у алкоголиков, лицо.
– Слушаю, – сказал Мокшин, и подошел к незнакомому человеку.
– Я Урбан Михаил, – представился незнакомец. – Раньше здесь жил.
Мокшин тоже назвался и пригласил Урбана войти. Тот зашагал прихрамывающей походкой. На вопросительный взгляд Мокшина, махнул рукой и сказал, что травма давнишняя, связана со спортом, лыжами, которыми когда-то занимался. «Наслышан, что за лыжи», – подумал Мокшин. Урбан, войдя в дом, усевшись на свободный стул, жадно осмотрелся, обнаруживая живой интерес к когда-то собственным стенам. В его глазах было видно удивление от увиденного, но он старался его скрыть и с подчеркнутым великодушием, стремясь одновременно угодить, сказал:
– Видно хозяина! Но, скажу тебе, благодаря и мне, моим большим трудам многие годы, – он поднял правую руку и многозначительно покачал указательным пальцем, – у тебя теперь всё это есть!
– Спасибо, – вежливо ответил Мокшин. – Я что-то, может быть, должен?
– Ну, нет! Это я так, между прочим, – но Урбан тут же задумался. – Хотя, если серьезно, конечно, я бы свою половину продал дороже тех денег, что получил в банке с кредита. Жулики! Вот кто они. Обобрали честного человека… Бог им судья… Но тебя это не касается… Ты, Василий, как хороший человек, о тебе отзываются у нас очень положительно, – если бы немного заплатил мне, я был бы не против. Сам понимаешь, жизнь стала очень трудная, лишней копейка не бывает. Опять же, между прочим, там за сараем гора дорожного булыжника. Хватит на основание всего забора, если захочешь новый поставить. А этот камень, между прочим, в стоимость дома не входил. Его я добывал вот этими трудовыми руками, – он протянул вперед руки, худые – кожа да кости – с тонкими, в подагрических узлах, пальцами, совсем не похожими на рабочие. – Урбан закашлялся и закончил: – Давай три тысячи и все лады!
В разговоре Урбан, при своей велеречивости, ни разу прямо не посмотрел на Мокшина; прятал взгляд, устремляя его куда-то в сторону, словно боялся, что тот через глаза увидит его чёрную душу человека мелочного, жадного и нечистого на руки.
Мокшин не стал возражать, допуская, что Урбан по-своему прав, когда считал себя потерпевшим; его было даже немного жаль, к тому же булыжник на самом деле не значился в договоре купли дома у банка. Он молча в присутствии Урбана подошел к старенькому – не раз подправленному лаком для придания свежести – комоду, и из верхнего ящика достал шесть пятисотенных купюр, отдал деньги. Урбан взял их осторожно, засунул в боковой, засаленный карман куртки.
– Сильно благодарен. Ты знаешь, работы нормальной нет, сейчас сижу сторожем при церкви в Красном. Денег платят мало, считай больше за кормежку тружусь, и та в основном постная. Но с попами сильно не поспоришь. «Такова воля божья!» – обычно только и слышу по десять раз на день по каждому поводу-случаю… Но ты, Василий Васильевич, молодец. Сегодня хороша «божья воля», сам Бог меня к тебе привёл… Не грех бы и отметить, – он забегал глазами по сторонам. – Жаль магазин далеко…
– Хочешь выпить? – сказал Мокшин. – Могу организовать по рюмке.
С этими словами он вышел на кухню, вернулся через пять минут с нераспечатанным шкаликом водки и тарелкой с нарезанным крупными ломтями розовым салом и черным хлебом.
– Михаил, а что, действительно у тебя была курица, несшая голубые яйца?
Урбан первый раз за всё время, но хитро, посмотрел на собеседника, и сказал:
– И ты поверил? Ты же бывалый моряк, или тоже такой же простак, как Сирота. Ей то простительно – тёмная, как погреб. Ох, будь он не ладен. – Урбан помял больную ногу. – Но ты, должен знать, что чудеса бывают только в сказках, да поповских баснях.
– Но как же, Вера Сирота рассказывала, и все видели.
– Ладно, наливай, так уж и быть, тебе скажу правду. Когда нет денег, что не удумаешь. Вот и придумал. Купил хорошую несушку. Стал ей в комбикорм примешивать медный купорос с мелом, любит, известное дело, птица известняк Вначале яйца были как бы слегка с голубизной, а потом сильнее. Как появилось хорошо поголубевшее яйцо, я его и понёс попу Серафиму. А тому, видимо, только того и надо было. Историю о чуде разнесли корреспонденты с телевидения, которые, сам знаешь, до сенсаций также падки, как мухи до говна… Но мне то, что? И мне этого только и надо было, как попу, только у него одно на уме, а у меня другое, чтобы те же яйца покупали дураки. Их хоть пруд пруди: народ не умнеет ничуть, всё продолжает верить в чудеса… Так продолжалось пока не сдохла моя курочка… И как тут не сдохнуть, – столько отравы, корма с медным купоросом, склевать, медные пятаки нести начнешь не только голубые яйца… А что делать? Не обманешь – не проживёшь. Это ведь лозунг не только торгашей, но теперь всей нашей жизни.
Мокшин смотрел на него очумелыми от удивления глазами. Он первый раз видел перед собой мошенника, который не стесняясь, за одну только веру обирал людей, рассказывая об этом ещё и гордился каким-то особенным цинизмом.
Они посидели ещё с полчаса, которые больше говорил Урбан, не забывавший быстро поедать сытную закуску, и разошлись.
2.
К середине мая, который благоприятствовал погодой, Мокшин закончил основные огородные работы. А вскоре ведро сменилось ненастьем: зарядил скучный дождь; моросящая серая влага затянула не только небо, но все горизонты, давая ощущение нескончаемых сумерек. Мокшин по утрам, после крепкого чая, выходил на крылечко с навесом и, сидя на скамейке, курил папиросу, скучал, и вместе с табачным дымом вдыхал сырой, но теплый и очень вкусный деревенский воздух. В одну из таких минут к нему подсел Новиков, на котором была подаренная тельняшка, а поверх безрукавка из грубо выделанной овчины.
– Ясное дело, что нечего делать, – невольно скаламбурил он.
– И я о том же, – ответил Мокшин. – Хотя бы какую живность что ли завести: кошку или собаку, всё будет в доме веселей.
– Это всё не то, – сказал Новиков. – Ещё мой дед говаривал: «В квартирах собак и кошек держат либо дураки, либо лодыри…» Собака должна охранять и жить во дворе, а кошка ловить мышей в хлеву. Ты заведи себе что-то, может быть, и хлопотное, зато полезное.
– Например?
– А хотя бы ту же овцу для начала. Поговори со Сторожевым, он тебе присмотрит. Главное – начать, там, глядишь, и стадом обзаведешься, а это и мясо, и шерсть, и шкура, – Новиков демонстративно подергал себя за полы безрукавки.
Мокшин после этого разговора целый день думал о предложении соседа. Оно ему казалось поначалу даже не столько нереальным, как смешным, потому что никогда не имел дело со скотиной, и совершенно себе не представлял, как ходить за животными. Потом решил, что живёт в деревне, как сам и хотел, и отчего бы не завести именно овцу. Он на следующий день сходил к Сторожеву, рассказал о своем деле. Тот его поддержал, даже похвалил, и обещал на днях помочь.
Была суббота, мелкий дождь прекратился, небо ещё оставалось в низких облаках, но сквозь них уже светило солнце, и в воздухе высоко летали ласточки и стрижи, предвещая хорошую погоду.
У дома Мокшина остановился грузовой микроавтобус, из него вышли Сторожев и водитель. Последний открыл заднюю дверцу, Сторожев аккуратно, на обе руки, взял забившуюся в угол кузова овцу с веревкой на шее, выставил её на землю. Из дому вышел Мокшин, подошли старики Новиковы. Овца, увидев сразу столько народу, с испугу даже не дернулась, не заблеяла, а присела на зад, уставившись на людей недоверчивыми овечьими глазами, полными первобытного страха перед человеком.
Сторожев передал конец веревки Мокшину.
– Держи! Хороша овечка, молоденькая, приобрел для тебя на одном хуторе, там давно разводят эту красивую романовскую породу. А вот ещё погляди, овечка то стельная, – он погладил слегка надутые бока овцы. – Совсем уже скоро ягнится. С тебя и только для тебя по очень малой цене – пятьсот рублей.
Мокшин продолжал в растерянности держать веревку. На просьбу ветеринара машинально двинулся домой за деньгами, потащил за собой овцу. Та рванула в сторону, упала, уперлась копытцами в землю, и протяжно и громко заблеяла. У него веревку перехватила старуха Новикова и сказала, что подержит овцу, всё ему популярно объяснит, что делать, чем кормить, поить и как ухаживать. Мокшин, взволнованный, пошёл в дом за деньгами. Он выдвинул из комода верхний ящик и взял в руки стопку денег. Это была его пенсия, которую неделю назад приносила почтальон. Всего было восемь тысяч рублей купюрами по пятьсот. Он отложил в сторону пятисотенную купюру и как-то машинально пересчитал остальные деньги. Сумма не сошлась. За это время три тысячи отдал Урбану, пятьсот потратил на продукты, с расходами за овцу должно было оставаться четыре тысячи рублей, то есть восемь купюр. Было их почему-то шесть. Он снова проверил деньги. Сомнений не было: оставалось их три тысячи вместо четырех. Мокшин задумался, что, может быть, недодала местная почтальонша? Он ведь никогда не пересчитывал, по своей доброте и простоте, привык доверять людям… Вдруг его прошиб холодный пот… Он даже вытер ладони о штанины… Мокшина осенило: две купюры по пятьсот рублей украл Урбан, когда он выходил, чтобы гостю принести угощение… На улицу Мокшин вышел с заметно побледневшим лицом. На короткое замечание Новиковой, объяснявшей его волнение по-своему: не надо так волноваться за овечку, все будет хорошо, – попытался улыбнуться и ответил, что это, наверное, давление.
Мокшин рассчитался со Сторожевым, потом пошел вслед за Новиковой и овцой в сарай за домом. Новикова по ходу стала ему объяснять нехитрые правила по уходу за животным.
Когда Новикова ушла, Мокшин всё никак не мог справиться с волнением из-за пропажи денег. За его непростую жизнь с ним такое случилось впервые. Он не знал, что делать в такой ситуации, но житейская мудрость подсказывала, что ничего и не сделает: «не пойманный – не вор». Чтобы отвлечься от назойливых мыслей, стал из жердей городить для овцы в сарае отдельный загон и в нём даже устроил подобие яслей для хранения сена, которое ещё нужно было накосить. Овца, привязанная к столбу, стояла не шелохнувшись, наблюдая за приготовлениями человека. Наконец, Мокшин словно вспомнил о ней, ушёл в дом и вернулся с пластмассовым ведерком воды, захотел поставить его ближе к животному, но овца, дернувшись в испуге, наступила ногой в ведро, перевернула его, и забилась подальше от Мокшина в дальний угол.
– Что за трусиха такая? – сказал он. Взял ведро, снова сходил в дом и теперь поставил его в стороне. Сам опять ушел.
Вернулся Мокшин с несколькими кусками хлеба, натертыми солью. Когда открыл дверь в сарай, увидел, что овца пьет, но та, услышав его, побежала в свой угол, остановилась и стала выжидающе смотреть на Мокшина.
– Это другое дело! – сказал он громко. – Ты, моя хорошая! Не стесняйся, пей, ешь, теперь я буду о тебе заботиться. Понимаешь?! – Он подошел ближе к овце и протянул ей кусок хлеба. Она уже не убегала, видимо, впрямь понимая, что теперь полностью зависит от этого человека; оставалась не месте. – Да ешь же! Ешь! Небось с утра никто тебя не кормил, – повторил несколько раз Мокшин. – Овца, и впрямь голодная, долго не заставила себя уговаривать, осторожно потянулась к его руке и взяла хлеб, сжевала его, и приняла и другой, и третий куски.
– Умница, – сказал Мокшин. – Будем дружить. Как же тебя называть? – Он задумался. Ни прежний опыт жизни, ни теперешнее положение сельского жителя, – ничего ему не подсказывало, какую кличку дать животному. В голову приходили одни человеческие имена. Он вспомнил, что старуха Новикова говорила, что призывать овец надо каким-то замысловатым словом или звуком «бась-бась». Мокшин произнес это вслух. Овца неожиданно встрепенулась и внимательно уставилась на Мокшина.
– О-о! Да никак в самом деле «бась-бась» что-то значит на твоем бараньем языке? А ты знаешь, я тебя так и буду окликать – Бася.
Овца, похоже, с ним согласилась.
Так у Мокшина, помимо работ по саду и огороде, домашних хлопот, капитального ремонта жилья, который он наметил на предстоящее лето, появилась ещё одна забота – овца Бася. И, пожалуй, из всех занятий он все больше и больше любил именно ходить за этим безобидным и тихим животным.
Утром рано Мокшин баловал овцу куском хлеба, потом поил, и уводил по выгону между домами в поле, ближе к подлеску. Там, выбирая каждый раз место с травой получше, навязывал её, забивая в землю стальной прут с ушком, и овца, оставаясь на длинной веревке, была предоставлена сама себе. Мокшин возвращался в сарай, убирал в загоне ночной помет, стелил свежую солому, и шёл работать по дому. Он еле дожидался обеденного времени, чтобы пойти к овце. Нес ей ведерко со свежей водой, кусочек хлеба. Это были минуты невозможной, кажется, сентиментальности. Ещё очень крепкий и сильный мужчина, которому за долгую жизнь не удалось излить кому-либо из людей накопившиеся нежность и ласку, которые посторонним было трудно разглядеть за его грубоватой наружностью, теперь трогательно и умилительно, как за малым ребенком, ухаживал за овцой. Пока она жевала хлеб, он осторожно перебирал и разглаживал её мелкие серые кольца шерсти, вытаскивая из них иногда колючки репейника; заглядывал в её влажные, кроткие и большие глаза, в которых отражались полевые цветы, облака, сам Мокшин. И в эти минуты он совсем не хотел ни о чем думать или что-то вспоминать, например, о прошлом, которое казалось ему далеким и каким-то не совсем его. Потом овца, насытившись, отходила в сторону, ложилась, поджав ноги; ей уже было тяжело из-за ещё больше округлившихся боков, дышала она всё труднее и чаще. Мокшин смотрел на неё заботливым взглядом и который раз про себя повторял когда-то услышанное: «шуба овечья, а душа человечья», замечая, как это правильно кем-то сказано, – в точности про его Басю.
Мокшин расстилал на траве принесенный с собой груботканый половичок и ложился на него навзничь, потягиваясь с хрустом в костях, и жмуря от удовольствия и солнца глаза. Он за всю жизнь столько не бывал на природе, не лежал на траве; и он наслаждался царившим вокруг покоем, и ему казалось, что именно так, наверное, должно быть в раю, если он в самом деле есть. И Мокшин временами даже засыпал в таком благостном состоянии и под стрекот кузнечиков, шум ветра в ближних осинах и березках, и очень-очень далекий, похожий на полет зеленой мушки, звук проходящего высоко в небе самолета.
В августе Бася окотилась двумя ягнятами. Детки были все в неё, такие же серые, с черными чулками повыше копытец и такими же черными хвостиками. Первые дни ягнята с овцой оставались в сарае. Забот прибавилось и у Мокшина, но это его ничуть не расстраивало, наоборот, он был с раннего утра до темноты, которая летом наступает поздно, весь в занятиях; два раза на день он успевал ещё и подкашивать для овцы свежей травы, которую приносил ей прямо в загон; увеличил овце и пайку хлеба, переживая: хватит ли у неё, такой молоденькой, сил выкармливать ягнят, которые, как ему казалось, просто приросли, как пиявки, не давая ей ни отдыху, ни продыху, жадно опустошая её маленькое бархатное вымя. Но уже через неделю овечья семья по настоянию Новиковой отправилась в поле. И, удивительное дело, вслед за ними стал ходить и пастись рядом, до этого бесцельно слонявшийся по Подъёлкам козел Яшка. Никто не знает и не скажет, что думает, способно ли вообще думать это копытное, отличающееся особой строптивостью и своенравностью. Но, видимо, ему тоже надоела одинокая жизнь. Если овца по-прежнему оставалась на привязи, то козел был свободен от ошейника, однако никуда не уходил, бродя или отлеживаясь неподалеку от овцы и ягнят. А когда в их сторону направлялась какая-то из местных собак, козел вскакивал, как на пружине, бодливо опускал рога и бросался отчаянно на незваных пришельцев, гоня прочь от этого места.
– Стадность это у них, как у людей потребность в семье! – сказал по этому поводу ветеринар Сторожев, сидя субботним днем в гостях у Мокшина, который его пригласил осмотреть ягнят и овцу, которыми остался очень доволен.
Мокшин, накрывший на радостях гостеприимно стол, и оказавшийся тут же неизменный сосед Новиков, сидели за «беленькой».
– Какая семья? – Сторожева решил поправить Новиков. – Яшка то, сам знаешь… даже как козел неполноценный.
На что ветеринар ответил:
– Ну и что? У тебя, конечно, есть старуха, ты уже привык, что у тебя она есть, не одинок. А я вот знаю, и Василий знает, как трудно быть всегда одному. Взять опять же меня. Нет у меня семьи, но через стенку живет вдова Мишина, думаю, что самая скверная по характеру на свете женщина. А мне всё равно легче от того уже, что она тоже живая душа, и поговорить с нею могу, даже по-соседски поругаться… – Он задумался, налил себе полстаканчика и выпил. – Ты, старик, знаешь, были такие люди – евнухи. Это были тоже очень одинокие люди, как и наш козел Яшка, но не было более преданных и заботливых слуг, чем они… Поэтому могу ещё раз утвердительно сказать, что есть у всякого одинокого живого существа, даже у такого скота, как Яшка, потребность – быть не одному.
Мокшин, тоже захмелевший, внимательно слушал Сторожева, не перебивал. Ему казалось в этот момент, что он, хотя бы не знает ни овечьего, ни козьего языка, но тоже очень хорошо понимает настроение, которое было – он это видел и наблюдал – у несчастного Яшки, так привязавшегося к Басе и её деткам.
Сторожев налил себе и другим ещё.
– Впрочем, из тех людей, кого знаю, есть всё-таки один человек, которому, похоже, нравится быть одному. Но он и не человек, он вор, потому что только вору не нужен никто.
Мокшин, несмотря на то, что захмелел, насторожился.
Ветеринар выпил после других свой стаканчик:
– Был бы сейчас трезвый, наверное, не стал об этом вспоминать и говорить. Но, знаете, на той неделе со мною был случай, который не дает покоя…
Сторожев посмотрел на Мокшина и Новикова жалостливыми глазами: – Вы уж не рассказывайте, пожалуйста, никому, стыдно, что такое произошло. Хотя верно говорят: «если знает петух или курица, узнает и вся улица…»
– Ну что у тебя за манера, Сторожев, тянуть резинку от трусов, – сказал нетерпеливо Новиков. – Начал говорить, договаривай.
Я не схватил вора за руку, но вор был. Это Мишка Урбан… На той неделе у себя в конторе я получил зарплату. Все деньги, – он, демонстрируя, сунул правую ладонь во внутренний карман пиджака, – положил сюда и даже застегнул пуговицу. Отделил только сотенку в боковой карман. Складчина получилась неплохая, поэтому и выпили хорошо. Так говорю потому, что не помню, как шёл потом домой, но провожал меня Урбан. Он, ты, старик, знаешь, всегда приходит к конторе, когда дают зарплату. Знает, что и ему дармовщина перепадет. Так было и в тот день. Наутро я из зарплаты не досчитался тысячи рублей. В тот же день обошел всех ребят, расспрашивал их, думал, что сам и выложил по пьянке, но ребята сказали, что сдал в складчину только ту самую сотенную. Потерять их не мог, потому что внутренний карман утром так и оставался застегнутым. Вот и думаю теперь, что всё же это дело рук Урбана. Но, говорят – «Не пойман – не вор» – закончил Сторожев.
Мокшин после его слов заметно побледнел, заходили желваки на его скулах, и он неожиданно так сжал в руках свой стаканчик, что тот с треском лопнул.
Новиков и Сторожев уставились на него испуганно- вопросительно.
– Не обращайте внимания, – сказал Мокшин, – такое бывает со мной, когда переживаю, а твой рассказ, Сторожев, меня сильно взволновал.
– Как тут не поволнуешься, – подтвердил Новиков. Зарплата не так уж велика, знаю. И потом, как жить, если нет тех денег… – Он в сердцах тоже стукнул кулаком по столу. – Вы ведь знаете мою историю с петухом… Конечно, его рук дело… Вот сволочь!.. Крыса!.. У своих же, рядом, ворует. А ты, Сторожев, с ним говорил?
– Да, спросил и его на следующий день, может что знает?
– И что ответил? – спросил Новиков.
– Сказал, не знает, что и думать, может я потерял их… Потом добавил как-то даже красиво, по-книжному: «Не огорчайся, Сторожев, стало быть, на всё «воля божья», так и должно было случиться».
– Что верно, то верно, – сказал Новиков. – На все воля божья.
Мокшина после последних слов словно взорвало:
– Что у вас в Подъёлках за манера по каждому случаю ссылаться на «волю божью»! Слышу по нескольку раз на день, как от попугаев. Хреновая то воля, раз случаются такие злодейства, а вы и миритесь с ними. Нет здесь никакой «воли божьей»! Урбан обыкновенный вор и плут, которого нужно остановить.
Сторожев и Новиков снова уставились на него удивленными глазами, ожидая, что Мокшин, как новый человек, в самом деле предложит им что-то неожиданное. Но Мокшин точно также внезапно замолчал. Ему нечего было сказать.
Возникла длинная пауза, после которой гости пошли домой, а Мокшин к своим овцам.
Прошел ещё месяц, лето шло на убыль. У Мокшина дела шли хорошо; подрастали ягнята, Бася стала совсем ручной, и вся овечья семья так прочно вошла в быт и жизнь Мокшина, что он себе теперь свою жизнь иначе и не представлял. Для Мокшина было совершенно очевидно, что овца Бася или её ягнята никогда не окажутся на его столе, он даже не допускал такой мысли. В нём за несколько месяцев, прожитых в деревне, ещё не вызрело привычное для крестьянина восприятие любой имеющейся на подворье живности, как средству для его существования. Он просто любил свою овцу Басю и ее ягнят. И ничто Мокшину не предвещало чего-то грозного и страшного, что могло произойти в его судьбе.
Частые для этого времени года – после Ильина дня – грозы полыхали лишь на далёких черно-синих горизонтах, обрушиваясь изредка и на Подъёлки вспышками молний, громом и сильным проливным дождем.
Среди недели Мокшину понадобилось поехать в город за строительным материалом. Он долго задержался по складам и магазинам и, возвращаясь домой, сильно из-за этого нервничал, мучаясь тем, что надолго оставил Басю и ягнят. Заехав во двор, Мокшин, у которого никак не могло улечься волнение, которое он не мог понять, вошё в дом, взял, как обычно, хлеб, воду, и пошел в поле.
Было очень тихо. Воздух словно застыл в ожидании очередного ненастья, которое вызревало в сгущающихся лиловых тучах далеко на западе, и там были видны уже рассекающие небо электрические разряды. И сами Подъёлки тоже будто замерли в ожидании грозы; по селу не было слышно ни собак, не видно никого из людей.
Мокшин направился к месту, где утром навязал овцу. Но на подходе не увидел её, как обычно, издали. Сердце у него учащенно забилось, он побежал, расплескивая воду в ведёрке. Наконец, за кустом боярышника увидел ягнят, как-то необычно жавшихся друг к дружке, и Яшку. Овцы не было. Мокшин обернулся вокруг, и вдруг заметил свою веревку. Была она обрезана. Он машинально прошёл ещё несколько шагов и остолбенел. В траве, сильно вытоптанной и забрызганной кровью, успевшей загустеть и почернеть, лежала серая овечья шкура, и в спешке кем-то выпростанные из туши и брошенные внутренности, которые уже облепили мухи… Мокшин уронил и ведерко, и хлеб… Обернулся назад и уставился вопросительным взглядом на Яшку, словно ожидая от него какого-то ответа. Но тот молчал и смотрел на человека своими козлиными, не моргающими глазами.
– Кто?! – сиплым голосом прохрипел Мокшин. – Его всегда красное лицо теперь было бело, как мел. Под кожей скул нервно перекатывались желваки, плотно сжатые губы сжались в одну скорбную полоску, даже был слышен скрежет зубов из-за сильно сдавленной челюсти.
Человек и козел ещё какое-то мгновение смотрели друг на друга. Яшка продолжал молчать, но в его взгляде Мокшину показался немой укор. Мокшин не выдержал и с криком бросился назад в село. Ситцевая рубашка от бега на нём надувалась парусом, но он не чувствовал ни тяжести бега, ни одышки, которые у него обычно возникали при быстром беге. Он и не видел перед собой, и не слышал ничего три сотни метров, что оделяли жуткое место от его дома в Подъёлках. С помутненным взором он остановился только тогда, когда его неожиданно окликнула Сирота, шедшая домой из Красного. Мокшин резко остановился, хотел ответить, но у него так перехватило дыхание, что из груди вырывались только сиплые звуки, и не было возможности разобрать слов. Наконец, он чуть отдышался и рассказал ей об овце. Сирота отступилась от него на шаг и несколько раз перекрестилась, тараща на Мокшина наполненные страхом глаза, и бормоча о какой-то «божьей воле».
– Кто бы это мог сделать? – спросил Мокшин. – Ты была сегодня дома, видела кого постороннего в селе?
– С утра была дома. Потом пошла мыть полы в приход. Вот возвращаюсь. Никого не видела чужих. И грибников сегодня не было.
Мокшин неожиданно сказал:
– А Мишки Урбана в селе не было?
– Был, – ответила она, – но он же свой, не чужой.
Мокшин её уже не слушал. Он не пошёл домой, развернулся и снова побежал, теперь в Красное.
На бег сил не хватало, тогда он переходил на быстрый шаг, сильно и нервно размахивая руками, которые у него, как и ноги, налились железной тяжестью. Он превозмогал её, стараясь, наоборот, еще крепче сжимать кулаки – так было легче, и всё также сдавливать челюсти. Он не смотрел по сторонам, не видел вокруг бескрайнее поле пшеницы, не чувствовал внезапно пронесшегося волной по колосьям сильного ветра, и не ощутил начавшие сильно и резко падать крупные и холодные капли дождя. Его воображение занимала только картина недавно виденного на выгоне. Все остальное сознание, как и окружающая его теперь местность, словно потонуло в сумерках. Временами появлялись какие-то проблески света. Ему даже слышалось блеяние Баси, и он резко оборачивался, но не было никого вокруг. И только уже разошедшийся во всю дождь, промочивший всю одежду, продолжал хлестать Мокшина по лицу, и сильные вспышки молнии освещали ярким светом дорогу, и дрожал вокруг воздух, сотрясаемый резкими и раскатистыми ударами грома. Но его это не пугало, как теперь уже ничего не могло испугать. И даже когда в метре от него в землю ударил разряд молнии, так что вскипела вода в лужице, он лишь запнулся на ходу, и резко остановился, и поднял лицо к небу; хотел машинально перекреститься, поддаваясь, как любой человек, первобытному животному страху то ли перед богом, то ли неизвестностью, царящей в природе, но не смог, так как не был верующим, и получилось, что как-то неуклюже осенил всё же себя кулаком по лбу. В его глазах тут же вспыхнула досада за сделанную глупость. Но Мокшин опять посмотрел вверх будто в последней надежде увидеть там нечто, или услышать что-то вразумительное или успокаивающее, хотя знал, что ничего не увидит и не услышит. И он не увидел ничего, кроме стремительно продолжавших нестись очень низко тяжелых туч. Но из их бездонной прорвы ему вдруг почудился голос, твердивший, как и все жители в Подъёлках, что на всё на этом свете «воля божья». Он даже улыбнулся чуть-чуть по поводу этого, и сказал вслух: «Оказывается, всё так просто. На всё есть «воля божья»! – И он стал думать о том, что и он тоже теперь бежит в Красное по «воле божьей», она его туда ведёт, и там должно что-то свершиться по «воле божьей», – и это придавало ему необыкновенную силу.
Мокшин подошел к церковной ограде, когда дождь уже переставал. У ворот встретил лысого и рыжебородого попа, который, видимо, только вышел на улицу подышать свежим воздухом и прогуляться. Был он в рясе, поверх которой одета толстая вязаная кофта, застегнутая на все пуговицы.
– Где Урбан? – коротко и резко спросил Мокшин.
– Зачем он вам? – ответил поп, с подозрением оглядевший Мокшина.
– Раз спрашиваю, значит надо! – сказал Мокшин, наступая на него. Тот отошел и показал рукой в сторону приземистой постройки в дальнем углу ограды.
– Там у нас котельная, в ней и находится сторож-истопник. Он, кажется, готовит ужин.
Только после этих слов Мокшин действительно почувствовал разлитый в сыром воздухе печной запах и увидел дымок над трубой постройки. Он решительно шагнул в её сторону. Когда Мокшин потянул на себя дверь – первое, что ощутил – сладкий запах мясного варева. Потом увидел стоящего к нему спиной у плиты Урбана. Вид Мокшина был так страшен, что у обернувшегося к нему Урбана мгновенно подкосились коленки. Однако испуг, пробежавший по лицу Урбана мелким и частым миганием век, дрожью в лице, быстро прошёл, как у всякой натворившей дел твари, которая понимает, что нужно отвечать, и что лучше всего не бежать, потому что и некуда, а самому первому нападать, руководствуясь этим девизом на самом деле слабых и трусливых, а не сильных людей, вроде уличной шпаны. Привыкший жить своими практическими интересами, холодный в своей жестокости, Урбан, стараясь придать голосу безразличный тон, сказал:
– Знаю, зачем пришёл. Я бы завтра сам к тебе явился и всё объяснил. Понимаешь, у попов сейчас какой-то пост, и я уже устал за этот месяц от их яблок, каш, меда и прочей ерунды. Так уж получилось, что пошёл я с утра по грибы, и увидел овцу… Захотелось мясца… Поначалу даже не знал, что твоя. Потом только до меня дошло, что больше никто в Подъёлках такую живность не держит. Извини. Как говорится, «на все воля божья». Можно было взять ягненка, да какой с него толк, а Яшка, сам знаешь, старый козел. В общем, я к тебе завтра зайду и заплачу, узнаю только, почем теперь баранина.
Мокшин его слушал молча, но не слышал, что ему сказал и продолжает говорить этот человек. Он не думал и о том, насколько продолжает быть циничен и нагл Урбан в своих словах. Перед ним лишь был по-прежнему образ потерянного безвозвратно любимого существа, которое доставило ему так немного счастья в последнее время; Мокшин видел перед собой притягательные в своей доверчивости и покое глаза любимой овцы. И он никак в этот миг не мог поверить, и ему было чудовищно, дико и нереально понимать, что в огромной кастрюле, стоящей на плите, сейчас то, что осталось от его нежной и ласковой Баси.
– Да ты меня даже не слушаешь! – возмутился Урбан. – Тогда это твои дела. Придёшь в другой раз и поговорим. – Он направился к двери.
– Нет, постой! Какими она на тебя смотрела глазами? – отрешенно и с сильной грустью в голосе спросил неожиданно Мокшин.
– Да ты что, дурак, что ли? Какими на меня могла смотреть глазами овца! Бараньими, известное дело! И что, кроме глупости могло быть в её глазах. Ну, само собой, что не были они веселы, чуяла, думаю, что настал конец, и пастись ей теперь на райских лугах, а не в Подъёлках.
Он не успел договорить. Мокшин, захватил Убрана обеими руками в охапку, и потащил на улицу. Урбан пытался вырваться, но его держали словно стальные прутья. На улице Мокшин бросил Урбана навзничь на каменную мостовую, сел сверху и схватил за шею.
– Да ты, т-ты же так убьешь человека! – кричал подбежавший к ним и суетившийся вокруг поп. Мокшин отпустил шею жертвы. Его помраченное сознание стало проясняться; казалось, что он встанет и опомнится, потому что повернулся к попу и четко, и ясно сказал:
– Уйди прочь! Не за человека сейчас просишь… Ты же сам говоришь всегда: «на всё воля божья!» И это верно! И я её слышал. – С этими словами он приподнял за плечи пытавшегося высвободиться Урбана, и со всего маху затылком ударил его о булыжник мостовой, так что захрустели кости черепа.
ОБМАН
(рассказ)
1.
Люди хотят быть счастливыми, – это так естественно, как хотеть есть или пить. Белкина Галина тоже не могла не желать себе счастья, обыкновенного женского счастья. Другое дело, что не всё в жизни складывается, как хочется. Легко ей ничего не давалось: ни уютная квартирка на последнем этаже девятиэтажного дома, ни мебель – хотя и не слишком дорогая, но модная; ни даже флакончик любимых французских духов. Но всё это давно стало привычным, и когда она иной раз думала о том, что приобретение таких обыденных вещей стоило ей десяти лучших лет жизни, куда-то уходило чувство удовлетворения и становилось страшно. В долгой погоне за положением в обществе и материальным благополучием выделялись чёткие, как на размеченной вешками дороге, временные промежутки, и измерялись они приобретениями каких-то предметов быта, стараниями на работе, а между ними, словно завтраки наспех, любовь. За многие годы она устала быть женщиной с твердым характером, как отмечалось в её характеристиках; ей казалось, что она сама придумала этот образ, похожий на искусственную и фальшивую, как всё в кинофильмах, роль. Выражаясь языком философов, в ней заговорил некий нравственный императив, а толчком к перерождению послужила, как нередко бывает, случайность.
Однажды, спеша по делам, чуть не сбила с ног двухлетнего малыша. Он стоял на краю небольшой лужи и увлеченно в неё заглядывал. Белкина резко остановилась и тоже посмотрела. В лужице, как в зеркале, отражались голые ветки деревьев, кусок многоэтажки, а между ними – плывущие в ярко-синем небе облака. Они покачивались ватными боками, и от этого картина казалась живой. Малыш был восхищен открытием мира не на экране телевизора, а на улице, и всё его личико сияло большой радостной улыбкой. Настроение ребенка передалось Галине, она тоже улыбнулась, и ей даже показалось, будто шевельнулось в душе смутное воспоминание, что когда-то точно так же, маленькой, наблюдала и она купающиеся в воде облака. И, как по телеграфному проводу, из далёкого прошлого передалось ей состояние благостного покоя, и напрочь забыла она о суетности мира и проблемах. Над ними на мокрую ветку уселся грач, несколько капель воды упало вниз, лужа подернулась рябью. Малыш посмотрел на Белкину, замахал ручонками и начал что-то у неё спрашивать на своём, понятном ему одному языке. Он явно хотел выяснить, отчего испортился «экран», его захлестывали эмоции. А Галина, такая большая, растерялась от неожиданности, ничего не смогла ответить и только подумала, что, наверное, она так же спрашивала и у своей матери. И, должно быть, мать, как теперь она, не могла ничего понять. «А может, все-таки могла? – осеклась её мысль. – Да, мать понимала…» И у неё вдруг сильно защемило в груди, стало трудно дышать из-за сознания того, что она не мать, поэтому не понимает малыша, что у неё нет никого, кто бы через много лет вспомнил о ней… И так ясно и понятно стало в этот миг, что без ребёнка она не может быть счастливым человеком, что только дитя придаёт настоящий смысл жизни, и очень-очень захотелось ей быть счастливой – матерью. И точно пелена упала с глаз, внезапно пришло прозрение, что её жизнь – не настоящая, что она не может и не хочет больше жить, постоянно поддаваясь чудовищному утилитаризму своего времени.
В том, что «человек – кузнец своего счастья», Белкина была уверена на собственном опыте. Поэтому воспринимала не только, как некую догму, этот лозунг социалистов всех мастей, но даже его саркастическую копию-подделку писателя-сатирика: «Хочешь быть счастливым – будь им», – вовсе не считала смешной иронией. «Если не я сама, кто обеспечит мне счастливую жизнь? – думала Белкина. – Полагаться следует только на себя».
Помощь мамы она принимала время от времени лишь пока училась, а после окончания института уже выживала самостоятельно. Заработная плата в школе, где она преподавала английский язык, была очень мала, но Галина имела много частных уроков. И, как всякий думающий о завтрашнем дне человек, со временем даже начала копить деньги, открыв счет в коммерческом банке. Галина испытывала некую гордость за себя от того, что уже на протяжении многих лет регулярно покупает и откладывает по пятьдесят долларов в месяц. Почти удовольствием было для неё и посещение банка, который она долго выбирала среди множества других, сделав свой выбор. Банк мало чем отличался от других, но ей очень нравился твёрдый знак в конце слова «банкъ». Казалось, что от старомодного употребления буквы «еръ» в конце слова веет каким-то серьезным отношением к делу и тягой к забытым традициям предприимчивых, но честных людей. В банке встречали её пусть и немного дежурными, но неизменными улыбками, которые так редко можно увидеть на улице. Доверчивая, как люди, которым очень хочется, чтобы свершилось поскорее задуманное, она с чувством удовлетворения отдавала заработанные репетиторством вечерами и в выходные деньги, подшучивала над собой, называя себя Гобсеком. И ещё в банке порой забавлялась важными и подчёркнуто вежливыми служащими или их руководителями. Они уже научились самому примитивному: модно и стильно одеваться; но пока не отличались хорошим вкусом к вещам, которые формируются не одним днем, а годами. Поэтому по стенам банка довольно нелепо смотрелись картины в рамах из очень дорогого, массивного и в позолоте багета, но не под стать таким рамам в них была скучная графика, оформленная под паспарту.
«Как же кстати оказались теперь мои деньги, накопила больше семи тысяч долларов, почти на машину, – думала она. – Их, наверное, будет достаточно на первое время после рождения ребёнка, так как полтора-два года придётся сидеть дома, пока снова смогу работать». Она в который раз принялась подсчитывать расходы, прикидывая свои возможности, зная, что неоткуда будет ждать помощи. И всё неплохо сходилось, – она укладывалась в свои сбережения. Решение было таким неожиданным и стремительным, что она не вполне верила в реальность своего счастья, всё ещё казавшегося несбыточной мечтой. Но это было возможно, и несказанная радость охватила её: хотелось жить и дать жизнь новому человеку и знать, что ты нужна кому-то не на час, не на месяц, а навсегда. Дело оставалось за малым.
Она уступила упорным ухаживаниям своего коллеги, который не вызывал у неё ответных чувств, состоял в браке, отличался скупостью и уже имел двоих детей, но многими был замечен в жажде любовных утех.
Потом настала весна, уже тридцать третья в её жизни, но ей больше не казалось, что это повод для грусти, наоборот, всё было чудесно, она считала, что теперь только начнет по-настоящему жить. Она похорошела, и постороннему было сложно определить её возраст, который одинаково соответствовал и молодой женщине, и уже зрелой, но уставшей от жизни девушке. У неё был правильный овал лица и совсем не было морщин, а стоило ей заговорить, обнажив ровный ряд белых зубов, как немного угрюмые складки возле губ тотчас разглаживались, а прищуренные из-за близорукости глаза, казалось, смеялись, излучая ум и жизненный опыт.
Скоро у неё случилась задержка, но если раньше это её пугало, то теперь стало долгожданным подарком. А ещё через месяц она ощутила полноту, необычную тяжесть грудей и присущий женщинам в «интересном» положении дискомфорт в животе. Но её уже не могли из-за этого пугать неприятные хлопоты, как если бы такое случилось с нею год или два тому назад; теперь она только чувствовала с каждым днем всё больше и больше, что наполняется новой жизнью, но это было пока ещё совсем незаметно окружающим. Однако это стало её огромной тайной, о которой она молчала, но не потому что верила в какие-то приметы, – она просто наслаждалась своими радостью и счастьем, не желая до поры ими с кем-то делиться. Она не знала: мальчик у неё или девочка, и не знала, кого больше хочет, но понимала, что ребенок – часть её самой, ее продолжение, что ветвь жизни на ней не пресечётся, а потому придет время, и кто-то будет, как тот малыш, смотреться в лужу и спрашивать у неё, куда же в воде плывут облака…
Как хорошо жить в ожидании громадного счастья, которое вот-вот, уже «не за горами»! Тогда и мир вокруг кажется розово-голубым, и нет в нём, как в мифическом Эдеме, мрачных красок. Стояло лето, было очень тепло, природа располагала к отдыху; ученики разъехались на каникулы, и она млела на солнышке, лениво созерцая сиреневую мглу, в которую на далёком горизонте соединялись море и небо. Мир с его проблемами, казалось, куда-то исчез, оставив её одну с приятными мыслями и мечтами. Её даже не огорчило заявление бухгалтерии, сообщившей, что денег пока нет и заработную плату с отпускными ей выплатят позже.
Так прошла еще неделя, и однажды, продолжая оставаться в прекрасном расположении духа, практичная Белкина всё же посчитала, что хватит расслабляться, пора вернуться к реальной жизни. Она, не дожидаясь денег в школе, решила снять в банке причитающиеся ей проценты для текущих расходов, а заодно сделать кое-какие необходимые приобретения, чтобы потом, когда будет на сносях, не обременять себя лишними проблемами.
В банке кассир, взяв её документы, попросила написать заявление о снятии со счета денег, и подойти снова через три дня, пояснив, что у них в настоящее время какие-то технические трудности. Белкина удивилась, но заявление написала. Когда она в строго указанное время снова пришла в банк, ей сказали, что временно денег нет, и посоветовали прийти на следующей неделе. Время тянулось, как в скучном телесериале, но она дождалась окончания недели и в пятницу пошла в банк. На это раз он был закрыт, перед входом топтались люди, которые друг на друга недоверчиво поглядывали. Вскоре дверь открылась, все вошли в знакомый вестибюль с картинами, где их встретил служащий банка – мужчина лет сорока с зачесанными назад и напомаженными волосами. Он был очень краток, голосом, похожим на треск ломаемых сучьев, сказал, что им не следует сильно волноваться, что банк имеет трудности временные, но в ближайшие дни их пригласят для дополнительной информации.
Она ничего не понимала в происходящем. Ей хотелось кое-что спросить, чтобы разобраться, но она никак не могла сформулировать свой вопрос, боясь выглядеть смешной, но в то же время и не могла взять в толк, что значит «сильно не волноваться», когда речь шла о её деньгах.
Прошла ещё неделя, никаких сообщений так и не было, и она сама опять пошла в банк, однако её не впустили; охранник, сослался на какое-то распоряжение руководства. Она, полностью обескураженная, направилась в юридическую консультацию.
Адвокат выслушал её сбивчивый рассказ и сказал:
– Должен вам честно заявить, что, к сожалению, вряд ли смогу помочь, я имею в виду реальное вернуть ваши деньги. Мы, конечно, составим исковое заявление, подадим его в суд, и суд, не сомневаюсь, решит дело в вашу пользу, но денег вы всё равно не получите. – Он покопался в своих бумагах и медленно добавил: – Да, так и есть, по вашему банку уже как два месяца начата процедура банкротства.
– Как же? Я вносила им деньги, у меня есть документы, и потом – это мои деньги. Куда они дели мои деньги?!
– Видите ли, в нашем государстве, как во всяком другом, считающим себя современным и цивилизованным, есть, разумеется, законы, которые обязывают в случаях, подобных вашему, вернуть деньги вкладчику. На самом деле весь правовой механизм, то есть всё устроено так, что с большей долей вероятности никогда их назад не получите. Иначе какой смысл было брать у вас деньги, чтобы потом снова возвращать. Вы только вдумайтесь! Такое редко случается. В вашем банке денег уже нет, а с учредителей этого банка, – ими являются, как правило, физические лица, – тем более ничего не получите, в «долговую яму» или «зиндон», как её называли на Востоке, никто должника не посадит, чтобы его родные или кто иной рассчитались с вами за него. Это было бы средневековьем, – таким образом поступить с хозяевами банка. Так, по крайней мере, говорит современное государство. А если говорить о деньгах, вы со школы знаете, что ничто и никуда не исчезает, а лишь переходит из одного состояния и качества в другое, – адвокат решил, видимо, блеснуть знаниями из курса политэкономии: – Так вот, ваши деньги стали для кого-то новой машиной, украшением на шее, ну, и прочее.
– Но это обман и воровство!
– Это на языке нормальных людей. На языке других воровство только тогда, когда у вас из кошелька вытащат деньги. К несчастью, в этом и заключается вся фарисейская мораль современного мира и законов её обслуживающих. А для успокоения общественного мнения есть известная фраза: «К сожалению, имеется пробел в законодательстве, над этим работают…» Я считаю – это хорошо продуманная система отобрания у населения накоплений. Мы перед нею бессильны.
Белкина не совсем понимала вдруг разоткровенничавшегося адвоката. Её ум подсказывал, что он прав, что она обычная жертва узаконенного жульничества, а сердце не соглашалось с этим и требовало какой-то высшей справедливости, заставляло её волноваться и страдать в лихорадочной попытке как-то разрешить ситуацию, вернуть деньги и удержать ускользающее от неё, как рыба из рук, – она это почувствовала, – такое долгожданное счастье. Но она была маленькой песчинкой в море людского песка, придавленного чей-то чужой и злой волей, а вокруг была тишина и никаких предвестников бури, которая всколыхнула бы этот залежалый песок, чтобы он задвигался, закружился в неудержимом вихре, смел и уничтожил даже саму память о чьей-то злой воле и тех, по чьей вине ей приходится страдать.
Её душа больше не знала покоя, и только внутри неё неведомый кто-то жил своей и одновременно её жизнью, полной внезапно навалившихся проблем и волнений. Она знала, точно знала, что уже не одна, что этот неведомый, как и она, переживает вместе с нею горечь жизни. Ей было плохо от того, что и он вместе с нею мучается и думает, как сложится его дальнейшее существование. Она была почти уверена, что это так, что он уже может думать; ей давно казалось, что они вместе, не зря она раньше, лежа в постели и поглаживая живот, разговаривала с ним, рассуждая о том, как им будет хорошо, рассказывала, как замечательно жить на белом свете, и какими он – её сыночек, или доченька – будут для всех долгожданными. Теперь она не могла сказать, что всё прекрасно в этом мире, – для кого-то их появление и вовсе безразлично, – что их ждут и будут им радоваться. Её состояние прежнего сильного душевного подъема, сменилось подавленностью, хотелось кричать, взывать о помощи, но кругом было равнодушие, и глухая стена.
Отпуск подходил к концу, через неделю нужно было выходить на работу. Полученные небольшие деньги заканчивались. Как она ни старалась их экономить, – они таяли быстрее весеннего снега. Занимать она не любила, потому что всё равно следовало отдавать. За небольшую сумму сдала в ломбард пару серёжек и кольцо. Такого с нею ещё никогда не было. В один из дней она обнаружила, что в ящичках и шкафах на кухне не осталось ничего из съестных, длительного хранения, припасов. Нашла только банку с остатками кофе, сварила его. Потом достала спрятанную с глаз ещё с начала беременности пачку сигарет и машинально закурила, как раньше, когда из-за чего-нибудь переживала. Тут же поймала себя на мысли, что, наверное, это неспроста после долгого запрета на кофе и сигареты. Включила телевизор. Гламурная ведущая из блока экономических новостей взахлеб рассказывала о каких-то новых достижениях в стране и грандиозных планах страны на будущее. Белкина подумала, что она, видимо, даже не знает, что говорит, повторяет, что ей написали, – до того всё это телевизионное действо выглядело лживо и хвастливо, как и раньше, когда такие же ведущие говорили то же самое, ещё на черно-белых экранах. Она выключила телевизор, прилегла и уснула. А когда проснулась, удивилась, что проспала совсем немного, на дворе только стемнело, но уже так и не смогла долго заснуть, думая о том, как ей быть, как дальше жить. И с этими мыслями тяжелый, трудный сон к ней пришел снова только к утру, и проспала она, как ни разу в жизни, почти до полудня. Так повторялось с нею ещё день, и ещё день, который у нее начинался, как у нелюдей, с закатом солнца и бессонницей, а с восходом заканчивался глубоким сонным забытьем. Она была беременна, но ей совсем не хотелось есть, думала о том, что один вид еды у неё тотчас вызовет отвращение. Она понимала, что поступает неправильно, но не могла себя взять в руки: из головы не выходила одна-единственная, тягучая, как жвачка, мысль, что будет, если родит. Как ни просчитывала, получалось, что она не сможет содержать ни себя, ни ребенка даже первый год после родов. Деньги, на которые рассчитывала, украли, доход учителя не мог обеспечить даже самое жалкое существование её и ребенка, а надеяться на частные уроки с грудничком на руках было глупо. Её недолгое счастье осталось в мечтах. Но она больше никого не хотела винить в случившемся, кроме себя, считая, что оказалась слишком наивной и самонадеянной в своих лучших чувствах, с которыми, похоже, нельзя жить. Она мучилась совестью ещё несколько дней, и, как ни гнала прочь плохие и грешные думы, снова и снова в ней брал верх холодный расчет человека, соизмеряющего свои возможности с реальностью.
Придя на работу, она сослалась на недомогание. Вскоре шла вдоль неподвижного зеркала пруда, в котором почему-то не отражались ни серое низкое небо, готовое вот-вот, как и сама Белкина, заплакать еле сдерживаемыми слезами, ни растущие на берегу деревья. В воздухе уже чувствовалась осень, и первые желтые листья лежали на черном асфальте дорожки, ведущей к больнице. Здание еще не отапливали, было промозгло и неуютно, и она ежилась от холода и набегающего волнами ужаса из-за принятого ею накануне решения. На некоторое время она даже остановилась в большом вестибюле, и подумала не повернуть ли ей назад. Потом, сжав до белизны кулаки, со свойственной ей решительностью толкнула дверь в кабинет абортов.
РЫЖАЯ
(рассказ)
Дворняжка, клички которой никто не знал, – из-за огненного окраса её называли просто "Рыжей", – лежала под заброшенным навесом городского рынка, в самом дальнем углу, заросшем репейником и крапивой. Днем сюда не приходил никто, а вечером появлялся коренастый, с широким, как у монгола, лицом, дворник, который приносил собаке из мясных рядов сор, остающийся после рубки туш. При его появлении она радостно тявкала, преданно выгибалась перед ним и неистово колотила по земле пушистым, как у лисицы, хвостом.
Две недели назад она впервые ощенилась, и теперь вся её жизнь замкнулась на двух крохотных живых комочках, копошившихся у её розового живота. Материнское чувство захлестнуло её волной забот, о которых она и не подозревала. Страшнее всего было оставлять, даже ненадолго, этих постоянно требующих есть существ. Выходя по надобности из картонного ящика, приспособленного дворником под конуру, она бегом возвращалась назад, так как ей казалось, что без неё они не могут прожить и минуты. Она сворачивалась клубком, за загривки подтаскивала щенков, а сверху накрывала их хвостом. И ей нравилось так подолгу лежать, урчать им свои собачьи колыбельные и ощущать, как приятно облегчаются полные молока сосцы.
Но вот уже несколько дней старик почему-то перестал приходить и приносить еду. Щенки получали молока меньше и стали очень капризными, а она не могла накормить их досыта и виновато отворачивалась. Её бока заметно ввалились, морда вытянулась, а вся Рыжая, имевшая в холке всего-то тридцать сантиметров, стала ещё меньше.
Щенки, расталкивая друг друга, старались схватить сосок, на котором выступила желтая капелька молока. Но ни один из них не мог дотянуться, отталкиваемый всякий раз соседом. Потом палый с белой шалкой смахнул каплю ворсинками уха, и как ни старались они дальше тянуть мать – молока не было. Щенки обиженно заскулили. Она стала их унимать, вылизывая спинки, но они не затихали, а ещё сильнее скулили и мучили её. Вдруг один сильно защемил сосок, она взвизгнула и резко вскочила. Потом вышла из-под навеса и стала смотреть в сторону рынка.
День обещал быть жарким, и с утра на рынке толпилось много людей. Она пристально всматривалась в толпу, надеясь заметить старика. Но с тех пор как несколько дней назад издали видела, что его отнесли на носилках к машине люди в белых халатах, он не появлялся.
Рыжая оглянулась на уставших скулить щенков и покрутила головой, принюхиваясь к воздуху, в надежде, что поблизости есть съестное. Однако ничего не почуяла, а дразнящие запахи долетали только с рынка. Она беспокойно потопталась на месте, ещё раз глянула на голодных щенков и пошла.
Солнце успело подняться высоко и нагрело бетонные плиты, которыми была вымощена территория рынка. Идти по ним легко и приятно. Люди беспорядочно сновали вокруг, что-то кричали друг другу, сталкивались лбами, отдавливали друг другу ноги, ругались, извинялись и спешили дальше. Рыжая давно не была здесь, и после полумрака конуры яркое солнце и суета рынка ошеломили её, как и внезапно обрушившаяся из динамика на столбе оглушительная музыка; она поначалу даже съежилась с испугу и едва успевала увертываться от наступавших на неё со всех сторон башмаков. Возле небольшого киоска, где продавали сладкое, она остановилась. Большой белобрысый парень, зажав в пятерне кулек с мелкими пряниками, другой рукой бросал их, как орешки, в рот и глотал, почти не разжевывая. Как завороженная следила Рыжая за ним, ожидая, когда бросит и ей пряник, а может быть, случайно уронит. Но он не замечал её, и пряники не ронялись. А здоровяк, подбросив вверх последний пряник, ловко его поймал, смял кулек и швырнул его в сторону рыжей дворняжки, которая едва увернулась и отбежала в сторону. Но не было у неё обиды на этого человека, она вообще на людей не обижалась, мало среди них было таких как её дворник, они, в основном, унижают и давят слабых.
Рыжая стала обходить один за другим уличные торговые ряды, там, на её взгляд, не оказалось ничего примечательного; прилавки были завалены овощами и фруктами.
– Смотри-ка, Рыжая появилась! – Конопатая, как и дыни, которыми торговала, продавщица рукой указывала на устало бредущую собачонку. – Давненько тебя не было, Рыжая. – Оглянувшись на соседок, она подозвала собаку и, демонстрируя свою щедрость, протянула ей кусочек дыни. Рыжая принюхалась к нему и вежливо отвернулась. – У-у! – не найдя слов, взвыла сиреной торговка и запустила в неё дынной долькой.
Собака в страхе отскочила, угодила в чью-то корзину, перевернула, кто-то её в отместку больно пнул, и она стремглав бросилась бежать. От волнения сердце Рыжей билось, как у пойманной птицы.
А люди по-прежнему торопились куда-то, и только редкий из них бросал равнодушный взгляд на одинокую собаку, прижавшуюся к тумбе с ободранными театральными афишами. Рыжая и раньше любила выходить на этот пятачок рынка – погреться на солнышке, понаблюдать людей, а иногда от скуки и полаять на них. Но теперь ей было не до старых собачьих развлечений, – она торопилась к щенкам.
Пробегая мимо большого павильона посредине рынка, она уловила знакомый мясной дух и остановилась. Нужно было спешить к щенкам, но она замешкалась в раздумьях: "Куда сначала податься?" Верх взял голод.
Тяжелый, настоявшийся на мясе воздух, ударил ей в ноздри. У собаки немного закружилась голова, но она с этим справилась, и медленно пошла вдоль рядов, поводя кончиком носа. Ей хватило бы сотой, тысячной доли того, что здесь имелось. Но никто не замечал мелкую рыжую дворняжку, которая, задрав морду, жадно глотала воздух, словно ела его. Люди увлеченно продавали и покупали, божились и тут же обманывали. Вон мясник размахивает перед лицом старушки куском мяса:
– "Че ты, бабка, споришь? Это высшая грудинка". – И тычет подслеповатой старухе частью огузка. Старуха испуганно пятится и бормочет: "Заворачивaй, милай, заворачивай… "
Царящая в павильоне суета передается Рыжей, и она – откуда силы взялись? – уже резво перебегает из ряда в ряд, от прилавка к прилавку.
Вдруг она увидела свесившуюся со стола ножку цыпленка. Рыжая потянулась было к ней, но, устыдившись своего желания, отошла в сторонку с надеждой, что всё же её угостят. Однако по-прежнему никто не замечал дворняжку с пустыми, отвислыми сосцами, и неожиданно для себя она снова и снова оказывалась у прилавка с куриной ножкой. Наконец, пересилив свою собачью гордость, осторожно приподнялась на задние лапки, передними уперлась в прилавок, и стянула за ножку небольшую курицу. Тушка оказалась тяжелее, чем ей думалось, она сразу не смогла её ухватить, а потом, ухватив, от волнения уронила на пол, затем опять схватила тушку, крепче сжала её зубами и помчалась к выходу.
– А-а-а … лови воровку! – орал продавец, пытаясь выбраться из-за прилавка.
А Рыжая бежала по длинному проходу, не чувствуя лап. Вот и входная дверь. "Ну, ещё немного … Быстрей, быстрей, к щенкам … " – мелькало в её черепушке.
Она не знала, что все время, пока бродила по павильону, за нею, от нечего делать, наблюдал другой мясник. Он видел, как небольшая сука нетерпеливо бегала между мясных рядов, а потом остановилась у свисавшей с прилавка ножки цыпленка, несколько раз к ней подходила, примериваясь, и всё же стянула. Теперь он ждал её с сеткой для ловли птиц в конце ряда, по которому бежала собака.
Рыжей больно ожгло глаза, она кувыркнулась и оказалась в воздухе. Чьи-то железные руки схватили её за горло, стали душить и бить. У неё в глазах вначале вспыхнул целый сноп из желтых и красных искр, потом всё потемнело, и вскоре она уже не чувствовала никакой боли, а только слышала словно чужой, а не свой отчаянный собачий визг … И только где-то далеко-далеко у неё еще теплилась мысль, что она во что бы то ни стало должна попасть к щенкам.
Мясник сунул полуживую собаку в мешок, перевязал его, бросил в клеть подсобки и пошёл. Но тут же вернулся назад с продолжающими вращаться от злости глазами, вытащил собаку из мешка, оттащил её в угол и с треском придавил лапку в капкан, который ставили на крыс: "Так-то надежней будет, а то ещё мешковину прогрызет. А уж завтра на живодерню … "
Утром, когда мясник пришел в подсобку, собаки не было. Он стал шарить в полутьме по клети и нашел капкан, а в нём… маленькую рыжую лапку.
– Н-не может быть, не может быть! – только и повторял он, пятясь к выходу. – Ну волки, лисы … – продолжал бормотать мясник, – но чтобы дворняга…
А Рыжая выжила наперекор злому року, потому что жизнь её хотя и была собачьей, но не могла она бросить умирать своих щенков. Потом её часто видели на улицах города, прыгающей на трех лапах; вместо четвертой – культя. Рядом с нею бегут две похожие на неё собачонки – её дети, которых она оставила одних в тот злополучный день.
ПАЛ ПАЛЫЧ
(рассказ)
Павел Павлович Булкин, или просто Пал Палыч, как чаще к нему обращались, проснулся от яркого солнечного света, который ворвался из-за плохо задёрнутых штор. Он натянул на голову одеяло, собираясь поспать ещё, но от укуса комара зачесалась лодыжка, и он стал тереть о другую ногу так, что ходуном заходило одеяло. Но зуд не стихал, а наоборот, стал сильнее. Пал Палыч злой соскочил с постели, подошёл к холодильнику, из бутылки плеснул на укушенное место водки и только после этого успокоился.
– Комариное отродье! – сказал он вслух и погрозил кулаком невидимым врагам, которые к утру затаились по щелям и другим потайным местам его однокомнатной квартиры.
Был первый день, как он вышел на пенсию. После вчерашних проводов, устроенных по этому поводу, гудела голова. Чтобы успокоить её, он прямо из бутылки хотел отпить глоток, но передумал и налил водки в гранёный стаканчик. В горле сначала обожгло, потом прохладный комочек растаял и согрелся где-то внутри, и почти сразу прекратился противный шум в голове. Пал Палыч удовлетворённо тряхнул головой, закурил и задумался, чем бы заняться. До вчерашнего дня ему, военному человеку, думать почти не приходилось, потому что существовали приказы, и он их выполнял. С сегодняшнего дня всё резко переменилось – он стал пенсионером. Приказов никто не отдавал, и он вынужден сам думать, как распорядиться этим днем, а потом другим днем и другим… И чем больше думал, сидя на табуретке и почесывая комариный укус пяткой, крепкой, как подошва армейского сапога, тем туманней для него выглядело будущее. Часы уже показывали десять, и он завидовал своим бывшим сослуживцам, которые сейчас, видимо, собрались в кабинете майора Ржаного, читают утренние газеты, пьют чай, обсуждают последние новости и ждут, когда дневальный позовет их в столовую обедать. После солдатской каши и борща, кровь сильно приливает к желудку, отливая от головы, и тогда вовсе ничего не хочется делать, а почему-то тянет спать. И после обеда все офицеры куда-то разом исчезают. Сам Булкин обыкновенно уходил в свою каптерку выполнять приказ, как монах – послушание, суть которого сводилась к тому, что он должен был перебирать бумаги, сдувать с них пыль и следить, чтобы в полковом архиве тля не поела военные секреты. Но уже на третьей-четвертой папке с документами его так клонило в сон, что он ронял голову на грудь, потом валился грудью на стол и засыпал до конца рабочего дня. Это была его служба, это он делал каждый день в течение многих лет; ничего другого он делать не умел и не пытался. И сегодня, когда службы не стало, он ощутил себя вроде бутылочной пробки, которую бросили в прорубь: она не тонула, но и больше не была нужна. А самым скверным для него было, пожалуй, то, что совершенно не с кем поговорить.
– Пр-р-ривет, – сказали в коридоре.
Пал Палыч вытянул шею. Шум в голове прошел, и послышаться ему не могло.
– Пр-р-ивет, – как-то странно растягивая слово, опять произнёс кто-то.
– Фу ты! – хлопнул себя по лысине Пал Палыч.
Он вышел в коридор. В тёмном углу, в клетке, сидел попугай. Его накануне подарили Пал Палычу бывшие сослуживцы, а после вечеринки он совсем забыл о птице. Поставив клетку с попугаем на стол, стал разглядывать подарок.
Это был насыщенного зеленого цвета большой амазон; по крыльям и хвосту у него проходили, как молдинги у легковушек, голубые полоски, а справа и слева от клюва висели красные сережки. Глаза он имел чуть выпученные, томные и немного нагловатые.
– Пр-р-ривет, – опять произнесла птица.
– Чудеса! – сказал Пал Палыч. – А какие ещё ты знаешь слова?
– Дур-р-рак…
– Плохое слово. Будешь его повторять, я из тебя сварю суп.
– Др-р-рама, – ответила птица.
– Да ты никак соображаешь?! – восхитился Пал Палыч. – Ты случайно не из цирка?
– Цир-р-рка, – повторил попугай.
Это окончательно привело в восторг Пал Палыча. Он осторожно поднял клетку, словно в ней сидела волшебная жар-птица, и переставил на подоконник; открыл дверцу, протянул руку, чтобы погладить попугая, но тот ущипнул его за палец.
– Недотрога! Ты, наверное, хочешь есть? Чем же тебя накормить? Вы, попугаи, говорят, едите зерна и фрукты. Знаешь, у меня нет ни того, ни другого. Могу предложить хлеб. – Пал Палыч раскрошил черствую корочку.
Попугай вышел из клетки, покосился на крошки одним, потом другим глазом, и ушел обратно в клетку.
– Напрасно, – сказал Пал Палыч, – я тебе не смогу покупать всякие там киви и ананасы, – пенсия не позволит. Есть будешь то, что ем я, а иначе дам комбикорма, яйца начнешь нести, как курица.
Угроза, похоже, подействовала, попугай снова вышел из клетки и стал склевывать хлебные крошки.
– Узнаю наших! – сказал Пал Палыч.
Продолжая подбирать крошки, птица подошла к стаканчику с остатками водки, опустила в него клюв и запрокинула голову.
– Во даёт! – воскликнул Пал Палыч.
Попугай ещё раз опустил клюв в водку и вдруг полетел, но не дотянул до люстры, на которую нацелился сесть, упал на пол.
– Пикировщик хренов, – сказал Пал Палыч и поднял птицу. – Где же ты водку пить научился?
Он бережно посадил попугая назад в клетку, уселся перед ним и так просидел с полчаса, пока птица не пришла в себя.
У Пал Палыча появился друг. Старый холостяк привязался к птице так, что вскоре и не представлял без неё свою жизнь на пенсии. Он совсем не вспоминал о каптерке с пыльными и никому не нужными секретами; по утрам перестал даже заходить в киоск за «Комсомольской правдой», находя более занятным общение с попугаем. Позавтракав по обыкновению хлебом с селедкой, выпив стаканчик водки, капелькой которой смачивал сухарь для птицы, Пал Палыч усаживался удобнее и, подперев ладонями голову, весь день любовался попугаем и разговаривал с ним. А попугай, которого он так и продолжал называть просто «попугаем», от нескольких капель спиртного становился очень болтлив. Птица удивительным образом пристрастилась к спиртному, в котором, может быть, находила что-то естественное и необходимое для себя, что имелось в перезрелых плодах где-нибудь в лесах Амазонии или Океании. Пал Палыч вспоминал когда-то слышанную фразу, если с попугаем долго говорить, он обязательно ответит. И рассказывал своему закадычному дружку самые разные нелепости. Попугай, в свою очередь, из потока слов улавливал одно, которое нравилось, и повторял вслед за Пал Палычем. По такому случаю бывший капитан наливал стаканчик и выпивал за успехи своего питомца. Кроме слов «привет», «дурак», «драма» и «цирк», попугай научился еще доброму десятку. Птица словно понимала, что её беззаветно любят, ей все дозволяется и прощается. Попугай ходил и летал, где хотел; его помёт можно было найти и на спинке стула, и на столе, и на плите или даже в сковородке, в которую он садился, чтобы поклевать недоеденную и засохшую с вечера яичницу. Но особенно, после нескольких капель спиртного, ему полюбилось вылетать на балкон, развалиться на подоконнике и греться на солнышке, которое не уходило отсюда до обеда. Тогда его взгляду открывался перекресток двух оживленных городских улиц, шумевших машинами, трамваями, голосами людей. С высоты четвертого этажа он видел толпу не способных летать людей и никак не мог взять в толк, отчего они в такую жару не лежат, как он, а бегают и суетятся, похожие на муравьев. Он много ещё о чем рассуждал, наблюдая за жизнью людей, сильно отличающейся от жизни попугаев. Но философствовать подолгу подобным образом попугаю нередко мешал совершенно пустой желудок – из-за той жизни, которую ему устроил Пал Палыч.
Однажды, прогуливаясь по балкону, попугай просунул голову между прутьев и внизу увидел мешок, полный семечек, которыми торговала толстая девица. Не задумываясь, он слетел туда. Девица с испугу вскочила, нечаянно опрокинула мешок, стоявший на высоком ящике, и семечки рассыпались по тротуару. Откуда-то тут же налетели голуби, поднялся переполох, прохожие кричали: «Лови попугая!» Но он вовремя почувствовал опасность и взлетел на свой балкон, выкрикивая на потеху улице: «цир-р-рк», «др-р-рама»!
Так прошло три месяца. За это время попугай пополнил свой «словарный запас» не только лексикой от Пал Палыча, но и незамысловатыми словечками посещавших иногда квартиру гостей из части, где прежде служил военный пенсионер Булкин. Гости приносили много водки, а попугаю экзотические фрукты, и тогда случался настоящий праздник. Очень быстро тосты иссякали и пили в основном за попугая, который без устали развлекал народ. Все это время попугай обожал сидеть обязательно на плече у кого-либо из сослуживцев Пал Палыча. Его, очевидно, привлекали яркие погоны и блеск звездочек. Словно пытаясь определить пробу, он азартно царапал когтями и колупал клювом звездочки. Однажды, поклевав майорскую звезду Ржаного, развернулся и дернул хвостом прямо над погоном.
Пауза.
– Ах ты, петух гамбургский! – схватил попугая Ржаной. – Ты что творишь? Погоны совсем новые, только поменял.
– Др-р-рама! – вытаращил в ужасе глаза попугай.
– Это ещё не драма, – сказал Ржаной. – Драма будет, если из тебя, павлин ты индийский, какая-нибудь Мурка сделает чахохбили.
Ржаной выпустил из рук дрожащую птицу. Амазон тут же взмыл на гардину и послал ему:
– Пр-р-ривет!
– Пал Палыч, все смотрю я на твоё пернатое чудо и думаю знаешь о чём? – сказал быстро повеселевший майор.
– Н-не знаю, – протянул пьяный Пал Палыч.
– Любят цари и президенты, чтобы в гербах их стран непременно были орлы, ещё и с коронами на головах, – продолжал Ржаной, – а что толку? Всё одно – плохо живут люди. А вот есть, говорят, где-то такая страна, в гербе которой попугай, даже два попугая… Так там народ хорошо живёт, с утра и до вечера веселятся.
Пал Палыч в ответ лишь солово улыбался.
Становилось заметно, что, в отличие от своего питомца, Пал Палыч, наоборот, день ото дня глупел, напиваясь порой до такого состояния, когда уже не мог членораздельно произносить слова, а только издавал телячьи звуки, которые попугай не мог повторить. Жилье Пал Палыча уже стало и вовсе не жилье, а его подобием, пропиталось помимо обычных запахов водки, селедки и табака, ещё и аммиаком и выглядело до того неопрятно, что соседи даже брезговали переступать порог его квартиры. Зато вольготно здесь чувствовал себя попугай. В квартале, где жил Пал Палыч, о его друге попугае сочиняли целые легенды. И Пал Палыч, постоянно пьяный, был от этого счастлив необыкновенно, как ребёнок. Ему казалось, что за все прожитые годы не было у него большего повода для гордости, чем этот амазон. Он всей душой прикипел к попугаю и полюбил его той загадочной любовью, которая иногда возникает между людьми и братьями нашими меньшими, и которую постороннему трудно понять. Если бы у Пал Палыча была хотя бы пару минут трезвая голова, то, наверное, он смог бы объяснить эту любовь: в первую очередь глубоким одиночеством своей души, ожиданием всю жизнь чего-то необычного, яркого и доброго, как сказка, которой всегда не достает взрослым. Но и этой сказке с одним действующим персонажем – говорящим попугаем – пришёл конец. Жизнь чудо птицы закончилась неожиданно и трагически.
Пьяные утренние возлежания попугая на балконе давно приметил соседский кот. И как-то раз, когда Пал Палыч проснулся после утреннего похмелья и вышел на балкон покурить, то вместо попугая обнаружил кучку перьев.
Для Пал Палыча это было ударом более тяжелым, чем когда-то уход любимой женщины и даже выход на пенсию. Несколько дней он не покидал квартиры, мало спал, не ел, но много пил, переживая гибель друга. И это стало последней каплей для его уже и без того истощенного организма и ослабленной нервной системы. На четвертый день, после привычного стаканчика водки, ему внезапно показалось, что перед ним появился черный кот. Он не был похож на соседского, и таких котов он в жизни не видел. Он совершенно отчётливо видел перед собой огромные жёлтые глаза с удлиненными в прищуре зрачками и красный, облизывающий морду язык. Кот был необычный, больше самого Пал Палыча, потому что Пал Палыч почувствовал, что стал… попугаем. Спасаясь от преследования кота, он выскочил из квартиры в подъезд дома, потом на улицу, и стал просить помощи.
– Я попугай, спасите меня от кота! – вопил он, распугивая играющих в песочнице детей.
Очень быстро приехала вызванная кем-то специализированная бригада скорой помощи.
– Я попугай! – бросился к ним Пал Палыч, указывая куда-то перед собой. – Он хочет меня съесть!
– Конечно, попугай! Вам обязательно поможем, – успокаивал его врач. – Сейчас вас посадят в золотую клетку, и всё будет хорошо.
– Не хочу в клетку.
Пал Палыч, словно почувствовав опасность другого рода, стал от них убегать. Его догнали, надели на него смирительную рубашку и повели к машине. Он сопротивлялся и, подражая скрипящим и шипящим звукам попугая, кричал:
– Пр-р-ривет, дур-р-раки, др-р-рама!..
НАВАЖДЕНИЕ
(Рассказ)
В последнее воскресенье марта был праздник, вербное, поэтому народу в церкви собралось больше обычного. Вера Ивановна Засекина, в девичестве – Бездетная, из постоянных прихожан, не смогла пройти к иконе Богоматери Семистрельной, у которой обычно стояла, и как-то незаметно оказалась оттеснённой к распятию. 0на не то чтобы не любила это место, – в церкви везде хорошо, – но чувствовала себя здесь неуютно. Прямо перед нею находился большой деревянный крест, а на уровне глаз – Адамова голова, и казалось, что стопы Спасителя давят не только на череп первочеловека, но и на неё, подчеркивая и её бренность. Вере было неприятно, что приходилось смотреть на кости, а не на светлый лик Богородицы, который она привыкла видеть перед собою во время службы. И невольно возникали мысли о смерти, появлялось беспокойство за мужа и детей.
Время от времени кто-то протискивался к кануну, желая поставить свечу за упокой близких, но все подсвечники и все отверстия в большом латунном листе перед распятием были заняты, и многие оставались стоять с незажженными свечами в руках и с недовольными лицами. "Господи, да откуда же их сегодня столько-то?" – сказал кто-то рядом. "Мрет нынче народ, сильно мрет…" – подхватили тему другие соседи. А она, чтобы не видеть людей, в чьих глазах были печаль и суетливо-торжественная обеспокоенность тем, как отметиться в церкви, – опускала веки и слушала проповедь священника, который сегодня говорил о гармонии чувств, о прощении и о любви к ближним.
Гуляющие где-то наверху, под куполом, сквозняки порой срывались вниз, сдувая с кануна жар горящих свечей, и её обдавало густым теплом воска и мёда; у неё слегка кружилась голова и начинало казаться, что в потоке горячего воздуха Адамова голова оживает, смотрит на неё пристально своими мертвыми глазницами и пытается разгадать ее мысли, а вся проповедь священника обращена только к ней, Вере Засекиной. И она вздрагивала, напрягалась и ждала, что батюшка вот-вот укорит её за то, что неправильно живёт, что не пристало ей вместо любви испытывать чувство холодности к младшему сыну Алексею. Но батюшка не замечал и не выделял её в море вздыхающих и молящихся людей, а только благословлял всех и просил за всех об отпущении грехов и прегрешений. И она тоже думала, что до Пасхи обязательно должна сходить исповедаться и причаститься.
Очень долго, до тридцати лет. Вера Бездетная не могла выйти замуж, мечтая о семье, как, наверное, любая женщина её возраста, и ежедневно вспоминая о том, что жизнь ей дана вовсе не для одиночества. Но как-то всё не находился тот, кого рисовало её воображение. Красавицей она себя не считала: лицо у нее было круглое, в рамке золотистых волос, которые она всегда очень ровно и без оглядки на моду подрезала, сильно оголяя белую шею, обсыпанную, как и лицо, пятнами крупных веснушек. Небольшой, не лишенный изящества нос, пухлые губы, здоровый румянец делали её даже симпатичной, особенно были хороши большие, широко раскрытые, удивительного цвета первой весенней зелени глаза. Женихам, может быть, не нравилась её ширококостная, сбитая, словно у хорошего атлета, фигура; в ней чувствовалась вовсе не девичья сила, которой Вера обладала на самом деле, занятая на тяжелой, совсем не женской работе хлебопека. Девчонки, когда-то вместе с ней закончившие ремесленное училище, давно вышли замуж и растили детей. К замужеству в их среде относились просто. Вполне достаточным основанием для брака могли считаться и первая любовь, и совершеннолетие, и нечаянная беременность. Ни происхождением, ни социальным положением от своих подруг не отличаясь, Вера всё же оставалась среди них чужой. Со временем у неё даже начали появляться навязчивые мысли, что виной всему её фамилия – Бездетная, что не выйти ей никогда замуж, не иметь детей. Но, как в таких случаях иногда бывает, счастье оказалось совсем рядом и совершенно неожиданно явилось в лице сорокалетнего, одинокого, как и она, соседа, много лет проживающего рядом с ней, на общей лестничной площадке. До этого они только проходили мимо друг друга и здоровались, а однажды, на каком-то семейном торжестве, куда оба были приглашены соседями, их в шутку представили, как мужа и жену. Относясь в жизни ко всему очень серьезно и будучи немного суеверной, Вера увидела в этом особый знак. С присущей ей основательностью, с того времени она стала уделять соседу особое внимание – то отнесет тарелку пирожков, то при встрече подробно, как близкого знакомого, расспросит обо всех делах, о здоровье, а то и пригласит на обед, при этом простодушно, но по-женски интуитивно верно стараясь угодить вкусам немолодого холостяка. И так добросовестно его угощала, что соседу, Ивану Ивановичу, порой казалось, что он сыт еще с предыдущего обеда, необычайно обильного и вкусного, какими кормила его когда-то в детстве мать.
Постоянных мужчин у Веры Ивановны прежде не было. Об очень давней, первой в жизни связи в одном из домов отдыха, путевкой в который её когда-то премировали, она почти не помнила; чьё-то мимолетное желание при её тогдашней настороженности и боязни так и не пробудило в ней ответного чувства. Она и теперь не стремилась к близким отношениям, догадываясь, что какое-то целомудренное поведение Ивана Ивановича, – это скорее всего результат невероятной стеснительности и природной неуклюжести её соседа, воспитанного на здоровой морали и в уважении к женщине. Всё, что должно было случиться между мужчиной и женщиной, произошло у них как-то само собой и хорошо. Через три месяца к удивлению соседей, они на самом деле стали мужем и женой. Через год у них родился первенец Игорь, следом Сергей, а еще через пару лет их несчастье – Алексей.
Ещё в родильном доме, по какому-то жалеющему выражению лица медицинской сестры, принесшей на первое кормление Алексея, а потом и сама, по непропорционально сложенной головке ребенка, по его неестественно раскосым и широко посаженным глазам, поняла, что её младший сын – урод.
С тех пор, не имея возможности ни с кем поделиться сокровенным, она в мыслях всё чаще и чаще стала обращаться к Богу, а затем ходить в церковь, которую когда-то с праздным любопытством разглядывала, проезжая мимо на трамвае. А вскоре воскресные посещения храма стали для неё единственной возможностью забыться и уйти от повседневных забот и суеты; в такие минуты в её душе поселялась светлая и обманчивая вера, что всё устроится, образуется, она искренне молилась, прося у Бога здоровья своим близким и мира в семье. Однажды в беседе со священником Вера поделилась своей бедой, и тот, сделав какие-то подсчеты, сказал, что по-другому у неё и не могло быть, что она зачала Алексея в страстную пятницу, в канун Пасхи. После этого разговора чувство вины перед младшим сыном стало ещё сильнее, мучительнее, и она молилась, молилась, прося прощения за свое неведение, за свой грех и сделалась очень тихой и смиренной.
Выйдя из церкви с пучком пушистых веток вербы, Вера обернулась, поклонилась храму и, глубоко вдыхая свежий мартовский ветер, который долизывал остатки льда в тени домов и под деревьями, пошла к себе.
Сначала Алексей мало чем отличался от других детей. Вера ухаживала за ним, как всякая любящая мать за желанным ребенком. Так же, как и за первыми двумя. Потом комфортная и уравновешенная жизнь в семье стала медленно, но заметно нарушаться. Сын оказался маленьким чудищем, которое все время хотело есть. Утоляя голод, он так высасывал грудь и кусался, что минуты кормления превращались для Веры в сущую пытку. Он никогда не наедался, поэтому она заранее готовила молочную смесь, и ребенок, точно зверь мясо, рвал соску, опустошал бутылку, требовал ещё и ещё, и такой хваткой вцеплялся в волосы, что она даже мужа просила отдирать его, как клеща, от себя. Глядя в его совершенно бесцветные глаза с замутненной роговицей, она часто думала, – может быть, он делает всё это специально и ему доставляет удовольствие причинять ей боль, словно в отместку за то, что таким его родила. И он почему-то никогда не улыбался и не смеялся, как другие дети, а на лице его застыли сосредоточенность, равнодушие и холод.
Когда Алексею исполнилось полтора года, Вера Ивановна ощутила, что вместе с сыном в ней выросла отчужденность; больше не находила она в себе родственных чувств к нему, словно оборвалась незримая нить, которая, как пуповина в утробе, и после рождения продолжает связывать мать с малышом. Всё было так тяжело, что ночами, ложась ненадолго отдохнуть, она и во сне продолжала думать о нём.
Эгоизм получеловека, который поселился в доме, с годами набирал силу, и непонимание между нею, с одной стороны, мужем и детьми, с другой, росло и ширилось. Материнские чувства, помноженные на ощущение вины, заставляли её проявлять почти фантастическое терпение к изощренным пакостям, которые младший сын, словно нарочно, всем делал. От недосыпаний и переживаний её лучистые глаза поблекли, а румянец сменился серостью, как бывает у людей, подолгу не видящих солнца или много курящих. Все чаще и чаще она стала ловить себя на том, что не испытывает к Алексею любви; выработалась только привычка заботиться о нём, точно ходить на постылую и вынужденную работу; она опасалась, что с нею когда-то может случиться срыв, что материнские чувства окончательно сменятся злобой, ненавистью; она старалась гнать от себя подобные мысли, думала о лучшем, о возможном чуде, и ей ничего не оставалось, кроме как пускать свою жизнь на самотек будней и тихо грустить и радоваться, что прожила ещё день, ещё ночь. Вера без конца терзала себя страшной мыслью, что Алексей вовсе не её сын, что ей подменили ребенка, что он чужой и даже не человеческий. И часто ей снились кошмарные сны, после которых она просыпалась в холодном поту, но старалась никому о них не рассказывать, а только заставляла себя терпеть посланное ей судьбой испытание. Алексей, словно оправдывая её мрачные думы, продолжал вести себя как маленькое животное; он был похож на своенравную беспородную собачонку, совершенно не поддающуюся никакой выучке. Как только немного окрепли его кривые ноги, он с ловкостью обезьяны стал вскарабкиваться на подоконники. Первый раз она, испугавшись, что сорвется, сняла его. Он в ответ страшно злился, шипел и царапался, как кошка. Вера унесла его к себе, долго гладила по остриженной голове, а он продолжал отталкивать её и щипать, потом, устав, успокоился и уснул. Она, уложив его, еще долго сидела рядом, поглаживала по неровной, бугристой голове, по узенькой спинке, обтянутой мягкой байкой кофточки, плакала и думала: за что? почему? отчего с нею такое случилось, и чем она прогневила Бога?
А потом Алексей снова и снова лез к окну и смотрел на улицу часами. Вскоре это у него превратилось в любимое занятие, так что в его комнате Иван Иванович даже специально расширил подоконник. И, как ни странно, Алексей при этом не ломал цветы, только осторожно, с несвойственной ему аккуратностью, сдвигал в сторону, расширяя себе пространство, и, точно собака – незнакомый ей предмет, всякий раз осторожно и с каким-то удовольствием обнюхивал их. Только однажды, когда средний сын Сергей нарочно составил на подоконнике все имеющиеся в доме кактусы, Алексей уколол до крови нос и после этого перестал нюхать цветы. Он не мог говорить, и никто не знал, о чём он думает и думает ли вообще, просиживая целыми днями на подоконнике. Напротив, через дорогу, стоял дом довоенной постройки с обвалившейся штукатуркой. Рядом с ним какой-то предприимчивый человек пристроил красивый, из дорогих материалов магазин, у входа в который постоянно сновали люди. Алексей разглядывал их, как движущихся кукол, цокал языком, жестикулировал и время от времени издавал низкий и грубый звук: «Гы-ы, гы-ы!», – означающий только ему ведомый восторг. Врачи поставили младшему Засекину никогда ранее не слышанный Верой Ивановной диагноз, звучащий как приговор, как выстрел: имбецильность. К двенадцати годам Алексей имел большое туловище, короткие и кривые, как у степняков, ноги и похожий на утиный, тяжелый зад, который, казалось, перевешивал его самого – пройдя несколько шагов, он садился, предварительно потоптав ногами точно утка. Широкий корень носа и сильно расставленные раскосые глазки при толстых чувственных губах окончательно обезображивали его. Он знал около полусотни слов, которые, когда выговаривал, невообразимо коверкал, а если его просили повторить, злился, матерно ругался, что у него неплохо получалось, и домашние никак не могли взять в толк, где он этому научился, потому что в семье никто не сквернословил; потом сошлись на том, что плохие слова он мог услышать, сидя у окна при открытой форточке. Поначалу Засекины два года подряд нанимали для Алексея педагога и немало платили ему, пока учитель, пожалев их, сам не сказал, что они напрасно расходуют деньги. Интересов у Алексея так и не прибавилось, он по-прежнему больше всего любил сидеть у окна; только с годами, в пубертатном периоде, в нем стала заметно проявляться страсть к чувственным ощущениям и занятиям, за которыми его частенько заставала мать.
Квартира Засекиных состояла из четырех комнат и была предметом бесконечной гордости семьи. Алексею выделили самую маленькую, размерами три на три метра. Но туда лишний раз не заходили ни хозяин Иван Иванович, относившийся к младшему с брезгливостью, ни двое старших сыновей, которые сторонились и стеснялись людей из-за младшего брата. Эта комната была особым миром в их доме. Стены оклеивали самыми дешевыми обоями, которые приходилось раз в полгода менять, так как урод их разрисовывал, рвал и иной раз неприлично пачкал. У одной из стен стоял шкаф с бельем, у другой – кровать и маленький столик со стулом, – и вся комната была больше похожа на самый бедный гостиничный номер, где, казалось, не хватало для полноты интерьера сломанного черно-белого телевизора и радиоточки с голосом диктора, словно не успевшего опохмелиться с утра. В этой комнате на широком подоконнике и за столом, жестоко расчеркивая карандашами листы бумаги – единственное, что привилось Алексею после посещений педагога – он проводил всё свое время, выходя в другие комнаты изредка и только с разрешения членов семьи, к которым относился одинаково равнодушно, побаиваясь одного Сергея, никогда не упускавшего случая больно ущипнуть или толкнуть кулаком в бок урода.
А у Веры Ивановны, занятой большей частью Алексеем, оставалось совсем немного времени для мужа и старших сыновей. Иван Иванович как умный человек всё понимал и не роптал на такую жизнь. Но серая тоска, которая пробудилась словно от спячки в его несколько меланхолической натуре, стала больше и больше давать знать о себе, особенно, когда он оставался наедине со своими мыслями и не был занят работой. И начал он со временем из-за мягкотелости и слабости характера заглушать тоску водкой, да так этим увлекся, что Вера Ивановна стала за него опасаться.
Урод сидел на своем любимом месте, на подоконнике. Рядом, примостившись за столиком, – Иван Иванович. Перед ним стояла поллитровка "Русской", на блюдце надкушенный соленый огурец, а в руке он держал хрустальный стаканчик из набора, подаренного ещё на свадьбу. Треть бутылки Иван Иванович успел опустошить, снова налил, выпил одним махом, поморщился, с таким гадливым выражением, какое бывает у людей, не переносящих даже запаха водки, и громко хлопнул стаканчиком о стол.
Алексей повернулся на звук и посмотрел на отца.
– Что, Леша, интересно? – Иван Иванович хрустнул огурцом. – Я понимаю, как тебе скучно живется, весь день в четырех стенах. Но что поделаешь, брат, такой ты у меня и у твоей мамы получился, хотя ни у меня, ни у неё в роду не было таких.
В ответ Алексей снова отвернулся к окну, словно не желая поддерживать беседу; в лицо ему ударил луч солнца, выбежавшего из-за тучи, и он громко чихнул.
– Вот видишь! – сказал Иван Иванович. – Я прав! Не было у нас таких сроду. Но, наверное, это судьба. Как хорошо мы с твоей мамкой жили! Ах, как хорошо! Душа в душу. Даже не верилось в такое счастье. Но, похоже, верно говорят, что не бывает всегда хорошо. Так оно и вышло… Мать твоя из церкви теперь не выходит и сейчас опять там, в выходной день… Может, еще всё образуется, Леша? – Он внимательно посмотрел на сына. – Не чихаешь больше? Значит, не образуется, – с сожалением закончил он, махнул в сердцах рукой и снова потянулся к бутылке.
Напиваясь один на один с Алексеем, старший Засекин часто заводил подобные разговоры. Но уроду было не до философских тем. Он одну за другой разворачивал конфеты, принесенные отцом вместе с водкой, ел их не разжёвывая, потом тянул руку за огрызком огурца и заедал им сладости с чавканьем и сопением…
Придя домой, Вера Ивановна застала Ивана Ивановича спящим прямо за столом, на который он уронил свою седую голову. Она проводила его в спальню и уложила в постель. Алексея посадила рядом с собой и стала готовить обед, ожидая с прогулки старших сыновей. Весь мир для неё сосредоточивался в небольшой кухне, за окном которой стоял обычный день, для неё такой же безрадостный, как и все предыдущие дни, наполненные скучной и нескончаемой суетой, уносящей незаметно в небытие часы, дни, годы жизни. Водку, что оставалась в бутылке, она разбавила на четверть святой водой, принесенной из церкви, и убрала в холодильник. Этому научила её одна знакомая, и Вера терпеливо ожидала, что таким образом сможет отвадить мужа от увлечения спиртным. Проделывала она это не первый раз, но пока безуспешно. Иван Иванович только вздыхал, допивая на другой день бутылку, и сокрушался, что совсем никудышной стали делать водку, однако обмана не обнаруживал. А она всё ждала, когда предложенный ей способ спасения Ивана Ивановича возымеет действие и вернет ей мужа из забытья, в котором он постоянно в последнее время находился. Лишь когда он бывал трезв и они по старой, давно заведенной привычке по вечерам, лежа в постели, обсуждали накопившиеся проблемы, Вера, как могла, утешала мужа, говорила, что водка – это тоже горе, и горе очень даже большое. Она приводила ему в подтверждение множество примеров, убеждая, что ему вредно злоупотреблять, тем более, что у него не все ладно с сердцем, что он должен быть внимательнее к себе и жалеть и себя и её. Он соглашался с нею, говорил, что жалеет, что все тяготы семьи на ней, и почему-то просил у неё прощения, плакал из-за того, что сделал её несчастной, страстно и нежно любил, а потом засыпал, но уже через несколько дней снова в одиночку напивался и вёл с Алексеем свои нескончаемые пьяные беседы. А Вера Ивановна, уложив его спать, снова и снова вставала на колени перед образом Николая Угодника и под тусклое мерцание сиренево-красного язычка пламени лампадки молилась за мужа, за спасение его души и ограждение его от дурного мирского соблазна. Порой, забываясь в религиозном чувстве и потеряв ощущение реальности, словно и в самом деле оставалась наедине с Богом, как с равным, в сердцах начинала спрашивать его: почему он не спасёт Ивана Ивановича? Отчего дает ему медленно, но верно погибать?.. Потом, опомнившись, просила прощения, плакала и сожалела, что была слаба; видела перед собой указующий перст на иконе и вспоминала слова евангельского текста: "Ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "Зачем ты меня так сделал?.." Тогда ей становилось страшно, но она продолжала теплить в груди надежду, что всё у Ивана Ивановича ещё сложится, и снова ждала какого-то знака свыше.
И действительно, вскоре всё разрешилось, но не так, как она думала, а несчастьем, вошедшим в один из дней в дом, – не сказать, что совсем нежданно-негаданно, но все же внезапно. Однажды она пришла домой и, как и раньше, застала Ивана Ивановича спящим за столом перед выпитой до дна бутылкой водки, которую не успела разбавить святой водой. Его сердце не выдержало непомерной нагрузки, и он уснул. На этот раз навсегда.
III
Прошёл год. В мире многое изменилось, но в её доме всё оставалось по-прежнему, его видимое и невидимое пространство, казалось, принадлежало одному уроду. Не было места, где можно было укрыться от него, не слышать его зычного и настойчивого "дай ысть!" – спастись от вездесущих маленьких глазок, наполненных эгоистично-животным, как у приматов в неволе, огнем, кажется, одинаково ненавидящих всё живое и готовых уничтожить всякого, кто находится в лучшем, чем он, положении. И домашние тайно почти завидовали безвременно ушедшему из жизни Ивану Ивановичу, потому что он освободился от урода. Старшие сыновья теперь старались как можно меньше бывать дома, придумывая для этого порой самые нелепые причины. Вера Ивановна видела это, все понимала, но старалась молчать, полагаясь на волю Божью. Именно поэтому Игорь воспринял повестку из военкомата о призыве на срочную службу как неожиданный и счастливый лотерейный билет с выигрышем, который, по его мнению, должен был сделать жизнь лучше, интереснее, а главное, избавить его хотя бы на время от младшего брата Алексея. Игорь словно переступил незримый порог гражданской зрелости, и какие-то замечательные мужественные нотки вдруг зазвучали в голосе, и необыкновенно серьезной сделалась его речь, хотя в манере говорить ещё присутствовала наивность и слишком сильная доверчивость ко всему тому, что писали в газетах или говорили по радио и телеэкрана.
– Ты, мама, не переживай за меня, – говорил он. – Я недавно прочел, что нет лучше службы, чем служба в армии в мирное время. Два года пролетят незаметно, и я снова буду с вами.
– Может быть, сынок. Но время сейчас неспокойное. Какое же оно мирное, если идет война с чеченцами?
– Точно, мать! – встревал в их разговор Сергей. – Не пускай его служить, иди в военкомат и попроси, чтобы дали отсрочку. Скажи, что тебе с нами без отца трудно, покажи им справки Лёшки, а то Игоря пошлют воевать.
– Не мели!.. – Вера Ивановна отмахнулась от него. – Вечно что-нибудь сказанешь. Какой из него вояка? Там нужны люди с опытом, постарше.
– Ну ты даешь, мать! Какой опыт! Опыт нужен, чтобы не вляпаться, поэтому они туда и посылают дураков, которые ещё не соображают. Мать, ты совсем одичала с Алексеем.
Живя по принципу неотвратимости судьбы, что больше всего усвоила из церковных проповедей, объясняющий всё что угодно происходящее в мире волей божьей, Вера Ивановна ничего не стала предпринимать, а уже через три месяца от Игоря пришло письмо из Моздока, куда он попал по чьей-то злой и преступной воле. Было оно по-мальчишески хвастливо, наполнено эйфорией первых впечатлений от солдатского быта и новизны ощущений. Она стала ждать других писем, но их не было, и она просто изводилась в своем ожидании. Утренние бдения у окна на кухне, откуда был виден вход в их подъезд, превратились для нее в пытку. Едва завидев почтальонку, она спешно скатывалась вниз по ступенькам и, не дожидаясь пока та разложит корреспонденцию по ящикам, просила поискать в пачке писем одно – от ее мальчика. Вскоре почтальонка привыкла к её дежурствам у окна и ещё издалека, завидев Веру Ивановну, с сожалением разводила руками. И Вера Ивановна уже не мчалась, словно подросток, вниз по лестничным маршам, а плотно сжав бескровные, скорбные губы, шла заниматься домашними делами.
Стоял конец октября, и справа от крыльца вовсю горели жиденькие, потрепанные ветрами и мальчишками кисточки рябины. Она увидела, как из-за угла дома появилась почтальонка и, на ходу копошась в сумке, вдруг издали показала ей светлый квадратик. Не помня себя, прыгая через ступеньки. Вера Ивановна сбежала вниз. Волнуясь, как большую тайну взяла из рук почтальонки конверт и долго его разглядывала, никак не решаясь вскрыть. Перед глазами всё качалось от волнения и легкого головокружения, вызванного часто и гулко стучащим сердцем, и она никак не могла взять себя в руки, успокоиться, чувствуя в то же время, что с её сыночком все хорошо, все нормально, что письмо от Игоря, потому что на конверте его, именно его, слегка с наклоном вправо, почерк.
Это письмо сильно, как день от ночи, отличалось от первого. В нем уже не чувствовалось юношеского задора и хвальбы, а были рассудительность и еле уловимый испуг, даже не испуг, а недоумение, которое не может скрыть неискушенный человек, впервые столкнувшийся с суровой реальностью. Читая строчки, выведенные рукой её мальчика, она ощущала, как дрожала его рука, когда он писал; видела, как расширялись зрачки из-за недостатка света от слабой электрической лампочки в палатке, где он разместился с товарищами; воспринимала, как собственные, мысли, которые неожиданно посетили его светлую голову, и мучили его, и не давали покоя.
"Мама, милая моя мамочка!!! – писал он, ставя сразу три восклицательных знака и обращаясь к ней, как никто её не называл в семье. – Как же я тебя люблю и Сережу люблю, и Алешу, с которым ты, наверное, никак не отдохнешь. Никто меня здесь, мама, не обижает, хотя предупреждали о дедовщине; относятся хорошо, даже начальники с большими звездами. Мне только почему-то кажется, что таких, как я, сильно жалеют. Это не совсем приятно. Чувствуешь себя даже скверно, как какой-нибудь кроль. Помнишь, одно время мы держали на даче кроля, и он жил у нас всё лето, кормили его морковкой и капустой, а потом всё равно съели. Не хотелось бы быть таким же кролем. Всё, что здесь происходит, называют войной. Но я пока её не видел, а это больше напоминает полевые сборы по военному делу, которые были у нас в школе в десятом классе, когда нас вывозили за город. Разве что у меня настоящий автомат, и вчера целый день мы учились стрелять. Представляешь себе, мишенью был лист фанеры с изображенным на нем кавказцем в бурке; на его лбу нарисовали даже зеленую повязку исламиста. Я был не лучшим стрелком, но и не последним, меня даже похвалили. Наш взводный так и сказал: «Молодчина! Запомни на будущее, – если не выстрелишь вовремя, в тебя выстрелят, тебя убьют». А сегодня после обеда около нас остановилась машина с живыми, плененными чеченцами. Они, вообще-то, обычные люди, никакие не звери, как о них рассказывал наш полковник. Между собой, правда, разговаривали на своем языке, и ничего нельзя было понять. Среди них был один почти мальчишка, и я его угостил конфетами. Мне кажется, что он был голоден, сразу их съел. Кто-то из взрослых чеченцев стал ругать его, и он расплакался. Мне полковник тоже сделал замечание, что я, оказывается, не должен иметь контакт с врагами и вызывать в себе жалость к ним. Все это он сказал тут же, у машины, и мне было очень неловко, потому что чеченцы знают русский язык, и всё поняли. Но я на самом деле пока не испытываю к этим людям злости и никак не могу понять, из-за чего воюем, почему убиваем друг друга. Наш лейтенант мне говорит, что у меня злость появится, как только погибнет на моих глазах кто-нибудь из наших. А зачем погибать?.. Ну да ладно, как-нибудь разберусь во всём. Ты прости, что долго не писал, не было возможности, постоянно переезжали с места на место, и был сильно занят. Вот и сейчас стоим в поле, только что лейтенант объявил, что утром снимаемся, опять нужно будет собирать палатку. Мой знакомый шофер завтра едет в Моздок и опустит на почте это письмо. До свидания, мамочка. Крепко всех вас целую. Игорь".
Отложив письмо. Вера Ивановна устало опустилась на колени перед образом и пересохшими от волнения губами стала шептать слова молитвы. Потом она, по устоявшейся у неё привычке, стала беседовать с Господом. По её телу в религиозном экстазе время от времени прокатывался озноб, и она говорила себе в такие моменты, что Он услышал её, и просила Его сберечь Игоря, вернуть его домой целым и невредимым и укрепить в нём силу и дух, чтобы он перенёс все тяготы, которые выпали на его долю в такие юные годы. Еще она просила Бога прекратить войну и примирить людей, и все время задавала себе, как и её Игорь, вопрос: почему эта война, зачем? ведь в её городе ничто о ней даже не напоминает, и священник ни разу, ни на одной службе не упомянул о войне, будто и нет её вовсе, и не гибнут люди… Но, как и многие, не могла ответить.
Прошло две недели, и однажды поздно вечером в дверь постучали. Пришедший представился работником военкомата и передал просьбу комиссара посетить его. Она до самого утра так и не могла уснуть и думала, для чего её так спешно приглашают. И не было у неё в тот вечер никаких плохих предчувствий. Ничто, ровным счетом ничто не предвещало горя. Она безмолвно смотрела в потолок и слушала, как в своих комнатах тихо спит Сергей и всхрапывает Алексей; слушала, как из крана, который опять неплотно прикрыли на кухне, с большими интервалами срываются капли воды и падают на дно раковины, и разбиваются на мелкие брызги, отравляя этими звуками тишину в доме; слушала, как за окном вместе с полной и холодной луной поднялся сильный ветер и гонит, и кружит по черному асфальту обрывки отодранного где-то и застывшего на сухом морозе целлофана и остатки опавших, жестких листьев… Задремала она под самое утро и спала не больше часа, разбуженная криком Алексея: "Дай ысть!", – и встала с сильной головной болью.
Военный комиссар был похож на дьякона её прихода, с таким же толстым и астматическим лицом; поднимаясь ей навстречу, он шумно пыхтел, старался не смотреть в глаза и всё одергивал на себе китель. Потом неожиданно высоким, как у евнуха, голосом сказал:
– Мать, крепитесь! Ваш сын, – он поднес к глазам лист бумаги, – ваш сын Игорь Иванович Засекин погиб, выполняя свой солдатский долг и защищая конституционный строй нашей Родины!
Он положил на стол лист и посмотрел на неё в ожидании реакции, но… была пауза, а его слова, как мыльный пузырь, повисли в воздухе, и полковник боялся пошевелиться, чтобы нечаянно не взорвать могильную тишину. Когда у него уже больше не стало терпения сдерживать дыхание, из его большой жирной груди вместе с выдохом, как пробка из бутылки с кислым вином, выскочило глупое:
– Вот так!
Она поняла всё и сразу. Но будничная обстановка происходящего, скукотища и серость, витающие в воздухе огромного, как сам полковник, кабинета, не соответствовали её несчастью, не выводили из оцепенения, в которое она на минуту впала, и не позволяли поверить в реальность услышанного. Она только чувствовала, как сильнее стало пульсировать в висках, как неведомая, давящая, распирающая череп изнутри боль хотела вырваться наружу, но не могла, и это мутило её сознание, от боли начало тошнить, перед глазами пошли круги, в которые превращались и человек, стоящий перед нею в форме, и большая желтая с орлом пуговица на его мундире; потом круги стали между собой переплетаться и скатываться куда-то в темноту, увлекая за собой и ее…
А Игоря она так и не увидела. Гроб с его телом поставили в одном из залов военкомата. И на второй, и на третий день она продолжала пребывать в полуобморочном состоянии, но не уходила никуда из этого зала и всё никак не могла понять, почему ей не показывают её мальчика, почему упрятали его в деревянные доски и наглухо запаянную жесть. Ей продолжало казаться, что всё это происходит вовсе не с нею. Разум противился, не хотел соглашаться с тем, что сделали с её сыном, не хотел верить, что под слоями дерева и железа находится её Игорек, её первенец, а вернее, нечто тленное, аморфное и страшное, что от него осталось. Она вспоминала виденных ею в жизни покойников и никак не могла представить таким же сына. Он казался ей по-прежнему стройным русоволосым юношей, с редким, ещё не сбритым пушком над верхней губой, добрыми ласковыми глазами, в которые она любила его целовать, желая спокойной ночи, а он, засыпая, улыбался в ответ. И эта самая дорогая на свете улыбка, выхваченная из прошлого болезненным воображением, словно вспышка молнии в ночи, заставляла её содрогаться. Оглядываясь вокруг себя, словно ища его в комнате, она видела лишь гроб, тень от гроба, приглушенный свет лампы на столике в углу, и борющихся с дремотой дежурного офицера и врача, приставленных к ней заботливо в эту последнюю перед похоронами ночь. Её мысли невольно снова и снова, который уж раз за последние трое суток, обращались к Создателю. "Ну почему такое случилось? – спрашивала она. – Почему? Неужели нельзя было сделать так, чтобы он вернулся живой, даже раненый, калека, но живой… Плохо мне будет без него, Господи, только он после смерти мужа понимал меня и согревал душу. Сережа, – тот живет для себя, он стал черствый, совсем отбился от рук. Алексей… сам знаешь… Как жить мне дальше?.. Я так ждала Игоря, так надеялась. Боже. Ты же знаешь, как я его любила. Зачем ты и его отнял у меня? Неужели наказал за то, что любила его сильнее Алексея… Но это же несправедливо…" И она опять представляла себе Игоря живым; он вспоминался таким, каким провожала его в армию, и ещё совсем маленьким мальчиком, когда ему было четыре года… Тогда из-за ненастья он не мог пойти на улицу погулять, сидел у окна, по которому стекали капли дождя, и, глядя на неё, грустно-обреченную, у кроватки недавно народившегося Алексея, сказал слова, которые она почему-то всю жизнь помнит, и теперь они вновь пришли ей на память: "Мама, я знаю, почему плачут люди, потому что на улице дождь и им скучно сидеть дома".
IV
Прошло ещё два года. Вера Ивановна почти не изменилась, у неё только прибавилось седины, которая, впрочем, ее даже красила. Сама она считала, что отжила свое, по крайней мере, её жизнь потеряла всякий смысл вместе с гибелью старшего сына. Видя царящие вокруг насилие и ложь, она почти не интересовалась тем, что происходит в стране, никого не осуждала, полагая, что не имеет на то права. Но очень обрадовалась, когда услышала, что закончилась война с чеченцами, и в тот же день долго молилась за безвременно усопших и заблудших живых, чтобы никогда не повторялось безумие, называемое войной. Она считала, что Бог оставляет её жить только из-за Алексея, отдать которого в интернат, как ей все советовали, было для неё делом постыдным и богопротивным. Она еще жила и для Сережи, который, правда, последнее время сильно от неё отдалился. Скрытность его характера удручала её, она очень мало или почти ничего не знала из того, чем и как живет ее средний сын, а все попытки ближе узнать его мир наталкивалась на холодность, она об этом очень и очень сожалела, и искала причину в себе, думая, что в какой-то момент была с ним недостаточно ласкова. Между ними часто происходили конфликты, но она старалась быть мудрой, а Сергей, как обычно, горячился и был слишком самоуверен и самонадеян. И все же сердцем матери она чувствовала, что это у него гордыня, а на самом деле он очень одинок и как никогда нуждается в ней.
Разлад между ними случился после одного спора, во время которого она услышала от сына то, чего никак не ожидала и что её обескуражило и огорчило. В тот вечер Сергей перед сном по привычке читал книжку полулежа на тахте. Было так тихо, что отчетливо слышались удары о стекло крыльев ночных бабочек, слетающихся на свет настольной лампы. Раньше он любил слушать слова молитв матери и засыпал под них, мало понимая смысл, потому что мать, при всей её набожности, никогда не заставляла его и брата ходить в церковь и зубрить катехизис, полагая, что они когда-нибудь сами должны прийти к вере, и только тогда вера навсегда войдет в их жизнь. Теперь его заинтересовал голос матери, словно она с кем-то разговаривала в соседней комнате. Он отложил книгу и подошел к дверям её спальни. "…Господи, – услышал он её громкий шепот, – Ты свет нашей земной жизни! Указываешь дорогу заблудшему и укрепляешь в силах уставшего. Укрепи и меня и наставь на путь праведный, путь заповедей твоих вечных. Прошу тебя. Господи, сделай так, чтобы ничего больше не случилось и не омрачило жизнь семьи моей. Ты знаешь, что я всегда старалась и стараюсь поступать так, как Ты велишь, и это правда. Но то ли совсем устала я, то ли нашло на меня в последнее время что-то, порой я поступаю так, как не должна поступать… Вот и сегодня села в трамвай и пока замешкалась, приехала на свою остановку и выходить уже нужно, а проезд-то не успела оплатить. Думаю, следующий раз обязательно отдам кондуктору за два билета. Выхожу, а контролёр откуда ни возьмись – вот он, смотрит на меня, а я-то уже на улице, и трамвай пошел-покатил. И так стало мне совестно перед той девочкой-контролером, хоть сквозь землю провались! И так я расстроилась, так задумалась, что, когда заходила в магазин, прошла первый раз мимо просящего и не подала ничего. Ну, думаю, подам ему при выходе монетку, а его уж и нет, сердешного. И так вот день мой сегодня прошел, и никак не забуду глаз кондуктора и горемыку у гастронома… Еще, Господи, беспокоит меня Сережа, сын мой. Не знаю, как к нему подступиться. Больно неожиданные для меня его большие деньги. Оно, конечно, неплохо, что живем в достатке, но чует моё сердце, что не к добру всё это. Господи, научи его, отведи от него беду. Один он разумный человек рядом со мною, не с кем мне больше и словом живым перемолвиться".
Она трижды перекрестилась, встала с колен, поправила на плечах платок и направилась к дверям, чтобы проведать перед сном Алексея.
– Мама, ты все молишься? – полушутливым тоном сказал Сергей, уступая ей дорогу. – Я просто с ума схожу от твоей наивности. Ну не нужно Его за меня просить! Мне кажется, что Богу уже и так надоело выслушивать людей с их бесконечными просьбами, а они все просят и просят, а взамен-то ничего не дают. Он, может быть, ни в чем и не нуждается, но, думаю, древних он любил больше, чем современных людей. Те ему хоть приносили жертву, и это было приятно… Ты и за отца просила, и за Игоря – что толку?
– Не богохульствуй, Сережа, прошу тебя! Это твое дело – верить или нет, но никогда не говори ничего плохого на Бога. Я ведь уже просила тебя об этом… А, вообще, сынок, нехорошо подслушивать.
– Прости. Не хотел, так получилось. Но мне действительно тебя жаль, особенно, когда ты каешься в своих грехах. Смешно было слушать, как ты корила себя за то, что однажды проехала в трамвае бесплатно и не подала милостыню. Может быть, ты еще вспомнишь, сколько булочек съела, когда работала на хлебозаводе и не написала заявления бухгалтеру, чтобы он вычел их стоимость из заработной платы… Это не грехи, мама! Пустят тебя с такими прегрешениями в рай, вот посмотришь, пустят. Кого же еще туда пускать, если не таких, как ты? А совсем бескорыстных людей нет, каждый что-то думает заполучить. Сказать, что совсем бескорыстный, – это то же, что сказать – безгрешен. Твои бы проблемы моему шефу Калмыкову. Ведь знаю, что нравится он тебе, сама говорила, в пример ставила. Промолчал я тогда, мама, рассказал бы – расстроил только. Калмык мудрый человек, с холодным рассудком, но неразборчивый в средствах для достижения своих целей, как все умные мошенники и честолюбивые начальники. Пустить пыль в глаза – для него всего важнее, потому как, что бы ни говорили, а он знает очень хорошо, что встречают по одежке и провожают тоже, ум нынче не в цене, хитрость – ещё куда ни шло. И даже манерам своим он за немалые деньги учился в каком-то салоне. Калмыков – это же сплошное самолюбование! Но всё это, мама, как и его галстук-бабочка, – оболочка. Таких респектабельных теперь развелось – у-у-у! – сколько. И все они из народа. Кто из бывших спекулянтов, кто из бывшей номенклатуры, кто из спортсменов и жуликов, но в одночасье все они стали новыми предприимчивыми людьми и опорой нынешнего государства. У Калмыка казино. Сам он из картежных шулеров и много лет тайком играл по гостиницам, по санаториям и домам отдыха. И сейчас с ним вместе трудятся ещё два таких же ловкача и дурачат тех, чье настроение поднимается только при виде денег. Ещё у него доход от сбора с лавочников. А я, мама, как ты знаешь, у него шофер, и он мне очень хорошо платит, и у нас полный холодильник. Получается, что и я не совсем честный человек, хотя никогда и никого ещё не тронул. Калмык меня почему-то бережет. И Калмыков, мама, ходит в церковь, и ты его там видела, и он дружит с вашим попом и с ним же водку пьет, потому что это выгодно для попа, а для Калмыка модно водить знакомство с попом. Но я наверняка знаю и то, что по ночам никто из них совестью не мучается. А знаешь почему? – Его голос зазвучал откровенно ёрнически. – Потому что Калмык в трамвае не ездит и в церковь ходит с бокового входа, куда я его подвожу, где не сидят нищие, собирающие рубли у парадного крыльца. Так-то вот, мама! Ты меня, конечно, осуждаешь, но так стали жить почти все, и все считают это нормальным. И я не пойду работать по своей специальности фельдшером на "скорую помощь", чтобы сутки сидеть на колесах и ничего за это не получать. Значит, я зря учился на фельдшера, и такой не нужен своей стране, а нужен Калмыку.
– Господи, что только ты наговорил! Если бы это могли слышать твой отец и старший брат.
– Будь жив Игорь, он понял бы меня и даже не стал бы возражать. Я, может быть, в чем-то не прав, в душе против всей этой грязи. Человек, наверное, должен жить честным трудом, но, мама, эту сказку выдумали всё же для дураков, чтобы они работали на тех, кто её придумал, и умные хитрецы пользуются этим с тех пор как живут на земле люди. В жизни всё не так, как тебе рассказывают в церкви. И церковному начальству нужны такие же смиренные дураки, с ними легче справляться. Я, мама, хороших людей почти не встречал, может, ты одна и есть такая со своей совестью, потому и страдаешь, и мучаешься.
– Ладно, сынок, живи своим умом. Я только знаю, что ты вовсе не такой, как сейчас всё преподнёс, Бог даст во всём разберешься, но мне очень горько, что ты говорил эти плохие слова. Я буду за тебя молиться, чтобы ты не думал и не поступал плохо. Сейчас пора спать.
А однажды Сергей в квартиру явился не один, с женщиной, которая была заметно его старше. Вера Ивановна этому уже не удивилась, воспринимая как неизбежное, с чем следует соглашаться ради мира в ее доме.
– Лариса Калмыкова, – очень просто, без малейшего стеснения представилась женщина, пошла за Сергеем в его комнату и осталась на ночь.
А Вера Ивановна долго мучилась в постели, вспоминая что-то знакомое в этой женщине, но так и не могла припомнить, и только утром её осенило, что у нее фамилия тоже Калмыкова.
– Сережа, – спросила она сына, – а твоя девушка не родственница Калмыкову, вашему начальнику?
– Родственница?! – переспросил он, загадочно улыбаясь. – Она его жена.
От неожиданности Вера Ивановна села в кресло, потом закрыла ладонями лицо и на какое-то время словно онемела от охватившего её стыда за сына.
– Мать, успокойся. Поверь, для него она не больше, чем те вещи, которыми он любит себя окружать. Не понимаю только, для чего он оформил с нею официальные отношения. Она хорошая женщина, а с ним ей очень плохо. Я её люблю, и она меня любит, и мы имеем договоренность, что Лариса оформит с Калмыковым развод, а мы поженимся, даже обвенчаемся в церкви. Было заметно, что он волновался из-за неприятного для него разговора, всё время прохаживался по комнате и жестикулировал. Потом вдруг подошел к дверям, ведущим в коридор, и щелкнул в нос Алексея, который сидел всё это время под дверью на корточках и внимательно слушал их. Сергей плотно прикрыл дверь и обернулся к матери:
– Ты не замечаешь, что наш дурак в последнее время взял за привычку подсматривать, словно что-то соображает?.. В общем, мама, не страдай, всё будет нормально, дай только немного времени – разрешить этот вопрос.
А время, безразличное к земным радостям и горестям, как слепого вело Сергея по жизни, но ему казалось, что он сам творец своей судьбы, и завтра и послезавтра будет жить как хочет, подчиняя себе любые сложности в отношениях с окружающими. Однако, как и все люди, он заблуждался, наивно полагая, что для этого в нём достаточно непоколебимости, прагматичности и жесткости.
На самом деле его харизматические качества могли проявляться лишь в отношении слабого, такого, как, например, Алексей, которого он однажды сильно избил, когда заметил, что тот продолжительное время, затаившись в простенке, подглядывает сквозь плохо прикрытую дверь спальни сцену любви брата с Ларисой. Сергей выскочил в коридор к Алексею, который радостно хлопал в ладоши, тыкать пальцем в сторону Ларисы и несвязно бормотать: "Леса тозе хоцет, Леса хоцет, как Сереза…" Сергей в ответ ударил его изо всей силы кулаком в лицо, разбив в кровь нос, потом сбил с ног и с каким-то исступлением, словно дождался случая выместить старую злобу, стал наносить беспорядочные удары ногами младшему брату.
В одну из следующих ночей Сергей ночевать домой не пришел. Вера Ивановна, привыкшая к его поведению, на этот раз долго не ложилась спать, испытывая какой-то дискомфорт. Когда легла, не могла уснуть из-за хронической бессонницы, только под утро словно куда-то провалилась и видела тяжелый и мучительный сон. К ней приходили покойные муж и Игорь. Во сне, как наяву, она ощущала реальность происходящего, их присутствие. Они молчали, потом Игорь сказал, что ему одному скучно без братьев. Она хотела его убедить, что так говорить нельзя, что он покойник, а братья его живы, но никак не могла выговорить ни одного слова, точно ей скотчем заклеили рот. Потом они исчезли… Во время завтрака, сидя за чашкой чая, она вдруг заметила медленно спускающегося с потолка, невесть откуда взявшегося чёрного, похожего на кусочек шевелящейся на ветру сажи, паука и увидела в этом плохую примету, знак дурной вести. Но, как и раньше, никому не стала звонить в поисках сына, думая, что вот-вот он появится сам. Но время шло, а его всё не было. К вечеру к ней приехал работник милиции и сильно извинялся, что побеспокоил, но ничего не объяснил, а только твердил, что ему приказано её отвезти. Они так и ехали всю дорогу молча. Когда машина миновала здание милиции, она решила, что с Сергеем произошло нечто гораздо худшее, чем сначала подумалось. А после того как автомобиль подъехал к городской больнице и свернул во двор, она сразу всё поняла, но не заплакала и даже сама этому удивилась. Лишь когда повернулась к водителю, ей, как и в недавно виденном сне, совершенно перестал повиноваться голос, и она не могла задать своего вопроса, но водитель, похоже, сам его прочёл в испуганных глазах, на побелевших губах, и сказал только три слова: "Да, это морг".
Потом для неё снова всё было, точно во сне: кладбище, где, кажется, даже деревья и травинки разговаривали между собой не так, как в поле или в лесу, а словно люди – подчёркнуто-вежливо, шёпотом и фальшиво. Она не думала, что у сына столько друзей. В основном это были молодые, хорошо одетые люди, многие на дорогих автомобилях. Они говорили речи о том, что её сын – замечательный человек, прекрасный товарищ и что их долг – найти подлого убийцу, прервавшего его красивую жизнь. И у многих из них действительно была печаль на лицах и тоска в глазах. И среди них был их старший товарищ Калмыков. Но он молчал, и лицо у него было какое-то бледно-желтое, как у печёночника. Только, когда начали забрасывать землей гроб в могиле, он вполоборота повернулся к испуганно съежившейся, какой-то потерянной Ларисе, которая постоянно прикрывала ладонью опущенные глаза, и сказал ей вполголоса: "Убери руку, смотри и запомни!" А Вере Ивановне было даже как-то совестно перед Калмыковым за ту правду, которую, как она думала, кроме неё никто не знает, о его жене и своем сыне, и она старалась не смотреть на него; перед глазами продолжали мелькать только чьи-то руки, лопаты, комья земли, мягко ложащиеся в могилу. Время от времени её взор застилала набегающая слеза, и тогда всё сливалось в сплошную сизую пелену. Она утирала платком слезы, старалась проморгаться, чтобы ничего не забыть, запомнить последние мгновения скорбного кладбищенского действа, и в какой-то момент её взгляд выхватил блеск металла на руке одного из компаньонов сына. Она пригляделась к руке, ловко орудующей лопатой: сомнений не было – это был перстенек Сергея с гравировкой подковки на счастье. Именно этого перстня не было на безымянном пальце погибшего, когда она его опознавала в морге. От изумления её словно парализовало. В это время нового владельца перстенька подозвал к себе Калмыков и стал ему что-то наказывать, потом отослал, а сам подошел к ней, совершенно опешившей, потерянной, начал говорить слова соболезнования… Она слушала с полуоткрытым от изумления ртом, не верила происходящему, своим глазам и вдруг возникшей страшной догадке об истинных виновниках смерти Сергея… В её зеленых глазах загорались искорки блуждавшего долгое время рядом и наконец-то настигшего безумия; она стала неистово, как от черта, открещиваться от Калмыкова и бросилась прочь с кладбища.
V
Шла она быстро, сначала проселочной дорогой, потом окраинными городскими улицами и переулками, и, казалось, отрешенная от всего мира, просто блуждала. Однако ноги сами несли её домой. Косые лучи рано заходящего сентябрьского солнца подсвечивали рваные, плотно лежащие на горизонте облака, и они походили на затухающий костёр, сквозь пепел которого проглядывал огонь. Она подумала, что если дотронуться до облаков, то можно обжечься. От этой мысли и быстрой ходьбы ей стало жарко: она освободила от петелек верхние пуговицы наглухо застегнутой шерстяной кофты и развязала давно сбившийся платок. Все события последних лет смешались в её голове; она думала о том, что всю жизнь старалась жить, и жила, не ссорясь ни с кем, в ладу с собственной совестью, этому же учила детей. И где, когда и почему в монолитном, как ей казалось, укладе жизни семьи образовалась трещина, а в ней проросли занесенные неизвестно откуда семена зла, которые окончательно разрушили фундамент? Чем больше об этом думала, тем мучительнее понимала, что не имелось на этот вопрос ответа.
Высаженные вдоль тротуара и разросшиеся за лето молодые клёны больно ударяли ветками в лицо, но она продолжала почти бежать, не отворачиваясь и не уклоняясь от них, не обращая внимания на прохожих, которые оглядывались на сильно спешащую, взъерошенную, с горящим взором женщину. По опыту прожитых лет Вера знала, что для посторонних она – не больше, чем объект праздного любопытства, что совершенно безразлична им, как бывают безразличны чужое горе и боль, что они забудут о ней уже через несколько минут, как только доберутся до своих квартир, включат телевизоры или столкнутся с собственными проблемами. Ей вспомнилась виденная однажды сцена. Стояла глубокая осень, дорога и тротуары тонули в месиве из грязи и снега. Среди десятка людей, ожидающих на остановке автобуса, был немолодой и к тому же больной церебральным параличом мужчина. Из-за нарушенной болезнью координации движений ему вдвойне трудно было передвигаться по асфальту, словно намазанному смальцем. Вдруг его лицо перекосилось в страшной гримасе, видимо, от судорог, он неуклюже взмахнул руками и повалился на дорогу. Она бросилась к нему, чтобы помочь подняться, но поскользнулась сама и больно ударилась коленкой о бордюрный камень. Попыталась затем поднять человека, однако он оказался очень тяжёлый, и она обернулась за помощью к стоящим. Но одни отвернулись ещё раньше, занятые собой, словно ничего не заметили; другие отошли в сторону с брезгливостью на лицах оттого, что им придется испачкать руки; кто-то обронил, что упавший пьян и им должна заниматься милиция. А несчастный не мог ничего сказать, не мог даже пошевелиться, но всё слышал и видел, и из его растерянных глаз катились слезы. А она потом часто вспоминала этот случай и думала о том, как бы самой когда-нибудь так же вот не упасть на улице и просила Бога не посылать ей такую смерть.
Она проходила мимо кафе и через окно увидела, что там заканчивают сервировать столы для поминального обеда, заказанного Калмыковым; прибавила еще шагу и свернула на свою улицу. Дома были Алексей и старушка-соседка, которую оставили за ним присмотреть.
– Ты уж, Марковна, извини, что задержала тебя. – Она достала из холодильника пакет с продуктами, бутылку водки. – Вот, возьми, помянешь моего Сережу.
Когда соседка ушла, она тяжело опустилась на колени перед образом, устало закрыла лицо ладонями и замерла в немой беседе с Тем, кто только и мог разделить её горе.
– Прости, Господи, – шептала она, – Ты так устроил человеческую душу, что когда у неё радость, то и делится она ею с людьми, а когда ей плохо, – обращается только к Тебе за помощью и утешением. Всё в руках Твоих и по Твоей воле, и мы, безумные в помыслах и делах своих, за гордынею нашей забываем вечные и простые истины, пренебрегаем ими, полагаясь самоуверенно на наши силы, на самом деле все это – немощь и слабости наши. Вот и мой сын Сережа заплатил, наверное, слишком дорогой ценой за слабость духа и тела своего, за беспечность и недолгое, обманчивое удовольствие. Прими, Господи, душу его грешную и прости его…
Она долго отбивала поклоны, несколько раз читала "Отче наш". После молитвы, казалось, становилось легче, но в глазах сохранялась глубокая печаль, и в голове снова и снова нарождался мучающий неотступно вопрос: почему Всевышний послал ей, не заслуживающей особого внимания, живущей простой жизнью женщине, такие испытания? И почему не вступятся за нее святые угодники?.. Но Николай Чудотворец смотрел с образа мимо неё на стоящую в углу комнаты этажерку с фарфоровыми фигурками, страсть к собиранию которых имела Вера Ивановна. Святому было, наверное, обидно, что человек не ему, а каким-то разрисованным яркими красками игрушкам уделяет своё внимание. И он был по-патриарши серьезным, а его почему-то синяя борода, лежащая на серебряной ризе, казалось, шевелится, как живая, в играющем на стекле киота свете от желтого язычка лампадки. И он оставался безмолвным, а может быть, и сам не знал, как ответить на её очень непростой вопрос. Она застыла в покорном смирении, а в её голове, как в калейдоскопе, продолжали кружиться картины воспоминаний. Она видела себя идущей под венец, видела Ивана Ивановича, с помощью которого из Веры Бездетной стала матерью троих ребятишек. Вспоминалось бесконечно радостное настроение, с каким она когда-то жила. Но сейчас, по прошествии многих лет, оно казалось таким быстротечным и коротким, словно это всё было не с ней, а с кем-то другим. И снова она ловила себя на давнишней, подспудной мысли, что Алексей – причина всех её бед, что так было предопределено Богом, ведь она от роду носит фамилию "Бездетная", значит, и должна остаться такой. Эта внезапная мысль заставила её содрогнуться. Она открыла глаза. В комнате было всё так же тихо; Николай Угодник глядел по-прежнему сурово, и она, в смущении за грешные мысли свои, снова закрыла глаза, переставив на полу немеющие от долгого стояния коленки. Но измученный переживаниями и воспаленный после двух бессонных ночей мозг опять и опять выталкивал мысль, что её счастье рухнуло с рождением последнего сына. "Ты бездетная, бездетная", – твердил внутри неё чей-то голос. "Почему же я бездетная? – спрашивала она. – У меня есть еще сын". – "Не твой это сын, не твой", – снова повторял ей кто-то. "Может, и впрямь не мой… Может, от лукавого?.." – испуганно думала она. "Да, да, да! от лукавого, от него", – подтверждал голос, и она начинала верить ему, и её потихоньку одолевал страх. "Как же раньше я сама не догадалась?" – спрашивала она и себя, и того неизвестного, который раскрыл страшную тайну. Она медленно открыла глаза и вздрогнула: прямо с иконы на неё смотрел не Николай Угодник, а Алексей. "Богохульничаешь, окаянный?!" – крикнула она и, не чувствуя боли, ударила кулаком в изображение сатаны, обернувшегося даже на иконе её Алексеем. Кто-то совсем рядом раскатисто засмеялся, и она, когда обернулась, увидела, что это сам Алексей. Он ещё раньше прокрался в её комнату и стал позади неё и чуть сбоку, отражаясь в стекле киота. Вера Ивановна снова перевела взгляд на образ, на выпавшие и валяющиеся вокруг осколки стекла, потом опять на икону, с которой теперь уже укоризненно смотрел Николай Угодник.
