Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
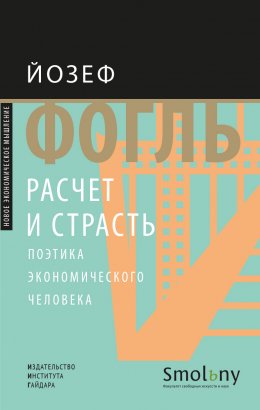
Joseph Vogl
Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen
© 2002, diaphanes, Zürich – Berlin
© Издательство Института Гайдара, 2022
Предисловие
Когда новогвинейский папуас из племени арапешей выходит из своей хижины, его взгляд останавливается на нескольких кокосовых и бетелевых пальмах, которые ему не принадлежат. Он не притронется к их плодам. Он попробует их лишь с позволения владельца или лица, которому владелец предоставил на это особое право. Свиньи перед входной дверью, которых кормит его жена, также принадлежат одному из его или ее родственников. При этом мы должны знать, что этот мужчина-арапеш обычно живет в двух или трех разных деревнях, в шалашах, в хижинах вблизи охотничьих зарослей или хижинах рядом с его саговыми пальмами, однако значительную часть своего времени проводит и на земле, которой сам не владеет. Временами он охотится в буше своего племянника или шурина, а в собственных угодьях он, в свою очередь, может охотиться только в сопровождении других. Свое саго он получает как из чужих, так и из собственных насаждений. В его доме имеются весьма ценные вещи – большие сосуды, резные тарелки и хорошие копья, которые он, однако, уже передал своим сыновьям, даже если те еще совсем маленькие. Его собственные свиньи находятся далеко отсюда, в других деревнях. Его собственные пальмы разбросаны на три мили в одном и на две мили в другом направлении. Еще дальше отсюда его саговые пальмы; широко и далеко разбросаны и различные его огородные грядки, находящиеся по большей части на земле чужих людей. Мясо, коптящееся над огнем, добыто и передано ему кем-то другим: братом, шурином или племянником – поэтому он имеет право съесть его со своей семьей. Или же это мясо, которое он сам добыл на охоте; в таком случае он коптит его лишь для того, чтобы подарить его кому-то другому, поскольку есть собственную добычу, даже если это крошечная птичка, преступление, на которое идут лишь отверженные (которые сверх того еще и душевнобольные). Даже если дом, в котором он по большей части живет, принадлежит ему самому, столбы и доски в нем взяты из домов других людей, домов, которые были разобраны или покинуты. Дерево, так сказать, одолжено. Поэтому он не станет отпиливать чердачные балки, даже если те чересчур длинные, ведь позднее их используют другие для домов иных габаритов.
В этом мире, который таким или сходным образом описывала Маргарет Мид, а это описание, в свою очередь, интерпретировал Карл Поланьи, имеет место весьма своеобразное распределение вещей, благ, действий и отношений. Отдельное действие кажется разбитым на части и отнесенным к самым разным местам, и даже вещи и изделия лишены элементарных свойств объектов, которыми может владеть тот или иной человек[1]. Они доступны, пригодны к употреблению и полезны лишь потому, что в них пересекаются самые разные притязания и права самых разных лиц и групп. Даже если здесь осуществляются сделки или виды деятельности, которые можно назвать экономическими: возделывание земли, охота, ремесло, потребление, разделение труда между мужчиной и женщиной, то едва ли мы сможем найти такую точку зрения, позволяющую увидеть в них какое-либо хозяйственное единство. События, по видимости, являющиеся частями одного и того же процесса, остаются мозаично фрагментированными, а ситуации, в которых нечто дается и берется, изготовляется и приобретается, чрезвычайно тесно связаны с действиями и опытом совершенно другого рода. Элементы хозяйственного обращения включены в неэкономические институты и отношения, они встроены в контекст родства, брака, религиозных и публичных церемоний, благодаря которым поддерживаются и определяются такие виды деятельности, как производство и обмен. Таким образом, даже если в историях подобного рода и можно увидеть обилие локальных и предметных операций, гарантирующих поддержание жизни людей, лоскутный ковер из этих разнородных ситуаций и видов активности невозможно свести к единому гомогенному экономическому порядку[2].
Такие понятия, как труд и собственность, очевидно, недостаточны, чтобы определять границы вещей и действий, а также отношения людей и предметов. Тем самым этот повседневный мир аборигенов Новой Гвинеи, как представляется, наносит удар сразу по нескольким нашим иллюзиям. Ведь это иллюзия, будто условия экономической жизни складываются или эволюционируют от простых актов к сложным связям, от элементарных отношений к комплексным системам. Материальный и экономический мир упомянутого выше мужчины-арапеша является сложным и комплексным именно в своей повседневности, он отличается тем, что любое простейшее действие, направленное на получение материальных благ, или самый нехитрый обмен распадаются на многообразие социальных, родственных или ритуальных структур и элементов. Пространственное распределение предметов, правила их использования и передача прав характеризуют мир, который столь же упорядочен, сколь и необозрим, однако необозрим он только для взгляда, неспособного проводить те тонкие различения, с помощью которых люди живут и ориентируются в этом порядке вещей. Тут нет какого-либо общего пространства, в котором можно было бы собрать множество объектов, представив его как экономическое. Поэтому рассказ об арапеше развеивает и другую иллюзию. Ведь здесь не происходит ничего, что могло бы соответствовать обладающей внутренней связностью «экономике» или какому-либо «экономическому» опыту. Разумеется, в новогвинейских деревнях имеются торговля и собственность, различные виды производства материальных благ и циркуляция вещей. Однако в них отсутствует или, точнее, просто не существует экономического действия в строгом смысле, отсутствуют вещи, действия и поведенческие модусы, которые именно потому связаны и соотнесены друг с другом, что они являются экономическими. Здесь отсутствует, не существует и даже не предвидится «экономический человек». Эта повседневность сбивает с толку, ибо таких критериев, как обладание и не-обладание, собственность и полезность, труд и присвоение, оказывается недостаточно, чтобы постичь наличие, распределение и циркуляцию материальных предметов.
Удивление и сомнение этого рода положили начало работе над предлагаемым сочинением. Они напомнили о том простом обстоятельстве, что экономику, которая уже долгое время определяет самопонимание и судьбу людей Запада, нельзя свести ни к природе вещей, ни к так или иначе толкуемой природе человека. Понятие и предмет экономики исторически ограничены. Лишь начиная с эпохи Просвещения понятие «экономика» стало обозначением для хозяйственных реалий в узком смысле; и лишь в XVII столетии был перейден рубеж, после которого самые разные сведения о человеческом общении, о поведенческих модусах и желаниях, о богатстве и благосостоянии, о политическом правлении и социальных закономерностях соединились в более или менее когерентный конгломерат знаний. Если экономику можно понимать как упорядоченную систему, которая в течение последних столетий охватывает отношения между людьми, между вещами и между людьми и вещами, то данному исследованию должно было предшествовать несколько элементарных вопросов: с какого времени и на каких основаниях можно вообще говорить об экономическом факте? Каково то эмпирическое поле, которому подходит характеристика экономического? Какие события эта экономика считает релевантными и связывает вместе? Какими законами они упорядочиваются и координируются пространственно и темпорально? Какие поведенческие модусы и аффекты при этом считаются желательными, а какие неприемлемыми? Что такое экономическая рациональность? Что представляют собой те правила, в соответствии с которыми организуются процессы обмена и коммуникации, и какой код структурирует сопутствующее им обращение знаков?
Даже если на все эти вопросы невозможно дать удовлетворительных ответов, они открывают нам определенную, ограниченную с двух флангов – как исторически, так и предметно, – область исследования. На одном фланге речь идет о возникновении знания, получившего наименование «политическая экономия». Новое положение дел, сформировавшееся в конце XVII столетия с появлением меркантилистских моделей и камералистских проектов, определяет разветвленные связи между проблемами политического правления, административного управления территориями, богатством и народонаселением и, наконец, проблемами руководства индивидами, их деятельностью, страстями и желаниями. Тем самым преследуется цель достижения «разумного», то есть систематического по форме и исчислимого порядка действительности, но одновременно очерчивается и познавательное поле, в котором взаимодействуют самые разные дисциплины, техники и науки. Под рубрикой политической экономии вопросы, касающиеся улучшения государственных финансов, объединяются с вопросами повышения доходов, вопросы об образовании стоимости – с вопросами воспитания, вопросы демографической и здравоохранительной политики – с вопросами морально-правового порядка (Policey). Политическая экономия позиционировала себя тем самым не только как некая новая предметная область (отказываясь таким образом, например, как от принципов старой, аристотелевской экономики, так и от принципов государственного интереса), но и как обширный конгломерат дискурсов, занимающий центральное положение в культуре Просвещения и включающий в себя политическое, антропологическое, социально-философское и эстетическое измерения. Наконец, на рубеже XVIII–XIX веков – и это другой фланг или граница – это экономическое знание вновь перестраивается. Это связано не только с провалом попыток установления камералистского порядка и не только с той критикой, которой подверглись физиократические теории образования стоимости. И это связано также и не только с возникновением самостоятельной политэкономической дисциплины, эмансипировавшейся от общего комплекса знаний о государстве и управлении и пытавшейся описывать автономные закономерности функционирования хозяйственной системы. Важнее то, что на рубеже XVIII–XIX веков можно зафиксировать фундаментальную смену категорий, с помощью которых анализируются экономические силы, законы обращения богатства и законы его производства. Будь то «труд», «рабочая сила», «производство» или «потребление» – из конфигурации этих понятий в дальнейшем вырисовывается облик экономического человека, из этой конфигурации возникло имеющее чрезвычайно важные последствия знание о работающем и производящем, о живущем и желающем, о потребляющем и самого себя расходующем человеке.
Эти изменения определяют историческую рамку, которая полностью согласуется с вехами и рубежами, достаточно известными из исторических описаний развития тех или иных идей и положений. Однако в данной работе речь пойдет не об истории экономических и политических теорий, не об истории ученых мнений и не о различных формах экономического анализа. Даже если политическая экономия понимается как прикладное знание, даже если она таким образом отличается тем, что в равной мере способствует как теории, так и практике, ее историю нужно будет изучать, принимая во внимание тот факт, что она сама впервые конструирует те предметы, к которым обращается. Не существует некой экономической данности самой по себе, которую бы на протяжении столетий исследовали, анализировали, упорядочивали и «все лучше и лучше» понимали с помощью постоянно оптимизируемых категорий и методов. Изменения, которые в XVII столетии привели к возникновению политической экономии, а в начале XIX века к появлению отдельной экономической науки, затрагивают не только внешние контуры экономического знания и его отношение к другим дисциплинам – они проникают вглубь устройства «экономических» объектов. В этом предположении состоит второй исходный пункт данной работы, имеющий методологический характер. Это предположение открывает перспективу, которая связывает появление новых объектов знания и областей познания с формами их изображения. Оно следует тезису, согласно которому любой научный порядок формирует определенные опции изложения и изображения, что в его рамках работают специфические методы, определяющие возможность, зримость, консистенцию и корреляцию его предметов. Эти операции позволяют разглядеть в той или иной форме знания поэтологическую силу, которая неотделима от присущей этой форме воли к познанию, от того способа, каким она охватывает, зондирует и систематизирует область своих собственных объектов. Для этого потребуется своего рода номиналистическая критика истории, не смешивающая устойчивость определенных выражений и тем с понятийной и предметной преемственностью; но одновременно потребуется и тот подход, который можно было бы назвать поэтологией знания, тот заинтересованный взгляд, направленный на методы и правила, согласно которым формируется, обособляется и стабилизирует свой внутренний порядок определенный исторический конгломерат дискурсов. При этом «поэтологию» можно было бы понимать как учение о производстве форм знания, об их жанрах и средствах изложения, учение, морфологически расширяющее родовое понятие и распознающее, например, в какой-нибудь статистической диаграмме, в карте, в перечне или кривой определенные системы правил для организации полей знания. Любое эпистемологическое объяснение связано с тем или иным эстетическим решением. В этом поэтологическом измерении становится очевидной историчность всякого знания, тот факт, что по ту сторону присущих ему форм изложения не существует никаких данностей, которые в некоей нетронутой внешней сфере ждут того, что их откроют и сделают зримыми какие-либо дискурсы, высказывания или экзистенциальные утверждения. Историю знания невозможно свести к историческому описанию его предметов и референтов. Всякое обозначение объекта одновременно осуществляет и дискурсивное управление этим же самым объектом, в процессе которого репродуцируются коды и ценностные установки определенной культуры, систематика и практика соответствующей области знания.
В ходе этого исследования речь пойдет прежде всего о сопоставлении и связях литературных и политэкономических текстов, о том, чтобы соотнести высказывания из первых с высказываниями из вторых и распознать в этом целостный конгломерат знания. Это определяет материал, на который опирается данная работа: широкое распространение политэкономического знания и отражение его текущего состояния в трактатах, наставлениях, еженедельных журналах и справочниках, в вымышленных письмах и диалогах, в философских повествованиях и утопиях; многочисленные заимствования экономических мотивов и фигур мысли в литературных текстах; масштабный обмен идеями между экономикой, естественной историей, антропологией, физикой, медициной и эстетикой. При этом исследование данного положения вещей в меньшей степени направлено на установление связи между историей экономики и литературой, на изложение (пред-) истории политической экономии, на литературно-социологическое исследование системы буржуазной литературы или на выявление случаев обсуждения экономических вопросов в художественной литературе. Как представляется, здесь уместна некоторая осмотрительность, приучающая к тому, чтобы локализировать предметы знания не в референтах высказываний, а в тех способах высказывания, которые делают их возможными. Поэтому литература и экономика не рассматриваются в качестве неразрывных единств или отграниченных дискурсивных полей. Скорее они принадлежат к одному порядку знания, который, например, проявляется как в «Агатоне» Виланда или в утопии де Вольмара из «Новой Элоизы» Руссо, так и в «Таблицах» физиократов или в каком-нибудь камералистском трактате.
Это ни в коей мере не подразумевает намерения нивелировать различия между поэзией и наукой, знаниями и вымыслом или зафиксировать некое стабильное и окончательно установленное отношение между наукой, знанием и литературой. Возможность связи литературы и экономики (или определенных полей знания вообще) не заключается в каком-то зеркальном отражении, она не заключается ни в ситуации отображения, ни в связи текста и контекста или в отношении между содержанием и формой. Соединение «литературы» и «экономики» скорее преследует здесь цель соотнести друг с другом субстрат знания, присутствующий в поэтических жанрах, и поэтическое проникновение в формы знания, удерживая их тем самым в среде их историчности. В этой связи стоит напомнить замечание, сделанное Жилем Делезом по поводу работ Мишеля Фуко: «Существеннейшая черта „Археологии“ заключается не в том, что ее автору удалось преодолеть научно-поэтическую двойственность… Главное ее достоинство состоит в открытии и размежевании тех новых сфер, где и литературный вымысел, и научная пропозиция, и повседневная фраза, и шизофреническая бессмыслица и многое другое являются в равной мере высказываниями, хотя и несравнимыми, несводимыми друг к другу и не обладающими дискурсивной эквивалентностью. Как раз этого пункта никогда не удавалось достичь ни логикам, ни формалистам, ни толкователям. И наука, и поэзия являются в равной степени знанием»[3]. Здесь следует обратить внимание на конфигурацию знания, которое, с одной стороны, не заключено в дисциплинах и науках, а с другой – не обладает характером всего лишь знания жизненного мира, которое, возможно, до-понятийно, но не до-дискурсивно, которое кажется одновременно и связным, и рассеянным и проходит через различные виды текстов и дискурсов. Это знание является той средой, в которой становятся возможными как дискурсивные предметы, так и говорящие о них субъекты, оно представляет собой область формулирования правил координации и субординации высказываний, пространство, предшествующее проведению границ между специальностями, дисциплинами и науками[4]. «Знание», стало быть, не есть ни наука, ни познание, скорее оно требует поиска оперативных факторов и тем, возвращающихся на различные территории, занимающих на них ту или иную определенную конститутивную позицию, не предполагая, однако, при этом какого-либо единства и синтеза предмета. А следовательно, это знание было бы областью, в которой корреспондируют несравнимые друг с другом модусы речи, формы выражения и типы текстов.
Если поэтология знания начинается не с истины высказываний, а с методов и правил, делающих возможными определенные высказывания, то и отношение (литературных) текстов и знания нельзя сводить к сюжетам и мотивам или к серии предикаций и актов референции. Любой литературный текст оказывается скорее компонентом порядков знания, поскольку он продолжает, подтверждает, корректирует или сдвигает границы зримого и незримого, вербально выразимого и невыразимого. Литературный текст и знание отнюдь не находятся друг с другом в каком-либо предсказуемом и окончательно установленном отношении, их связь скорее возникает в некоем неоднозначном модусе несоразмерности. Литература сама представляет собой специфическую форму знания, например, там, где она стала особенным органом и медиумом таких единств, как произведение или автор; литература является и предметом знания, например, там, где она инициировала особый вид комментирования и создала возможность своеобразного говорения о говорении; литература является функциональным элементом знания, например, там, где она, как в духовно-исторической традиции, каким-то совершенно уникальным образом заполняет поле творческой субъективности; и наконец, литература продуцируется порядком знания, например, там, где ее язык, как никакой другой, кажется способным сказать то, в чем невозможно сознаться, сформулировать самое сокровенное, пролить свет на невыразимое.
Впрочем, трудно не заметить, что начиная с XVIII века экономика и литература (и эстетическое поле вообще) обращаются к ряду общих тем; это и знаменитые робинзонады в политической экономии, над которыми позднее будет иронизировать Маркс и которые ввели нарративную структуру в анализ образования стоимости; это и роль денег, которые, скажем, в сентименталистской драме дополняли зримые взаимоотношения на подмостках незримыми коммуникациями и зависимостями. Но наряду с очевидными связями такого рода есть и некоторые другие проблемные ракурсы, размещающие экономическую и эстетическую сферу в некоем общем пространстве и дирижирующие соответствующими формами репрезентации. В XVIII столетии это вопрос о случайностях и контингентных событиях, обращающийся к определенным правилам связывания разнородных событийных серий и их наглядной репрезентации; это семиотические вопросы, которые на основании репрезентативной силы знаков оплаты и слов языка устанавливают их аналогичную образную структуру; это концепции суверенитета личности, благодаря которым, например, в театре эпохи Просвещения можно выявить общественно-теоретический субстрат, а в социальном действии – театральную логику; и наконец, это зондирование законов движения, которые в различных областях – физической, физиологической, естественно-исторической, экономической – консолидируются в циркуляционные модели. Проблемные ракурсы такого рода позволяют наблюдать порядок, границы и изменение пространства знания, высказывания которого могут преобразоваться в научную теорию (например, расчета вероятностей), в политэкономическую программу (скажем, в камералистской энциклопедии) или в литературно-художественный жанр (например, в роман воспитания). При всем этом важно, что различные жанры, дисциплины и формы изложения невозможно свести к общему знаменателю; а также то, что от механизмов их взаимодействия и резонанса решающим образом зависит эффективность того или иного порядка знания. В конечном счете поэтология экономического знания исследует распространение, взаимодополнительность, пересечение и взаимное укрепление фигур экономической и эстетической рефлексии, а тем самым стабилизацию горизонта знания, ценностные установки и фантазмы которого обрели мифопоэтическую действенность: «Tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie politique»[5].
Эта двойная – как историко-предметная, так и методологическая – перспектива определяет композицию и структуру предлагаемой работы. Так, в первой, вводной, главе рассматриваются некоторые основополагающие фигуры политического знания начиная с XVII столетия. В том, что именовалось «политическим телом», мы обнаруживаем своеобразную дихотомию между репрезентативной конструкцией суверенного государственного лица, с одной стороны, и политической эмпирией – с другой. В то время как новоевропейские теории естественного права и общественного договора заняты формулированием логики репрезентации, связывающей учреждение политического порядка с личностью, представительным характером и persona ficta[6] суверена, признавая наличие здесь моментов театральности, на другом фланге речь идет о сциентизации политики, в ходе которой совокупные силы государств и стран, населения и территорий изображаются по физическим или физиологическим моделям. Стало быть, мы можем в духе Эрнста Канторовича говорить о «двух телах государства»; а из этого вытекает дуальность типов событий и форм вмешательства, различные способы изображения которых рассматриваются в следующих главах. Так, во второй главе речь идет прежде всего о некоторых элементах театральной поэтики Просвещения. На примере учений о симпатии и поэтики сострадания исследуется вопрос, как неосознанные сцепления, случайные события и сложные взаимозависимости могут указывать на состояние договорных, репрезентативных и персональных отношений, создавая ситуацию, позволяющую говорить о «театре общественного договора». В третьей главе в центре внимания оказываются проблемы управления контингентностью. С оглядкой на теорию вероятностей, на проблемы экономического управления и на поэтику и практику просвещенческого романа ставится вопрос о том, исходя из чего может быть обоснован и описан провиденциальный порядок контингентных событий. Четвертая глава посвящена нескольким фундаментальным изменениям, произошедшим в экономическом знании на рубеже XVIII–XIX веков: трансформации старых циркуляционных моделей в контуры регулирования, возникновению концепций саморегулирования, формулированию теорий общедоступного кредита. Именно в романтизме и в «романтической экономике» эти модели ведут к реформированию управленческих идей и семиозисам, переводящим динамические процессы в стабильные структуры и согласующим фигуру политического тела с понятием живого организма. Исходя из этого положения, в пятой – и последней – главе рассматривается еще один сюжетный поворот: рождение экономического человека, рождение желающего, трудящегося, производящего и потребляющего субъекта, изображение которого в конечном счете размыкает определенные границы самой литературной репрезентации.
Глава 1. Тела политики
1. Государство-театр
Театральные призвания являются одновременно и политическими, а эти последние, соответственно, химерическими. Так, стремление Вильгельма Мейстера к сцене, его посвящение в актеры кукольного театра, в театрала и, наконец, в исполнителя роли Гамлета не просто сводит воедино освободительную идею, изображение публичной сферы и индивида, желающего достичь гармонического совершенства своей натуры. Скорее сам театр включает в себя модель общества, на несколько мгновений становящегося лучше и благороднее в ходе игры на сцене и игры после игры, праздника за и между кулисами[7]. В романе Гёте мотив и педагогический план создания национального театра оказываются в тени театральной концепции, реализующей ряд социально-функциональных определений и расширяющей пространство сцены до всемирного театра; театральный эксперимент Мейстера оказывается образцовой площадкой для обсуждения вопросов собственности и договорных отношений, конфликта между феодальной и буржуазной формами социализации. Наряду с очевидной программой образования, всеобъемлющего «формирования личности», этот театр претендует на создание пространства, в котором индивиды не только существуют, но и «показывают себя», пространства, в которое они переносятся в качестве представителей самих себя и в котором они – как «лица общественные» – ищут сколь фиктивное, столь и нормативное основание своего социального общения[8]. В нем все более настоятельным становится обращение к маске, апатичному субстрату, который – и это своего рода актерский парадокс – проникает в собственное бытие индивидов и обязывает их «играть естественнее, не переставая притворствовать»[9]. При этом речь отнюдь не идет о какой-то перфекционистской иронии, когда – в одиннадцатой главе пятой книги – Вильгельм Мейстер в роли Гамлета сталкивает обе стороны, чужую роль и свое собственное искреннейшее возбуждение, играя, выпадает из роли и тем самым только еще более уверенно ею овладевает. Поскольку он не уверен в том, видит ли он маски или лица, показывает ли он сам маску или лицо, то при появлении призрака – чей незнакомый голос, искаженный тем, что раздается из-под «забрала», звучит как все более знакомый, – он испытывает противоречивые чувства, влекущие его в противоположных направлениях; теперь он оказывается одновременно и на сцене, и перед ней: «Пока длился рассказ призрака, он так часто менял место, казался таким неуверенным и смущенным, внимательным и рассеянным, что своей игрой вызвал всеобщее восхищение, как призрак – всеобщий ужас»[10]. Таким образом, преодолевая на сцене свое бюргерское «смущение» и, в свою очередь, вновь испытывая его уже в качестве исполнителя роли, говоря одновременно и своим собственным, и чужим голосом, представляя себя здесь и сейчас, а в роли Гамлета неожиданно и последовательно приходя к тому, что он самого себя инсценирует, Вильгельм Мейстер следует поэтике спектакля, в которой сцена и игра одновременно демонстрируют и двойное основание, на котором выстраиваются бюргерские идентичности и их репрезентативная взаимосвязь, подчиненные императиву – казаться тем, что мы есть, и стать тем, чем мы кажемся.
Однако речь тут отнюдь не только о двусмысленности понятия «образованной личности», уравнивающей театральную постановку и общественную репрезентацию и утверждающей в литературной известности эрзац-форму политической публичности[11]. Скорее поэтика спектакля сама уже включает в себя поэтику социального и политического пространства, и наоборот, эта политическая сфера организована непосредственно сценически. Составившие публику приватные люди, которым твердят, что они рассмотрят на сцене свое собственное дело, вызывают тем самым в памяти политико-правовую программу, в ядро которой вписан сам театр. Ведь не случайно повторное открытие театрального аспекта в понятии «лица» было делом просвещенческой политики и просвещенческого права, ищущего основание своей легитимности в себе самом и желающего в каждой своей норме хранить память о моменте ее принятия. Начиная с Альтузия и Гроция, Гоббса и Пуфендорфа все теории репрезентации политической власти непременно ориентируются на апологию «общественного лица» (persona publica), которое через средневековые субстанциалистские модификации восходит к игре масок римской persona – лица́ как в юридическом, так и театральном смысле[12]. Это лицо (persona) отнюдь не является только фундаментальным понятием политической теории, происходящим из римского права, скорее оно уже там объединяет в себе моменты представительства и ролевой игры, социальной функции и инсценировки и позволяет старой юридической форме понятия лица – в persona alicuius representare[13] – выглядеть игрой с точными формулами инаковости[14]. Исходя из этого, лицо «обозначает наряд или внешний вид человека, представляемого на сцене, а иногда специально ту часть этого наряда, которая скрывает лицо, например маску. С театральных подмостков это название было перенесено на всякого, представляющего речь или действие как в судилищах, так и в театрах. Личность, таким образом, есть то же самое, что действующее лицо как на сцене, так и в жизненном обиходе, а олицетворять – значит действовать или представлять себя или другого»[15].
Тем самым описан имеющий разностороннее – социальное, политическое, правовое – применение принцип репрезентации, который может быть распространен на самые разные объекты, отношения и сущности, как на неодушевленные вещи и фантазии, так и на Бога, партнеров по договору, несовершеннолетних, слабоумных или на множество людей; принцип, способный наделить одного-единственного человека бесчисленным количеством различных функций или дать многим единую репрезентацию и именно поэтому оказывающийся эффективной концепцией при переходе от иерархически организованных к функционально дифференцированным обществам[16]. В соответствии с ним каждый человек состоит из множества лиц и, более того, причастен к тому лицу, которым он не является и быть не может, которое делает его кем-то другим, связывает со всеми и позволяет выглядеть элементом некоего целого, например, государства, рассматриваемого как лицо. Политическое, присутствующее в лице, составляет его буквально «замещающий», репрезентативный характер, который соединяет маскировку и представительство, может выглядеть как «платье» поверх «платья» и потому, однако, всегда оперирует в опасной области между действительно представляющей и всего лишь транспонирующей репрезентацией[17]. Именно у Пуфендорфа, который, как и Гоббс, начинает свою теорию государства с теории лица, выявляется это petitio principii[18] и апелляция к некоему критерию внутри персональной репрезентации. Ведь, с одной стороны, «персональное» представляет собой ту инстанцию, которая из разрозненных тел, из «физических автономий» создает моральные сущности и посредством процедур приписывания, представительства и волеизъявления способна производить «моральные вещи», «моральные лица», тем самым утверждая авторитет «моральных уз» для политических сообществ. В соответствии с этим и Пуфендорф перечисляет различные варианты персональной репрезентации: представителей в узком смысле, таких, как посланники и опекуны, собранные вместе лица, из отдельных воль создающие общую волю и тем самым «моральное тело», то лицо, которым мы являемся в качестве разумного субъекта, то лицо, которое нам предписано другими, которое мы получаем лишь случайным и временным образом или которое мы сами учреждаем для себя по «доброй воле» и собственному произволу. Но, с другой стороны, это видовое разнообразие персональных инстанций отнюдь не автоматически находит ту внутреннюю границу, которая со всей надежностью отделяет поведение «истинных моральных лиц» от явного и «своенравного чудачества», от сумасбродства вроде того, что двигало Калигулой, однажды назначившим жеребца сенатором и репрезентантом города Рима. Стало быть, в моральном лице может таиться гистрион, политическая репрезентация чревата фарсом; и не в последнюю очередь это связано с тем, что сущность лица в некотором роде состоит в отсутствии сущности, что игра, в которую играет лицо, заключается в том, «что оно с изрядной ловкостью копирует внешний облик, / мимику и речь какого-либо другого истинного и серьезного лица, / как будто и в остальном весь его репертуар состоит в одном только создании иллюзий, / и то, что такое сокрытое личиной лицо делает или говорит, не влечет за собой никаких моральных последствий»[19]. Тем самым, с одной стороны, кажется, что политика ограничена и детерминирована радиусом действия морального и юридического лица, а с другой – что она лишается опоры для собственного обоснования, и этот сколь основополагающий, столь и проблематичный персонализм естественно- и рационально-правовых концепций, связывающий в «государстве-лице» трансляцию политической власти с архитектурой общественного договора[20], выводит социальный закон на подмостки, которые должны определять его правовое основание и на которых этот закон вновь и вновь разыгрывает драму своего обоснования.
Итак, если лицо – это тот, кому приписываются – «поистине или посредством фикции»[21] – слова и действия людей, то оно само подчинено закону театральной инсценировки и организации сценического пространства. И когда новоевропейское естественное право присягает первому принципу и во имя этого принципа требует прозрачности всех правовых норм, то мы должны понимать, что его исток и его критерий восходят к идее перформанса, артикулирующейся в театральном характере первичного учредительного договора. Во всяком случае сложная система представительств, масок и ролей, определяющая идентичность лица и закономерность целого как отражение его собственного происхождения, функционирует именно так, как ее описывает Гоббс в кульминационном пункте своего учения: «Я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия»[22]. Здесь индивиды становятся «authors», а те, в свою очередь, «persons», здесь «actors» одновременно и действуют, совершают поступки и исполняют роли, здесь устанавливаются пропорции «естественных» и «искусственных» лиц. Поскольку всякого индивида необходимо представляет другой индивид, то Третий, государство, становится представителем каждого, а его действия отныне следует рассматривать так, словно бы их совершали мы сами. Из множества индивидов создается или рождается[23] «лицо», а вместе с ним, в свою очередь, «Как если бы» репрезентации. Стало быть, в этом «Как если бы» закона отдельный человек – это другой. Он становится гражданином и субъектом закона только как представитель других, или, наоборот, наблюдая и представляя, он познает в других свою волю. В акте первого соглашения один отражается в другом, и в результате этой взаимной субституции и подчинения одним и тем же интересам утверждается общность, которая отныне может рассматриваться как tertium и основа прочной конституции и всеобщего законодательства, как бы ни выглядело мутное и анархическое естественное состояние, с одной стороны, а сильный Третий – с другой. В этой прозрачности, в этом движении вдоль восходящей линии политическая репрезентация определяется как результат и преодоление своего рода стадии зеркала. Благодаря миметической рефлексии – я знаю, что ты знаешь, что я знаю… – ego и alter ego замещают друг друга и из своих зеркальных отражений дистиллируют договорной субстрат, дающий осадок первичного, или сверхдоговора, то есть государства, и выкраивает из простого множества людей одну-единственную persona ficta, лицо, в котором каждый тогда кажется тем, что он есть, когда он является другим и причастен к общности всех. Еще Цицерон распознал в судебном ораторе носителя трех ролей и тем самым увидел здесь смещенное в себе самом и фиктивное авторство (полномочность); так и в гоббсовской учредительной сцене отдельный человек является «автором» и «актером» театра, в котором он сам себя репрезентирует, будучи облеченным в маски трех участников судебного процесса – в качестве эго, противника и судьи[24]. Таким образом, в строгом смысле это государство-лицо представляет собой прозопопею, fictio personae, как перевел – в свою очередь ссылаясь на Цицерона – этот греческий термин Квинтилиан. Прозопопея наделяет отсутствующее и безликое маской или обликом, и она есть не что иное, как изобретение, измышление лица, конституирующегося исключительно в «Как если бы» своих слов и акций[25].
Между тем именно здесь обнаруживается как риторическая плотность, так и хрупкая двойственность репрезентативного акта. Ведь он соотносит многих с одной-единственной инстанцией говорения и действия; он понимается как представительство, отсылающее к моменту уполномочивания; и он создает фигуру, отменяющую это уполномочивание ровно в той мере, в какой она одновременно конституирует границу, за которую не может отступить ни один дальнейший акт и ни одно дальнейшее слово: отныне тот, кто действует согласно закону, всегда действует как другой самого себя. Стало быть, в начале этой учредительной сцены находится сама себя представляющая и сама себя отменяющая полномочность, проявление которой достигает кульминации в самоуничтожении и тем самым в строгом смысле представляет собой уполномочивание фикции, то есть отныне она трактуется так, как если бы кто-то действовал. Таким образом, именно у Гоббса прозопопея государства выступает как разрешение апоретической констелляции, сопутствующей естественно-правовым учредительным фигурам, оказывается решением, особенность которого состоит в том, что в акте решения оно само создает для себя критерий: посредством первой инсценировки лица, которое с ретроспективной точки зрения уже всегда здесь присутствовало; посредством установления референции, которая сама впервые порождает означаемое, – выкроенную из простого множества многих личность, – и посредством такой фигурации установления, в которой устанавливающее неизбежно дефигурируется и благодаря которой устанавливающий акт осуществляется в силу того, что он безвозвратно исчезает в установленной фигуре[26].
Рис. 1. Первоначальная композиция титульного листа «Левиафана» Гоббса (1651), в: Reinhard Brandt, «Das Titelblatt des Leviathan», in: Leviathan. Zeitschrift fur Sozialwissenschaft 15, 1987, 164
Нельзя не заметить, что фигурация такого рода формирует и ту фигуру, которая изображена на знаменитой гравюре титульного листа «Левиафана» Гоббса. Ведь «искусственный человек» и Макрос-антропос на верхней половине эмблемы, сжимающий в руках инсигнии – меч и епископский жезл – и возвышающийся над кругом умиротворенной страны как воплощение суверенной власти, не только противостоит в качестве символической фигуры «реалистичному» изображению города и ландшафта; он не только собирает в своем – политическом – теле лица, которые в раскинувшемся перед ним мире просто разбросаны по различным местам и заняты различными видами деятельности (рис. 1)[27]. Скорее он преподносит себя в качестве фигурации, которая в полном соответствии с гоббсовской теорией лица позволяет тому, что конституирует corpus politicum, раствориться и исчезнуть в конституируемом. Тело этого властелина, «подобного которому нет на земле» – как он именуется в латинском эпиграфе, взятом из «Книги Иова», – складывается и формируется из собрания многих, из собрания, ориентированного в направлении головы Левиафана, но сами эти собранные в единство люди исчезают, когда собрание достигает этой увенчанной короной головы; «естественные» лица создают «фиктивное» лицо в прозрачном строении тела, но именно эта фикция стирается в натурализированной непрозрачности черт лица[28]; а эта голова, в свою очередь, смотрит на зрителя, но собранные в ней многие отвернулись от зрителя и безлики. У них есть лицо и голос, только благодаря ему и, однако, именно благодаря ему они остаются слепыми и немыми. Персона, замечает Гоббс в латинском приложении к «Левиафану», это также и просто-напросто лицо, обращенное к другому[29]; и соответственно этому зритель встречает в лице и направленном на него взгляде Левиафана – в этой последней версии гравюры: в более ранней его взгляд был направлен на ландшафт внизу – лицо (persona) как таковое, fictio personae и прозопопею всех отвернувшихся и безликих. Поэтому было бы не совсем правильно понимать эту персонификацию как всего лишь «imago», как «материальный заменитель репрезентированного». С конца Средних веков в понятии repraesentatio аспекты отображения или уподобления отходят на второй план, уступая место аспекту представительства; персонификацию государства у Гоббса также нельзя автоматически относить к традиции изображения властителей (на монетах, медалях и т. д.), в которой «effiges»[30] еще означают репрезентацию, а репрезентация, в свою очередь, означает «i»[31][32]. То, что демонстрирует эта фигура, не является ни отображением, ни копией или визуализацией какого-либо принципа. Скорее она представляет собой отображение только в той мере, в какой выявляет нарушенную логику отображания. Она – не отображение, но образ представительной репрезентации, которая дефигурирует фигурирующих в фигуре. И даже это происходит еще совсем не так, как в составных позднеренессансных и барочных портретах, о которых заставляет вспомнить эмблема с титульного листа трактата Гоббса[33]: если, к примеру, у Арчимбольдо черты лица портретируемого подобно картине-загадке материализуются в их предметных элементах (таков, например, портрет Рудольфа II, сложенный из осенних овощей и фруктов), то конституирующие компоненты «Левиафана» в чертах его лица и посредством них как раз дематериализуются. Стало быть, в этом пункте совпадают персональная репрезентация, учредительная сцена и фронтиспис «Левиафана»: в изображении авторизации, в котором одновременно осуществляется демонстрация ее самоустранения, и в фигуре, которая в качестве политического тела одновременно скрывает элементы своего строения.
Таким образом, при всей монструозности и образной чрезмерности мифического Левиафана государство и суверен – «смертный Бог» – оказываются здесь своего рода театральным трюком, и именно спектакль, гоббсовская теория общественного договора, встраивает в качестве мифического основания внутрь закона, внутрь Левиафана. Всякий договор апеллирует к некоему первому договору, а тот – к театральной постановке, которая осуществляет обратный перевод исторического начала вещей в изначальное тождество и в конечном счете должна вновь обнаруживать и обнаруживает его в каждом деле, в каждый момент осуществления права. Вводя государство-лицо, естественно-правовая теория общественного договора создает своего рода «первичную сцену», конструирует подмостки, на которых размещаются стабильные представительства и репрезентации и на которых в прогрессирующей инволюции смешиваются время осуществления права и время его учреждения[34]. Это фигуры некоего зеркального диспозитива, благодаря которому первичная сцена репрезентации внедряется в мифологию современной политики: во-первых, обособленные лица, встречающиеся друг с другом как равные, заменяющие и представляющие друг друга, обнаруживают и обеспечивают свою общность в прозрачных узах договоров; а во-вторых, учреждение фигуры, persona ficta государства, каковое одновременно изображает и дефигурирует акт своего введения и именно в силу этого становится body politic, искусственным человеком и тем политическим телом, которое оно само репрезентирует.
Итак, контуры этой новоевропейской политики представлены в треугольнике, образованном юридическим персонализмом, теорией общественного договора и прозопопеей государства, поэтому следует ожидать, что историческое развитие этого запутанного клубка из театра, политики и права определяется как эффективной фикцией политического тела, так и структурой его радикальной внутренней непрочности. А именно: если институция закона непосредственно театрализуется и – наоборот – если этот театр становится истоком политического, то спектакль, сами театральные подмостки могут, в свою очередь, показаться лишь слабыми, несовершенными и рискованными, во всяком случае во многих отношениях уязвимыми для критики. С этой точки зрения предпринятая Руссо радикализация общественного договора вполне согласуется с его же критикой института театра. Ведь и у Руссо речь также идет о создании некоего «общественного лица», «образующегося из ассоциации всех», составляющего «политическое тело» и именующегося «государством»; рефлексия Руссо также обращена к той границе, на которой в фигуре «государства-лица» осуществляется дефигурация его учреждения[35]. Если репрезентация оправдана только тем, что она каждым своим актом одновременно реанимирует свой собственный закон, а также устанавливает и отменяет свое «Как если бы», то театр представляет собой всего лишь убыточное и разрушительное удвоение, в котором репрезентируемое всегда отсутствует, а маска является только внешней оболочкой и, стало быть, уничтожает цель, объединяющую людей в собрание и превращающую это собрание в манифестацию общего. «В театр идут, – пишет Руссо в письме д’Аламберу, – чтобы провести время вместе, но как раз там-то и проводят время врозь: там забывают друзей, соседей, близких, для того чтоб увлечься выдумками, оплакивать несчастия мертвых или осмеивать живых»[36]. Противоборство своего и чужого, присутствия и отсутствия составляет закон репрезентации; и если в театре, как пишет Руссо, мы поэтому всегда видим только иных существ, «нежели мы сами», если спектакль неизбежно связан с искажением пропорций и знает только преувеличения и преуменьшения, если он всегда лишь удаляет от нас все в нем представляемое[37], то репрезентация как закон может сохраняться только благодаря ее перманентной ревизии: закон репрезентации должен корректироваться репрезентацией как законом. Здесь перед нами истинный и единственный театр, вновь и вновь инсценирующий внутри политического тела первую ассоциацию и первичный договор. Поскольку сообщество не может передавать кому-либо свою волю, то есть свой суверенитет, не отказавшись от себя самого, то каждая репрезентация должна отменять себя в пользу своего собственного истока, аннулироваться перед лицом собравшихся вместе индивидов. Собравшийся народ сам представляет себя, упраздняя всякое представительство, и – как говорится в «Общественном договоре» – «там, где находится представляемый, нет более представителей»[38]. Фигура истинной республики и легитимность закона соразмерны способности актуализировать их собственную первичную сцену. Здесь сливаются воедино учредительное время и время действия; здесь индивиды становятся гражданами именно благодаря тому, что они не изображают никаких других лиц и не играют никаких других ролей, выступая только в качестве тех, кто они суть; и в этом случае основанием закона – парадоксальным образом – оказывается театральный партер: «Как! Значит, в республике вовсе не нужны зрелища? Напротив, они там очень нужны. В республиках они родились, на лоне их они процветают во всем своем праздничном блеске»[39]. Республика и ее закон отвергают любой театр, потому что они сами суть не что иное, как театр, расширяющийся до размеров собрания, «публичного празднества» на «свежем воздухе и под открытым небом», а стало быть, до театра той первой встречи, когда она становится прозрачной для себя самой, когда никто не представляет кого-то другого, а вся общность в целом представляет каждого: как на первых собраниях возле «чистой, хрустальной воды источников», о которых говорит Руссо в «Опыте о происхождении языков»; как на игрищах и празднествах лакедемонян или в воспоминании о «незатейливом зрелище» в Женеве, на котором военные и гражданские, господа и слуги как будто бы охвачены «всеобщим умилением» своей общностью; или на празднике сбора винограда в Кларане, когда сама природа сдвигает кулисы и солнце поднимает ввысь утреннюю дымку, «словно театральный занавес»[40]. В любом случае это театр, располагающийся на границе институции и ее учреждения, представляющий собой длительный процесс и запечатлевающий как «непрерывное событие наличия»[41], так и постоянный отказ от репрезентации, метатеатр, ничего не изображающий и в этом ничто инсценирующий лишь свою театральность, свою репрезентацию. Созерцающая игра и изображающее наблюдение: «Но что же послужит сюжетом для этих зрелищ? Что будут там показывать? Если хотите – ничего. В условиях свободы, где ни соберется толпа, всюду царит радость жизни. Воткните посреди людной площади украшенный цветами шест, соберите вокруг него народ – вот вам и празднество. Или еще лучше: вовлеките зрителей в зрелище; сделайте их самих актерами, устройте так, чтобы каждый узнавал и любил себя в других и чтоб все сплотились от этого еще тесней»[42]. Структурное, позитивное ничто этого представления и представительства есть не что иное, как репрезентация самой репрезентации, чистая театральность. Таким образом, в теориях общественного договора, как у Гоббса и Пуфендорфа, так и у Руссо, прозопопея государства, воплощенный в государстве-лице спектакль – театр репрезентаций и лиц, который и есть сам этот договор, этот протодоговор, – преодолевает и разрешает апорию закона, апорию, присущую артикуляции самого себя и своего истока и состоящую в конечном счете в том, что некто говорит и действует «от чьего-либо имени», будучи при этом не более чем чистым и лишенным содержания перформансом этого имени[43].
Итак, политическое тело конституируется в театральном мгновении, удваивающем друг в друге движения репрезентанта и репрезентируемого, зрителя и актера. Уже указывалось на сомнительный логический – а не только исторический – статус первичного договора[44]; и если невозможно зафиксировать реальность учредительной сцены и первого контракта в истории, то, разумеется, нет и никаких оснований предполагать, что их инаугурация еще только предстоит в будущем. При этом нет ни нужды, ни возможности предполагать акт заключения договора в качестве факта: в рассуждениях такого рода Кант не только возвращается к театральному ядру естественно-правовых теорий репрезентации, но и одновременно отделяет друг от друга зрителей и актеров, закон и историю, инициируя радикальную реорганизацию театра репрезентации. И у Канта речь также идет прежде всего о некоем первоначальном контракте, «на котором только и можно основать гражданское, стало быть чисто правовое, устройство и установить общность»[45]; и у него также говорится о представительстве и о лице, превращающих одного индивида в другого и в непрерывном отражении гарантирующих форму закона как чего-то единственно законосообразного; и наконец, здесь также присутствуют маска и чистая театральность, «Как если бы», возвышающие закон до уровня всеобщего катарсиса и превращающие действующее лицо в своего собственного зрителя. Но кантовское разрешение проблем естественно-правовой теории общественного договора известно. А именно: если каждый законодатель обязан издавать свои законы так, «чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа», то и на каждого индивида, «поскольку он желает быть гражданином», следует смотреть так, «как если бы он наряду с другими дал свое согласие на такую волю»[46]. Поэтому первоначальный договор представляет собой не факт феноменального мира, а «всего лишь идею разума», обладающую чисто практической реальностью, и всякую серьезную рефлексию по поводу его исторически датируемого возникновения следует считать бесцельным и опасным для государства «умничаньем»[47]. Закон и история не совпадают нигде и никогда, духовное тело государства никак не датировано и не имеет никакого реального начала. Но теперь именно этот закон и это тело оказываются тем, что в смелом скрещении генетического и парагматического времени понимается как неустранимая доисторичность, предшествующая эмпирическому миру и отделяющая вопрос о правовом основании от вопроса о возникновении государства. В качестве «пробного камня» правомерности «Как если бы» закона осуществляет внутри репрезентации своего рода асимметричный сдвиг. Закон отрывается от той почвы, которая обусловливает его историко-патологическую запутанность, и если в ноуменальном отношении каждый индивид всегда уже совершал те или иные поступки, то в феноменальном отношении он никогда не будет реально действовать. Поэтому «репрезентативная система» становится единственным средством для создания идеальной республики; субъектом этой системы является лицо или «homo noumenon»[48], но ее первичная сцена представляет собой не более чем фикцию. Она представляет собой фикцию по меньшей мере в том смысле, в каком ее, оглядываясь на понятие fictio в римском преторианском праве, описывал Файхингер – как наступление последствий, причина или предпосылка которых рассматривается как наличествующая или появившаяся, даже если она не наличествует или не появилась[49]. Здесь важно прежде всего следующее: состоявшийся акт заменяется неким пассивным актом, а там, где история и закон, эмпирическое и репрезентативное тела, как кажется, действительно сталкиваются друг с другом, действие будет не более чем зна́ком, тогда как участие – в первую очередь наблюдением.
Таков учредительный акт Французской революции. Ее значение, согласно Канту, состоит отнюдь не просто в том, что совершаются великие деяния или злодеяния, или в том, что «как по мановению, великолепные древние государства исчезают и на их месте возникают, словно из под земли, другие»[50]; и, вероятно, революционная политика в целом подвержена губительной путанице и трансцендентальной иллюзии, принимая референт практически-спекулятивного тезиса – идею республиканского договора – за предмет созерцания в историческом мире. Кант подчеркивает: не сам переворот, не преобразование великого в ничтожное, и наоборот, составляет ее особенное значение; не успех или неудача этой «революции духовно богатого народа» подтверждает законосообразность учреждения, сколь бы состоятельным оно ни оказалось. Напротив, закон и история встречаются только в «образе мышления зрителей», в образе мышления, который «открыто проявляет себя в этой игре великих преобразований» и который один только способен оправдать оптимизм в отношении учреждения того, что не может быть учреждено. Если на театральных подмостках у актеров интерес чистого морального разума и апелляция к идее гражданского контракта всегда перемешаны с эмпирическими причинами, страстями и эгоистичными интересами, если там, стало быть, в недостаточной мере играют, то чистым движущим мотивом эта идея становится только в движении зрителей, то есть наций, собравшихся вокруг этой сцены и наблюдающих за тем, что на ней происходит; это наблюдение таит в себе риск, оно обращено на само себя и поэтому становится делом весьма и весьма серьезным. Как возвышенное не является предикатом данных вещей громадного размера или огромной силы, а включает в себя косвенное выражение идеи разума, так и сопровождающий эту революцию очевидный «энтузиазм» зрителей – разновидность возвышенного чувства – представляет собой только эстетический аналог истинного республиканского пыла и, следовательно, должен рассматриваться как «исторический знак», как примета, указывающая на моральное наполнение исторического мгновения: как signum rememorativum[51], ибо он выявляет – среди зрителей – всегда уже наличествующую предрасположенность рода человеческого к лучшему; как signum demonstrativum[52], ибо он демонстрирует актуальную действенность этой предрасположенности; и как signum prognosticum[53], ибо он – даже если революция угаснет или будет предана забвению – сохранит воспоминание моральной предрасположенности о себе самой[54]. Не революционный переворот и не начало новой эпохи составляют событие, а их созерцание; действенны не поступки актеров, а эмоциональные реакции зрителей. Стало быть, если революция – это театр и в качестве такового она представляет собой незабываемый феномен истории, то ожидаемый «отклик» никак не может быть фактическим, он возникает исключительно «в сердцах зрителей» и «равен их сокровенному желанию». Но только будучи заблокированным, это желание правомерно желает реализации закона. Только таким образом исторический факт становится событием закона; только таким образом учреждение и закон становятся зримыми в качестве актов публичной воли; и только таким образом государство-театр и гражданский субъект закона получают эмпирическую санкцию – именно в участии зрителя, а не благодаря участию в действии.
Итак, тот, кто хотел бы считать театр репрезентации не театром, а фактом исторического мира, рискует видеть во всяком прогрессе регресс, во всяком успехе – неудачу и во всяком движении – лишь стагнацию. В конечном счете бесконечная трагедия превращается для него в фарс, и даже если, как делает вывод Кант, «актеры и не устали, потому что они шуты, но устает зритель, которому довольно одного-двух актов, чтобы с полным основанием заключить, что эта никогда не оканчивающаяся пьеса есть вечное повторение одного и того же»[55]. Если некогда один из настоящих актеров, реальный Дантон, как напоминает Кант, запутавшись на подмостках революции, хотел свести существующее гражданское устройство к фактически существующему соглашению[56], то позднее сценический Дантон, наоборот, видел в учреждении лишь беспочвенность, в исходном пункте закона и репрезентации – лишь бесконечное повторение и ничего, кроме масок и марионеток. И именно поэтому, кажется, настало время завершить бесконечную игру и «сорвать маски», тем более что само время покинуло тех, кто учреждает и дает закон «от чьего-либо имени» – «время теряет нас», говорит протагонист драмы Бюхнера[57]. Эта неустранимая дивергенция репрезентативного акта и исторического времени превратила драму репрезентации в «фарс суфлера», фальшивые слова и гримасы которого только воспроизводят дефигурационные процессы в фигуре государственного лица прошедшей эпохи. Если теперь, в кошмаре революции, маски падают вместе с головами, то все personnae, все маски римской истории, присваиваемые бюхнеровскими революционерами по образцу реальных, суть не что иное, как окаменелости прошлой истории, и они лишь запечатлевают факт не-репрезентируемого: «Он делает такое лицо, будто сейчас окаменеет, чтобы потомки раскопали его, как античную статую»[58]. В любом случае договор, репрезентация и персонализм утрачивают свое консолидирующее воздействие на societas civilis, а упадок естественного права и теорий общественного договора в XIX столетии не только самым разрушительным образом выявил их апоретическую структуру, – бесконечный регресс, логический круг или антропологический тупик, – но и одновременно перекодировал связь между правом, учреждением и репрезентацией; примерами могут служить историческая школа, органицизм права и функционализм[59].
Одновременно это означает: театральное ядро удаляется из тела закона, исходный пункт речи становится вакантным, а время учреждения и время истории теперь отделены друг от друга. Начиная с Канта время истории будет выглядеть законосообразным только в зеркале своей доисторичности. Стало быть, и на рубеже XVIII–XIX веков государство, пожалуй, все еще ведет себя, действует и говорит как прозопопея, его существование как существование некоей личности все еще представляет собой своего рода неизбежность, от которой и впредь будет невозможно уклониться[60]. Пожалуй, только в «общественном договоре» государство выглядит как «живое органическое тело», договор этот реализуется как «спектакль для людей и богов», а этот спектакль, в свою очередь, предстает «празднеством» представителей и репрезентантов – как на Марсовом поле 14 июля 1790 года[61]. И наконец, пожалуй, государство все еще сводится «к репрезентации», в государстве «все является театральным действием», а «в народе – театральной игрой»: «Монарх ставит бесконечно разнообразный спектакль, в котором неразличимы сцена и партер, зритель и актер и в котором сам он – одновременно поэт, директор театра и герой пьесы»[62]. Но как революция растеряла энтузиазм своих зрителей, а государственно-правовая репрезентация утратила свою историческую санкцию, так и отличительный признак государства, его прочность, его реальность и эмпирия, более не связаны с этим театром представительства и с «репрезентативной формой», которой отныне – как «бумажному клею» конституций[63] – все более явно отказывают в полномочиях самой определять государственную практику и модус бытия государственного существа. И, возможно, политическая способность воображения более не в состоянии представить эту театральную репрезентацию иначе, чем как парящую в вышине пустую, обезлюдевшую сцену, на которой нет ни репрезентанта, ни репрезентируемых, как мертвое, роскошное и отражающееся в себе самом пространство, игровая площадка без игры, как ее увидит Карл Росман на открытке с «видами театра Оклахомы» в «Пропавшем без вести» Кафки: «На этой же была запечатлена ложа президента Соединенных Штатов. С первого взгляда вообще можно было решить, что это не ложа, а, наоборот, сцена – так плавно, величаво и непреклонно взмывал ее парапет над окружающим пространством. Сам парапет – до последней мелочи – был из чистого золота. Между точеными, словно вырезанными тончайшими ножничками, столбиками его баллюстрады были укреплены медальоны с портретами бывших президентов, особенно выделялся один, с надменным прямым носом, выпяченными губами и угрюмым, неподвижным взглядом из-под набрякших, приспущенных век. Со всех сторон, по бокам и сверху, ложа была высвечена снопами мягкого света; этот свет, достаточно яркий и одновременно ласковый, буквально заливал ложу снаружи, тогда как глубины ее, надежно укрытые пурпурными складками тяжелого переливчатого бархата, который окаймлял ложу по всему периметру и раздвигался на шнурах, таили в себе темную, зияющую красноватыми отблесками пустоту. Почти немыслимо было вообразить в этой ложе человека – настолько царственно выглядела она сама по себе»[64].
2. Политическая физика
Театрально-политическое призвание Вильгельма Мейстера вполне можно понять как реакцию на появление того самого «общественного лица», которое сделалось центром легитимационной игры и границей, очерчивающей область правомерности и компетенции новоевропейской политики. Как эффективность и действенность этой фигуры отличает именно то, что они направлены на учреждение неучреждаемого, так и театральный проект Мейстера остался на свой манер убыточным. А именно: если театр и театральное общество хотя бы на несколько мгновений могли показаться «маленькой республикой» и формой некоего «нового государства», «странствующим царством» и тем самым во многих смыслах институтом «отечественной» сцены, то уже вскорости они сталкиваются с обстоятельствами, разрушающими эту форму и буквально разгоняющими эту компанию, обстоятельствами, которые не могут ею репрезентироваться, разыгрываться и регулироваться: денежными проблемами и нехваткой капитала, конкуренцией и несчастными случаями[65]. И поэтому снова – в начале восьмой книги – рядом с Мейстером возникает его друг Вернер как его дополнение и оппонент, фигура которого «полезна для целого» и облагораживает его «реализм»[66], реализм, в дальнейшем направляющий линию нисхождения романа. Ведь чем больше протагонист занимается спектаклем и чем активнее претендует на публичное признание, тем дальше он от всего этого отходит, становясь на какой-то другой путь. Под конфликтом феодальной и буржуазной инсценировки, под слоем интенциональных поступков и волеизъявлений, маркерами которого служат театральные подмостки и репрезентативное лицо, роман Гёте сплетает сеть из случайностей и латентных регуляций, точку схода которой образуют «таинственные силы башни»[67]. Справедливо указывалось на значение экономических мотивов и на то, что мир «Годов учения» – это мир рынка, который – как об этом говорит Вернер – посредством циркуляции и оборота капитала внедряется в репрезентативные формы публичной сферы; и административные усилия Общества башни в конечном счете направлены не на институции, не на консенсуальное соединение отдельных воль и воспитание моральных личностей, а на регулирование «сил» и индивидов, желаний и циркулирующих потоков товаров и денег, а следовательно, на управление контингентными фактами материальной и экономической жизни[68].
Таким образом, при переходе от «Театрального призвания» к «Годам учения» возникает ряд противопоставлений и оппозиций, затрагивающих ход развития личности Вильгельма Мейстера, его «учение», а равно и аргументацию политического слоя романа. Так, например, целенаправленным действиям протагониста противостоит контингентность множества событий, расстраивающая его жизненный план и тем не менее гарантирующая исполнение многих его желаний (женитьба, благосостояние, признание); и подобно тому как в «экономике» миссионерской системы гернгутеров «незримая рука», «незримый» друг и наставник направляет душу на провиденциальный путь, в миссионерской системе экономики Башни невидимые руки, глаза, агенты и функционеры словно бы подгоняют провидение, исправляющее решения, пробуждающее и направляющее желания, укрощающее страсти, создающее альянсы и устанавливающее стабильные отношения с объектами[69]. При этом «общественное лицо» как маска и апатичный субстрат сингулярных существований контрастирует с индивидом, который именно в своих страстях и интересах, потребностях и желаниях вовлекается в игру политического планирования, и не случайно в финале этого последовательного разоблачения должны оказаться уже не «видимость» и актер, а врач и нагота, «человек без покровов» и «истинный» человек[70]. Тем самым перспектива сдвигается с притязаний репрезентации и ролевой игры на материальный базис, определяющий расчеты и проекты Общества башни. Публичное взаимодействие по модели театра сталкивается с закулисными действиями Башни, которая посредством своих посланцев тайно управляет индивидами и проникает в персональные взаимоотношения внутри социальной коммуникации. Поэтому в конце концов инсценировке и театру противопоставляются письменные формы и аппарат фиксации данных, который используется для организации нового сообщества, хранения информации и ведения его архивов. Уже указывалось на специфическую структуру этого общества, мутировавшего из страховой компании в международный концерн и превратившего отпрыска патрицианской семьи, да еще и с аристократическими амбициями, в «равноправного налогоплательщика»[71]. При этом существенными представляются три момента: во-первых, это как раз дисфункциональные на первый взгляд элементы и контингентные события романа, цепь «ошибок» и «несуразностей», которые влекут за собой ироническую ситуацию развязки и позволяют тому, кто как Саул, «пошел искать ослиц отца своего», в конце концов найти «царство» – «в нашем мире тщетно отстаивать собственную волю»[72]. Во-вторых, тем самым комплекс бессознательных склонностей и взаимосвязей становится предметом политических и нарративных регуляций, обстоятельств, складывающихся в систему за спиной субъектов и определяющих их судьбы. И в-третьих, Башня организуется в совокупную сеть всех случайных событий, в место управляемой контингентности, отвечающее за высочайшую плотность в связях между всеми индивидами, вещами и мотивами, производящее и «репрезентирующее» эти «связи». Во всяком случае благодаря этому всецело земному провидению в конечном счете желания и намерения почти каждого человека подвергаются коррекции, каждому отводится его место, а того, кому не удалось найти места, выпроваживают из этого мира. И именно поэтому Башня становится тем органом, который и есть сам роман и который может теперь поместить «годы учения» Вильгельма Мейстера внутрь себя самого, сохранить в своем архиве и инициировать бесконечно рекурсивное и – как в продолжении «Годов учения» «Годами странствий» – бесконечно уплотняющееся чтение. Поэтому Башня не просто связывает рассеянный в функциональном отношении замысел сюжета романа, скорее она инкорпорирована в саму его структуру[73]. Театр и Башня, репрезентация и архив (а в конечном счете и спектакль, и роман) определяют варианты биографии и различные способы изображения протагониста, и кроме того, они включают в себя различные уровни описания и даже различные поэтики политического, которые формируются, с одной стороны, с помощью модели публичности, персонализма и договорной обоюдности, а с другой – посредством регулирования, контроля и управления материальными, физическими, либидинозными и экономическими движениями. В «Годах странствий» Гёте даже акцентировал это различие и на одном фланге разместил «право», связанное с взаимностью, «долгом» и «отдельными лицами», а на другом – «политическую власть», предметом которой является «пристойное» и «общество»[74]. Тем самым, как представляется, наряду с репрезентативным принципом, наряду с символическим телом политического существа, которое, законодательствуя и устанавливая нормы, диктует хореографию отдельных персон, сложился некий корпус иной плотности и иной консистенции, тело, благодаря силам и действиям которого как будто бы составляется физика общественной жизни.
Разумеется, нельзя не отметить, что и в естественно-правовых теориях XVII–XVIII веков речь идет отнюдь не только об объединении отдельных воль в государство-личность, о секулярной легитимации политического господства и о репрезентации и ограничении суверенной власти. Уже начиная с Макиавелли создатели учений о политическом благоразумии, и в первую очередь теоретики государственного интереса, стремились к рационализации политики, которая апеллирует к специфическим техникам и знаниям, касающимся установления, укрепления и увеличения государственной власти[75]. Но лишь с XVII столетия конституируется знание, непосредственно связывающее вопрос о строении государства с политической эпистемологией, которая формирует определенный систематический тип рациональности и рассматривает законы, которым подчиняются государственные дела и политические тела, как два аспекта одного и того же поля знания – в надежде, что вслед за прогрессом в математике, физике или медицине могут быть открыты и законы, точно так же движущие человеческими поступками, как те, что руководят движением светил или животных тел[76]. Открытие всеобщих закономерностей в природе – астрономия Коперника, физика Галилея и Ньютона – соотносится с представлением о некоей особенной рациональности политического существа, которая расстается с моделью божественного правления и должна искать свои принципы в себе самой. Это ведет не только к попыткам построения системы, которая должна more geometrico восходить от движений природных вещей к движениям человека и далее к движениям corpus politicum[77]; и не только к тому, что – как в знаменитом введении Гоббса – знание о «Левиафане» описывается как политическая физика и политическая физиология, обещающая найти способ конструирования великого «искусственного человека» по модели естественного[78]. Здесь важным представляется прежде всего сам факт двойного – интенсивного и экстенсивного – развития комплекса политических знаний, в которых речь идет не столько о хорошем или плохом правлении, сколько о своего рода самопознании государства, – например, Монкретьен еще в 1615 году жалуется, что при всем изобилии государству недостает одного, а именно, точного знания о себе самом, а тем самым адекватного представления о своих силах[79]. Заблуждения, иллюзии, предрассудки, суеверия, нестрогие понятия или сугубо приватные мнения не могут не привести не только к ошибочным политическим решениям или к ослаблению монарха, но и к гибели самого политического существа; и если отсутствие метода или невежество порождает величайшие катастрофы, например гражданскую войну, то способ политического познания, который отныне в равной мере апеллирует как к самому человеку, так и к природным вещам, живым существам и материальным благам, ручаясь при этом за корректность наблюдений и выводов, обосновывает то рискованное и критическое знание, которое одно только объясняет предпосылки функционирования государства и судит о возможности его сохранения или распада[80].
Отныне государственное существо превращается в особого рода объект знания, и его гармоническое состояние более не основывается на созерцании самодовлеющего и необходимого мироздания. Напротив, его закономерность и связность можно вывести из динамики меняющихся ситуаций и – как это подразумевает расширение механистических способов познания – систематизировать в полном соответствии с познавательной моделью эмпирического исследования природы. Дискуссии о новоевропейском рациональном и естественном праве разворачиваются на почве политической эпистемологии, которая распознает фигуру когерентного и самодвижущегося порядка лишь за разрозненными единичными феноменами и в закономерной связи между на первый взгляд беспорядочными движениями и вещами. Отсюда, например, апелляция к идее «системы» в астрономии, дающей образец законов изменения и взаимосвязей движения; отсюда и значение концепций «политической анатомии», извлекающей экспериментальный аспект из параллели между body natural и body politic, представляющий собой получение квалифицированного знания с помощью искусства политического препарирования, которое, как и в медицине, исследует пропорции и способы функционирования политического тела прежде всего на ясных, простых и элементарных примерах[81]. И наконец, с этим же связан и вопрос о консистенции человека, о том, каков он «в действительности» и как он в качестве такового может предопределять программу учреждения государства. Если антропологизация политики стала заметна уже начиная с Макиавелли[82], то теперь эмпирически ориентированное государствоведение вращается прежде всего вокруг типичного представителя человеческого рода, который вместе со своими ощущениями и фантазиями, страстями и желаниями и, наконец, в качестве двойной фигуры – как «материал и как конструктор» – включается в расчет политической рациональности. Оно вращается вокруг «человека», который еще не рассматривается ни как моральное существо, ни как политическое животное, ему, скорее, приписывается предшествующая всему этому дисфункциональность, и поэтому требуется некое новое исчисление его социального и политического поведения. Ведь «если бы мотивы человеческих поступков были познаны столь же точно, как отношения величин в геометрических фигурах, то честолюбие и корыстолюбие, чье могущество опирается на ложные представления толпы о праве и несправедливости, оказались бы безоружными, и человеческий род наслаждался бы столь прочным миром, что единственным поводом для борьбы мог бы оказаться лишь недостаток территории из-за постоянного увеличения численности людей»[83]. А в другом месте у Гоббса говорится: «Подобно тому, как в часах или в какой-нибудь другой достаточно сложной машине нельзя узнать, в чем состоит роль каждой детали и колесика, если не разобрать их и не изучить отдельно материал, форму и движение этих деталей, так и при изучении государственного права и гражданских обязанностей необходимо если и не расчленять самое государство, то по крайней мере рассматривать его как бы расчлененным, то есть постараться правильно понять, какова человеческая природа, что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить вместе. И вот, следуя этому методу, я…»[84]
Учение о государстве исходит из аксиоматических предположений о «действительном» человеке, и уже у Гоббса апология persona дополняется методически продуманным протоколом разоблачения, объясняющим те условия и закономерности, в соответствии с которыми затем вымеряется адекватная конфигурация репрезентации и закона. Если государственное существо учреждается в театре ролей и представителей, то государствоведение проникает даже за кулисы, по меньшей мере оно совершает жест, который в «Как если бы» государства-лица фиксирует «Как если бы» его дезинтеграции и, «рассматривая его как бы расчлененным», дополняет сценическую игру репрезентации игрой истины его оснований, вполне в духе эвристической перспективизации пресловутого «естественного состояния»[85]. Будь то у английских философов, французских моралистов или немецких теоретиков естественного права – отныне всякая политическая конструкция занимает определенную позицию в отношении «природы» человека или предполагает ее. И интерпретировалась ли эта природа пессимистически или оптимистически, относилась она ко времени, предшествовавшему зарождению обществ, или понималась как уже социализованная, в любом случае она во многих отношениях сформировала тот новый, далеко идущий «реализм» или «эмпиризм» политической теории, которым пропитана программа теории общественного договора даже у Руссо: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы – такими, какими они могут быть»[86].
Поэтому, пожалуй, не стоит переоценивать тогдашние дискуссии об онтологии естественного состояния, о многообразии понятий природы и о той или иной естественности естественного человека. Так, например, у Пуфендорфа естественное право подразумевает тщательное исследование «природы человека, его ситуации и его склонностей»; но одновременно именно естественное право оказывается у него и наукой, которая может рассматривать человека только таким, «каким он является в своем сегодняшнем испорченном состоянии, а именно как создание, наполненное разнообразными дурными желаниями»[87]. Поэтому в апелляции к какой бы то ни было «природе» человека осуществляется прежде всего определенная десубстанциализация человеческого, проводится дифференциация между несомненными моральными данностями и социальными детерминантами, дифференциация, отменяющая устоявшуюся предпосылку политического животного и утверждающая отношение политического порядка и поведенческих модусов в качестве особого рода объекта знания. Сколь универсальными ни казались бы естественно- и рационально-правовые обоснования, сколь врожденными и «вписанными в сердце» ни казались бы естественное право и разум, они тем не менее требуют исследования такого человека, который в настоящее время демонстрирует нестабильное, изменчивое и даже враждебное поведение и одновременно с любой постановкой вопроса об учреждении социальности принуждает обратиться к антропологическому знанию.
Итак, как представляется, таковы основные черты логики и перспективы просвещенческого государствоведения, исходя из которых обретает свое место и свою основополагающую систематизацию вопрос о «действительном человеке». При этом данный предмет уже не мыслится субстанциально, теперь это человек в контексте актуальных поведенческих модусов и связей, у которого любое определение и любое отношение к самому себе вызывает проблему многочисленных и ненадежных корреляций, как это можно проследить на примере растущего интереса к концепциям «самосохранения» и «себялюбия»[88]. Поэтому в самую глубину его существа вписана специфическая неопределенность, отчетливо проявляющаяся лишь в социальной коммуникации и становящаяся детерминирующим фактором в сфере политического знания. И в конечном счете это наводит на мысль, что отныне всякая антропология также должна рассматриваться из перспективы антропологии политической или прагматической[89]. Таким образом, систематизация политического знания и генезис систематически понимаемой антропологической фигуры оказываются неразрывно взаимосвязанными. С конца XVII столетия действительность человека и конъюнктура антропологического вопроса занимают место отсутствующей теории общества и укореняются в просвещенческих социально-политических представлениях[90], которые в итоге в конце XVIII века изменяются на основе концепции «тройственного» человека и его корреляций: ноуменального или «метафизического» человека, который не дан в качестве объекта в созерцании; «естественного», который в своего рода контрарной фикции экстраполируется на начало вещей; и человека, искусственно сделанного или «симулированного», который конституируется как некая переменная и момент неопределенности в непрозрачной среде законов своего социального движения[91].
Итак, политическая антропология основывается на существовании внеморальных поведенческих типов, на перечне закономерностей при наличии контингентных взаимосвязей и в сфере приблизительных социальных данных. Она обращается к вопросу о депарадоксализации элементарных, антагонистических отношений, которые зафиксированы еще в понятии «недоброжелательной общительности» и которые в конечном счете связаны с проблемой учреждения государства даже для «народа, который состоял бы из дьяволов»[92]. Именно в силу того, что человек заключает в себе источник беспорядка, его рассматривают как носителя социального порядка. Его пребывание в обществе вовсе не является чем-то необходимым, оно случайно, и, заостряя тезис, можно было бы сказать: человек отнюдь не по природе своей является политическим живым существом, реализующим себя в государстве, напротив, природу государства здесь создает политическое знание, которое, в свою очередь, прибретает антропологическую направленность в вопросе о действительном человеке. Еще у Гоббса в основании заключения первичного договора лежит такого рода теоретическое усилие, ведь первый пакт мотивируется тем обстоятельством, что агрессивные стремления человека могут уравновешивать «страх смерти» и «желание вещей, необходимых для хорошей жизни», и что они могут быть направлены к соединению несоединимого[93]. Основанием для этого является механика страстей, функционирующая по модели галилеевской механики физических тел. Все аффекты в целом представляют собой движения appetite и aversion[94], aditio и fuga[95], общее стремление которых заключается в «самосохранении», и будучи однажды вызванным к жизни, оно не прекращает своего равномерного течения, причем «с той же природной необходимостью, с какой камень падает на землю». А эта природная необходимость, в свою очередь, получает свой импульс от двигателя всех человеческих движений, от сердца и кровообращения, свободный ход или задержка которого мотивируют чувство удовольствия и неудовольствия[96]. Тем самым бесконечность движения инертных тел, как его описывают механические законы сохранения, одновременно позволяет сформулировать закон безграничности человеческих стремлений[97]; и уже детально демонстрировалось, как, основываясь на этом новом, доступном антропологизации уровне описания, взаимная игра страстей и аффектов обращается к концепциям регуляции, которые уже не могут сводиться исключительно к подчинению, принуждению и репрессии или к голой инструментализации эгоистичных страстей. Поэтому знаменитый подзаголовок басни Мандевиля – «Private vices, publick benefits»[98] – можно рассматривать как формулу того, каким образом страсти взаимно нейтрализуют друг друга, как они рационализуются в тех или иных интересах или как в самом понятии «интереса», возникшем из государственных резонов, оформляется разновидность продуктивного и поддающегося исчислению эгоизма[99]. Аффекты, страсти и интересы взаимно уравновешивают друг друга, и эту функциональную трансформацию можно продемонстрировать на примере древней троицы грехов, superbia, invidia и avaritia[100], которая некогда воспламенила человеческое сердце и которая в том же сочетании вновь возникает у Мандевиля, Пуфендорфа и даже у Канта[101]: в осознании того факта, что действительно продуктивными являются не умеренные, а в первую очередь наиболее сильные склонности; что, например, скупость других кажется кому-либо пороком, прежде всего с его собственной порочной точки зрения; что она компенсирует противоположную страсть, расточительство, или же сама обезвреживается в каких-то других аффектах; что таким образом скупость – как и расточительство – в своих различных комбинациях и в силу тех или иных своих эффектов способствует кругообороту и распределению богатств; и что теперь хороший политик может исходить не из добродетелей и усредненных качеств, а только из случаев предельного проявления страстей, и он рассматривает эти страсти, подобно своего рода составным частям, в их смеси, в их воздействии друг на друга, – как они, «смешанные в правильной пропорции, составят отличный напиток, который нравится людям самого взыскательного вкуса»[102]. Стало быть, то, что само по себе может быть неприемлемым, скандальным или вредным для отдельных людей, лишь с точки зрения целого порождает цепь причин и следствий, в которых результаты действий того или иного типа уже не могут оцениваться согласно одному лишь критерию их ограниченных мотивов, целей и намерений вне ситуационного контекста[103]. При этом речь идет не столько о переоценке религиозных, моральных или правовых ограничений, сколько о некоем новом субъекте страстей и интересов, трансцендирующем границы правового субъекта; речь идет о разметке нового познавательного поля, о тесном переплетении взаимозависимостей, в котором образ действий целого более не измеряется действиями индивидов, о переплетении, в котором каждый человек в отдельности ведет себя лабильно и неопределенно, но поведение людей, взятых вместе, оказывается предсказуемым и поддается расчету, а потому может рассматриваться как проявление закономерностей по эту сторону правовых норм и моральных законов.
Известно, что начиная с XVIII столетия такого рода изменение в умонастроениях не только стало общим местом в моральной философии, – например, в рассуждениях о «гармонии интересов»[104], – но и благодаря концепциям «невидимой руки» или «хитрости разума» получило систематическое одобрение в рамках телеологии, выводящей из взаимного противодействия объектов некую внешнюю для них самих цель[105]. На примере семантики invisible hand Смита удобнее всего проследить, из каких элементов складывается подобная взаимозависимость и подобная закономерность в рамках установленных законов, как она проникает в поле политической эпистемологии и со все большей остротой дает о себе знать в антропологической проблематике. Ведь прежде чем «невидимая рука» из «Богатства народов» (1776) предстанет как общее место для того движения, которое обращает собственный интерес и стремление к прибыли в сторону «всеобщего блага» и обнаруживает действенность экономической операции в бессознательной эффективности экономической рациональности вообще[106], это выражение появляется в совершенно ином контексте, который, однако, весьма примечателен. В своей написанной, по всей вероятности, приблизительно в 1758 году «Истории астрономии» Смит говорит о неспособности политеистических религий сводить к регулярностям нерегулярные природные события, в которых именно поэтому обнаруживает себя чудотворная сила древних богов. Если естественным образом «огонь горит, а вода обновляется, восстанавливая запасы», если «тяжелые тела стремятся лететь ввысь», то такие экстраординарные явления, как молния, гром или буря, требуют объяснения, в качестве которого у древних в конце концов может выступать только «невидимая рука» Юпитера[107]. Стало быть, невидимая рука здесь представляет собой факт космологии, и к тому же такой, который отмечает в цепи событий нечто нерегулярное и сверхъестественное, являя собой кажущуюся противоположность закономерному и регулярному действию «невидимой руки» в экономической теории Смита. Впрочем, констелляция такого рода позволяет вспомнить о рассуждениях, в которых столетием раньше взаимосвязь природных вещей сравнивалась со скрытым действием «незримой руки», с космологическим действием, подобно работе часового механизма, прячущимся за голой видимостью циферблата и стрелок[108]. К тому же и сам Смит еще раз использовал это выражение в центральном пассаже своей «Теории нравственных чувств» (1759), где «незримая рука» отсылает уже не к простому незнанию, – как в космологии древних, – а к осуществлению необходимого и полезного обмана. Это место также достаточно известно: пусть, пишет Смит, «гордый и бесчувственный землевладелец» оглядывает свои обширные владения и в своем воображении пожирает покрывающие их богатые жатвы, ни на одну минуту не помышляя при этом о «потребностях своих ближних»; но «вместимость его желудка не находится в соответствии с безмерной величиной его желаний» и выступает в качестве непреодолимой физической или физиологической границы. Выходит, он поневоле должен как-то распределять остаток урожая и именно в силу своего стремления ко все большей «роскоши», к «безделушкам и излишним вещам» удовлетворять потребности других. Итак, вопреки или как раз благодаря своему «эгоизму и алчности» богатые делятся своим богатством с бедными: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода»[109].
Итак, ядро закона движения, связываемого с образом «невидимой руки», составляет многокомпонентный антропологический аргумент, идущий от физиологической данности к наблюдению страстей и далее к формированию закономерных, провиденциальных взаимозависимостей. И отнюдь не случайно в своем письме, адресованном Смиту сразу после выхода в свет «Теории», Юм ссылался на опубликованный незадолго до этого трактат Гельвеция «Об уме». Ведь в нем также поднимается вопрос об удачном взаимодействии страстей и интересов, в нем также речь идет о формулировании закона, в равной мере физического и политического, действующего как в природе, так и в государстве: «Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса»[110]. На этом фоне можно распознать сложный конгломерат референций, порождаемый завоевавшей популярность концепцией «невидимой руки». Это касается не только – как в «Годах учения Вильгельма Мейстера» – идеи провиденциального руководства. Скорее между вопросом о космологическом или физическом законе, с одной стороны, и вопросом о социальном или экономическом функциональном принципе – с другой, располагается определенная антропологическая фигура, выполняющая роль связывающего их звена. Закон, которому подчинено движение небесных тел и природных вещей и в отношении которого заблуждались древние, и земное политическое провидение, по поводу которого неизбежно обманывают сами себя люди новейшей эпохи, теперь совпадают в человеческой природе, где связь физиологии, естественных страстей и эгоистических интересов создает закономерные взаимозависимости. Эта природа гарантирует, что из сингулярных акций возникает целостная сеть регулярностей, которая за спиной индивидов генерирует тяготение к некоей неосознаваемой ими цели на пользу всем[111]. Стало быть, по меньшей мере в этом отношении и Адам Смит все еще остается на почве, очерченной политическим знанием XVII столетия, где дисфункциональные поведенческие модусы систематизируются с оглядкой на законы движения в природе и обосновываются в обращении к человеческой природе. И теперь можно было бы констатировать следующее: естественно-правовое обоснование политического господства одновременно апеллирует к политической эпистемологии, освещающей некий новый тип политической рациональности по модели систематического опыта исследования природы. При этом структура государства, складывающаяся из репрезентации и представительства, удваивается за счет познавательного поля, фиксирующего данные эмпирического тела государства. В нем формулируются закономерности, составляющие как бы «базис» государства-лица и юридической конструкции государства, закономерности, затрагивающие человека, «каков он есть на самом деле», и в своей сердцевине порождающие антропологическую проблематику.
Такого рода положение может быть понято и как конец аристотелизма в его политическом аспекте. Ведь с появлением в конце XVII столетия конвенционалистских теорий и с утверждением политической эмпирии связано и фундаментальное изменение концепций «политического тела», его формы и его внутренней когерентности. У Аристотеля речь также шла о том, что в связности сообществ обнаруживаются структуры, аналогичные zoon[112] и soma[113] (совершенно в неметафорическом смысле), но при этом подразумевалось прежде всего единство различного, отношение частей и целого и необходимая связь между господствующим и подвластными. С одной стороны, для этого использовалась модель дома и семьи, в которой различные функции, виды деятельности и члены объединяются под управлением хозяина, отца семейства. С другой стороны, образцом служила царящая повсюду иерархия как во внутреннем строении человека, так и в отношениях между людьми, живыми существами и даже неодушевленными вещами. «И во всем, что составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы…»[114] И в новоевропейском государствоведении еще была заметна значимость модели «дома» и аналогии руководящих принципов, которые можно обнаружить в истории влияния аристотелевских представлений о политике и экономике и которые у юристов XVI–XVII веков соединяются в фигуре суверенитета. Так, например, теория государства Жана Бодена снимает аристотелевское различие между oikos и polis, тем самым уже предвосхищая «политическую экономию», в которой политическое правление усваивает принципы старой oikonomia. Но тем не менее государствоведение и искусство правления оставались закрепленными между двумя координатами, заданными, с одной стороны, институтом суверенной власти, а с другой – семьей как «источником и первоначалом государства», как «истинным отображением государства» и «образцом для правления в государстве»: «Как все тело обладает здоровьем, только если каждый отдельный телесный член исполняет свои обязанности, так и государство будет обладать здоровьем, если семьи руководятся надлежащим образом»[115].
Таким образом, благодаря проблеме суверенитета и модели семьи конституируется некий универсальный принцип правления, который еще не в состоянии отвергнуть аристотелевские или томистские установки: Бог повелевает ангелами, те – людьми, люди – животными, душа – телом, разум – желаниями, а монарх в той же мере есть образ Божий на земле, в какой порядок мира есть подобие «благословенного государства»[116]. Стало быть, тот, кто, как говорил Жан Боден, не желает цепляться за иллюзии и утопии, а вопрошает о постижимости «политического опыта», обнаруживает в этих аналогиях точку опоры для суверенной власти, вновь и вновь проявляющейся во всех отношениях и правящей на небесах и на земле, как в государстве, так и в семье. Знание о государстве вращается здесь не вокруг людей и благ, «местожительства» или «населения», а все еще вокруг объединительной силы того неделимого, неизменного, прочного и чистого суверенитета, который устанавливает меру всех отношений, подобно тому как золото устанавливает стоимость вещей, а единица – величину чисел[117]. Его слово предстает в сравнительной степени, superanus или superior, а его движение есть восхождение со ступеньки на ступеньку[118]; он находится по ту сторону законов и сам порождает их, он им предшествует и тем не менее говорит непосредственно через них. Всякая власть есть власть закона, а последняя, в свою очередь, концентрируется в руках монархов и отцов семейств. Действительность и история государств заключается – у Бодена – в проявлениях суверенного могущества, определяющего способ существования всего государственного тела в целом. И поэтому любое покушение на законы и ослабление их силы равнозначно полному преобразованию или концу государственного существа; кажется, что изменять государственные законы столь же рискованно, как «сотрясать фундамент или краеугольные камни, несущие тяжесть здания»[119].
Впрочем, спустя столетие цепь этих аналогий прерывается, монарх уже не образ Божий, но репрезентант и представитель, а знание о строении государств более не остается – как было показано – кодифицированным исключительно в его законах. Если уже Гроций, например, критиковал учение Бодена о суверенитете за смешение правовой доктрины с государствоведением[120], то конвенционалистские теории, начиная с Гоббса и Пуфендорфа, предлагают рассматривать строение государства как объединение противоречивых компонентов, включающее в себя, наряду с формированием государства-лица, и возникновение знания, которое затрагивает элементарные модусы функционирования сообщества. И если у Бодена государство еще определяется как «правление на основании права»[121], то теперь юридические принципы государств и максимы правления разделяются, и в конечном счете в этой констелляции «все мнимые законы естественного права, вытекающие из искомых тезисов», могут даже показаться не более чем «химерами ученых»[122]. Тем самым единое, гомогенное и сфокусированное в луче суверенитета государственное тело разрушается или по крайней мере внутренне раздваивается. Еще Карл Шмитт указывал на имманентное удвоение государства у Гоббса, у которого юридическая договорная конструкция объясняет появление созданного репрезентацией суверенного лица. Но его внутренняя логика ведет не к персонализации, представительству и суммированию отдельных воль, а к функционированию некоей отлаженной во всех компонентах машины, которая в первую очередь интегрирует и перерабатывает физическое существование подвластных ей индивидов. Тем самым намечается исходящая из картезианского механицизма радикальная рационализация политического существа, которая трансформирует концепцию политического тела, обосновывает распространение понятия государственной машины и которая – как говорит Шмитт – в действительности не может ограничиваться и завершаться легитимационной игрой суверенно-репрезентативного лица[123].
В любом случае теперь представительства, волеизъявления и репрезентации суверенной власти оказывается недостаточно для описания способа существования политического тела, и за поворотом к абстрактной естественно-правовой дедукции вырисовывается предметность государства, находящаяся по эту сторону юридического. На первый план выходят новые сущности, и благодаря им историческая наука также становится государствоведческой дисциплиной, во всяком случае такой историей, которая наряду с формами правления и законами, конституциями и династиями вводит в описание государства и другие переменные: количество, свойства и положение населения, способы производства, множество движимых и недвижимых благ, климат и состояние нравов, болезни и катастрофы, денежное обращение и плодородие почвы…[124] Отныне все эти факторы мыслятся в сложных отношениях, затрагивают не статус, а связи между людьми и вещами и, следовательно, общественные коммуникации и провоцируют – по эту сторону и наряду с potestas[125] – формирование понятия социальной потенции, способности, раннее и, возможно, самое точное определение которой дал Лейбниц: «Regionis potentia consistit in terra, rebus et hominibus»[126]. По аналогии с формулой «двух тел короля», с помощью которой на примере средневековой теологии права Эрнст Канторович описывал специфическое удвоение политического тела, смертного и непреходящего, физического и неуязвимого носителя королевской власти, тот дуализм, который, исходя из христологических моделей, организует политическую иконографию, теорию монархического правления и определенные правовые механизмы вплоть до возникновения новоевропейских модусов репрезентации королевской персоны[127], начиная с XVII столетия можно было бы говорить о «двух телах государства»: о символическом или репрезентативном, проявляющемся как конфигурация общей воли и эту общую волю инкорпорирующем и детемпорализующем; и о физическом, охватывающем взаимосвязь населения, индивидов и благ и в игре страстей и интересов, в конечном счете организующем комплекс из изменчивых «сил» и «способностей»[128].
Итак, отныне два тела различного порядка определяют контуры поля дискуссий по поводу новых вопросов о правлении. Ведь, с одной стороны, даже теперь «конструкция искусственного человека» все еще соизмеряется «искусственной вечностью», которая переживет «материал» форм правления и естественные тела[129]; и даже теперь – например, у Пуфендорфа – corpus politicum рассматривается как «большое мистическое тело», в котором различные члены соединены и удерживаются вместе узами естественного права, тело, которое поэтому отсылает обратно к corpus mysticum средневековой экклесиологии, к выражению, которое с Тела Христова евхаристии переносится на церковную корпорацию, затем, начиная с Фомы Аквинского, как persona mystica связывается с persona repraesentata или facta юристов в области римского права и, наконец, с XIII столетия как corpus rei publicae mysticum может быть отнесено к прочному и коллективному государственному телу[130]. Аналогия между природным и политическим телом проводится здесь – на примере притчи Менения Агриппы и ее модификации у апостола Павла – для обоснования связи между головой и остальными членами: ведь «подобно тому, как люди соединены вместе духовно в духовное тело, глава которого Христос […], так же они морально и политически соединены в respublica, каковое есть тело, глава коего – государь»[131]. И даже еще у Гоббса говорится: «Но если церковь есть единая личность, то она совпадает с государством христиан, которое называется государством, потому что оно состоит из людей, объединенных в одном месте, в лице своего суверена, и называется церковью, потому что состоит из людей-христиан, объединенных в лице суверена-христианина»[132]. С другой стороны, теперь, начиная с конца XVII столетия, эти модели и аналогии оказываются недостаточными для описания элементарных способов функционирования государства и – как уже в физикализме Гоббса – переистолковываются в духе гомологии физических и политических закономерностей. В своем детальном анализе гравюры титульного листа «Левиафана» Райнхард Брандт уже установил, как это имманентное удвоение политического тела представлено к тому же с иконографической точностью. Ведь в эмблематической прозопопее государства как фигуры с распростертыми руками воспроизводится в первую очередь эпифания Спасителя, превращающая земную фигуру в духовное явление Распятого, corpus politicum – в Тело Христово и соединяющая в политическом теле представление об ecclesia как корпорации, а вместе с ним также и смертно-бессмертное государство со смертно-бессмертным corpus Christi средневековой политической теологии. Но в то же время это изображение слегка децентрировано и сдвинуто влево по вертикальной оси, так что центральная точка всей конструкции оказывается на месте сердца (см. рис. 1, с. 34). И этот сдвиг не только вызывает контроверзу между головой и сердцем, но и прежде всего указывает на механистический способ функционирования большого искусственного человека, движение которого коренится в движении сердца. «Ибо, наблюдая, что жизнь, – пишет Гоббс во введении к „Левиафану“, – есть лишь движение членов, начало которой находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы […] имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы – как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу, как этого хотел мастер?»[133] Таким образом, наряду с головой суверена, которая подобно восходящему солнцу возносится над раскинувшимся перед ним ландшафтом, в качестве жизненного принципа, центрального солнца, движущего центра и местопребывания суверенитета утверждается и сердце, как об этом говорил Гарвей в своем «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных» (1628)[134]. Здесь фигура государства рассматривается как своего рода двойное светило, обозначающее различные способы действия целого, а асимметрия этого изображения фиксирует тем самым внутреннюю раздвоенность государственного тела, в котором сосуществуют символическое тело и машина, corpus mysticum и механическая функция. Впрочем, подобная дифференциация и дихотомия присутствует еще у Руссо: если «политическое тело» может рассматриваться как «организованное и живое тело», то «суверенная власть» представляет собой голову, тогда как сердце выполняет задачу распространения богатств «по всему телу, питая его жизнью», а стало быть, является местопребыванием политического витального принципа[135].
Во всяком случае теперь «все тело общества в целом» уже невозможно отобразить в аристотелевском corpus morale et politicum, в «общности отцов семейств»[136] и в символическом и непреходящем теле суверена. Скорее оно конституируется как предмет некоего функционального знания, идущего от законов физики и физиологии к регулярности коммуникаций и рассматривающего жизнь государства не в каком-то символическом порядке, а в качестве контролируемого поля сил. И, несколько обобщая, можно было бы сказать, что вплоть до конца XVIII века под влиянием дихотомического строения политической и социально-философской теории формировалось просвещенческое государствоведение, распадающееся на две составные части – на юридическую кодификацию и описание социальных силовых полей, на репрезентативное и физическое государственное тела. Разумеется, соединение множества воль в одну-единственную волю образует фундамент государства и порождает его моральное тело; однако как деятельность каждого отдельного тела зиждется исключительно на силе, как его движение представляет собой результат координации сил, так и функционирующее государство конституируется как диаграмма распределения сил, а его мощь измеряется в конечном счете по величине результирующей силы. Лишь благодаря соединению воль и сил возникает одно-единственное тело: «Общая сила, которая у разумного существа направляется одной-единственной волей, есть понятие, имеющееся у нас о теле, одушевленном разумным существом. Следовательно, республика есть простое неделимое тело, которое во всех своих частях обладает точнейшей связностью»[137]. Наряду с вопросами естественного и рационального права, наряду с репрезентацией и ограничением суверенной власти и с абстрактным телом государства-лица появляется некая материальность государства, которая составляется из направлений различных сил, из скопления руководствующихся своими интересами индивидов и которую невозможно систематизировать с помощью одних лишь правовых положений и законов. Вплоть до Кондорсе сосуществуют два расходящихся и тем не менее взаимосвязанных способа рассмотрения политического тела[138]
