Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях
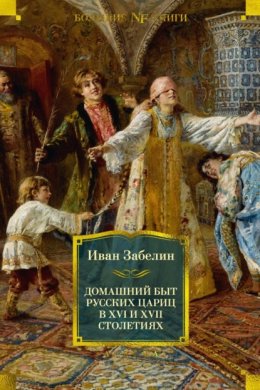
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Глава I
Женская личность в допетровском обществе
Общие черты положения женской личности в допетровском обществе. – Суждение Котошихина и суждения исследователей-идилликов. – Коренное начало древнерусского общества. – Родовой быт. – Идиллия семейно-общинного быта. – Смысл рода и смысл общины. – Родовая идея есть идея родительской воли-опеки. – Достоинством личности было «отечество». – Местничество и вече суть выражения древнерусской общественности. – Существенный ее характер. – Родовая идея – воспитательница русской личности. – Домострой – школа личного развития. – В чем полагалась самостоятельность личности. – Основные черты характера русской личности. – Господарство воли и детство воли. – Общая характеристика допетровского общества.
Котошихин в известном своем сочинении «О России в царствование Алексея Михайловича» рассказывает, что когда были московские послы на свадьбе у польского короля, то правили посольство и подносили свадебные дары от царя и от царицы особо королю и особо королеве. Править посольство значило исполнять его самолично пред лицом потентата. Желая в той же мере отблагодарить московского царя, и польский король посылал к царю своих послов и велел посольство править и дары подносить от себя и от королевы царю и царице, тоже каждому особо – так, как делали наши послы в Польше. Этого, конечно, требовало обычное вежество, обыкновенный этикет во взаимных сношениях двух государей. Но, справив посольство и поднеся дары царю, польские послы по московскому обычаю не были допущены к царице. «А к царице посольства править и ее видеть не допустили, – говорит Котошихин, – а отговорилися тем: назвали царицу больною; а она в то время была здорова. И слушал у послов посольства, т. е. обычные речи, и дары за царицу принимал царь сам». Точно то же случилось с английским послом, приезжавшим к царю с дарами по такому же поводу в 1663 г.
«Для чего так творят?» – вопрошает Котошихин, желая открыть иноземцам, для которых он писал свое сочинение, истинные причины этого обычая и делая с этою целью сей достопамятный ответ.
«Для того,– отвечает он,– что Московского государства женский пол грамоте неученые, и не обычай тому есть, а породным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы: понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственных, чужие люди, никто их, и они людей видети не могут. И потому можно дознаться, от чего б им быти гораздо разумными и смелыми. Так же как и замуж выдут, и их потому ж люди видают мало. И только б царь в то время учинил так, что польским послом велел быть у царицы своей на посольстве; а она бы, выслушав посольства, собою ответа не учинила б никакого, и от того пришло б самому царю в стыд»[1].
Настоящий случай, почему царица не вышла принять посольство, Котошихин объясняет не совсем верно, ибо править посольство иноземным послам прямо пред лицом царицы строго воспрещал стародавний обычай. Послы не могли видеть царицу не потому, что царь боялся стыда от ее несмышленых и стыдливых отговоров, а потому, что хоромы царицы были совсем недоступны не только для иноземных послов, но и для своего народа, даже для боярства и всего двора, за исключением самых близких ей людей, обыкновенно близких ее родственников или самых доверенных слуг двора. Но, неверно объясняя частный случай, Котошихин очень верно и вполне обстоятельно изображает вообще положение женской личности в нашем старом обществе, рисует действительность, над постепенным созиданием которой усердно работали целые века и целый ряд поколений. Короткими словами, но очень живо он рисует вместе с тем и характеристику самого общества, ибо характеристика женской личности всегда служит вполне верным изображением самого общества. Напрасно мы будем отвергать суровую, быть может, слишком жесткую правду этого отзыва, приводя в доказательство некоторые имена, заявившие своею жизнью и умственную, и нравственную самостоятельность женской личности; напрасно мы будем смягчать простую и, может быть, оттого слишком грубую и резкую силу этих неподкупных слов, указывая на некоторые идиллии, в которых выражались, иногда даже очень благодушно, семейные и общественные отношения женской личности и которые, сказать по правде, в той красоте, какая им приписывается, существуют только в воображении добрых защитников всего доброго и нравственного по форме. Ни одиночное какое-либо имя, т.е. личность, которая всегда может при известных обстоятельствах жизни выдвинуть себя из общего течения, даже с особенною славою; ни благодушная какая-либо идиллия, которая точно так же бывает, как и все, и всегда бывает и случается в человеческой жизни, словом сказать: никакие частные и потому случайные явления не в состоянии заслонить от нас в этих словах настоящий свет жизненной правды, настоящий свет действительной, а не воображаемой жизни. Отзыв Котошихина оправдывается не какими-либо исключительными одиночными явлениями, а всем строем допетровского русского быта, общим положением и умоначертанием тогдашней жизни, всею нравственною стихиею общества. Некоторые исторические явления, некоторые юридические определения, придававшие женщине самостоятельный смысл, не могут колебать самой основы старых воззрений. Такие личности, как, например, Софья Витовтовна – литовка, Софья Фоминишна – гречанка, Елена Васильевна Глинская – тоже иноземка, которые, как известно, пользовались некоторою долею женской свободы, по крайней мере иногда принимали лично иноземных послов и не прятались в своих хоромах, когда обстоятельства требовали их участия в подобных церемониях[2]; такие личности, как иноземки, ничего не могут объяснять в отношении общей характеристики. Некоторая доля самостоятельности принадлежала им отчасти потому, что они были чужие, что личность их, по их иноземству и по высокому значению их рода, сама собою уже приобретала в глазах русского общества особенное, независимое положение, которое ни в каком случае не могло равнять их со своими, а потому и освобождало некоторые их поступки от привычных ограничений женского быта. Но воспитанные в обычаях, дававших больший простор женской личности, они, однако ж, в московском дворце должны были жить так, как повелось исстари, т.е. должны были подчиниться тем понятиям и порядкам жизни, какие повсеместно господствовали в русской земле. А эти понятия почитали весьма зазорным всякое обстоятельство, где женская личность приобретала какой-либо общественный смысл. Эти понятия признавали ее свободу, и то в известной мере, в одних лишь семейных отношениях и в положениях исключительно семейного общежития. Как скоро общежитие принимало какую-либо форму общественности и из домашней, семейной сферы переходило в сферу жизни публичной, тогда и обнаруживалось, что женская личность не имеет здесь своего места, что без особенного зазора в публичном общежитии она не может становиться рядом с личностью мужчины. Известная выработка идей и представлений в этом направлении привела вообще к тому, что женская личность своим появлением в обществе нарушала как бы целомудрие публичного общежития, не говоря уже о том, что собственное ее целомудрие при таком подвиге в глазах века погибало окончательно. Одному мужчине исключительно принадлежали интересы общественности. Он один обладал правом жить в обществе, жить общественно. Женщине оставалась обязанность жить дома, жить семейно, быть человеком исключительно домашним и в существенном смысле быть вместе с домом и домочадцами только орудием, средством для жизни общественного человека – мужчины.
В одном только случае самостоятельность женщины являлась законною и неоспоримою – в том случае, когда она становилась главою дома; а это могло произойти лишь при том обстоятельстве, когда, по смерти мужа, она оставалась матерою вдовою, т.е. вдовою – матерью сыновей. И мы видим, что матерая вдова в древнем русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль; мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а следовательно, и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами.
Но матерая вдова все-таки была явлением случайным, в некотором смысле исключительным. Личность ее никак не может служить мерою самостоятельности женской личности вообще. Матерая вдова являлась случайным представителем дома, семьи, которая стояла уже, так сказать, на материке, т.е. на корню, ибо сыновья всегда придавали семье именно это значение корня. Вдова бездетная, у которой не оставалось под ногами материка или корня, у которой со смертью мужа разрушалась и семья, такая вдова, по убеждению века, равнялась в своем значении с сиротою и в древнейший период нашей истории вместе с сиротами, убогими, калеками и прочими и всеми беззащитными личностями поступала под покровительство Церкви, причислялась к людям церковным, богадельным, т.е. к людям, забота об участи которых была делом Божьим, потому что не была делом общественным. Вот почему вдова без сына почитает себя тоже сиротою. Одно это может уже свидетельствовать, что личность женщины не имела ни малейшей общественной самостоятельности и как скоро выделялась из семьи, где только и сохраняла известную долю самостоятельности, то теряла и эту малую долю самостоятельного значения и приравнивалась ко всем сиротствующим, совершенно беззащитным в общественном смысле, так что по необходимости переходила под опеку Церкви, подававшей ей руку вместо общества, которое отрицало в женском достоинстве всякий смысл личности, имевшей какие-либо общественные, а не семейные, только домашние права.
Идиллики истории очень серьезно и с подобающею ученостью, с ссылками на летописи и другие источники, с выписками подлинных текстов, доказывают, что, например, «красота жены ценилась»: Святослав женит сына Ярополка на пленнице-гречанке «красоты ради лица ее»; Ольга удивляет красотой лица греческого императора; что жена имела право на часть мужнина имения; что все заботы о детях возлагались на мать; что попечения и заботы, которые употребляла мать при воспитании детей своих, давали ей в народном воззрении неоспоримое право на уважение последних; что тесная связь матери с детьми не могла не оказывать влияния на последних: характер матери явственно отражался и в детях; что девушку не стесняли в ее действиях (следуют доказательства и подтверждения о том, как девицы постригались в монахини); что дочь девица имела участие во всех событиях своей семьи; что, покидая семью родительскую при выходе замуж, девушка, однако, не прерывала связи с нею; что воспитанная в общем кругу родной семьи, одинаково согретая любовью отца и матери, русская женщина этого времени (до монголов), являясь женою, стоит нравственно на одном уровне с мужем. В этом лежит объяснение тех отношений, которые возникают между ними. Подружье – название жены в книжном языке, ладой зовет жена мужа в языке народном. Равна жена мужу в законе: кто убьет жену – тот же суд, как за мужа. (Здесь, однако ж, закон, Русская Правда, говорит вообще об убийстве женщины, а не о жене мужа.) Любите жену свою, учит детей хороший отец (Владимир Мономах, который тотчас же и прибавляет другое поученье, пропускаемое автором: но не дайте им над собою власти, что, собственно, значит: властвуйте над ними). Жена стоит рядом с мужем, живет с ним одною жизнью, разделяя радость и горе, сопутствуя ему всюду, участвуя в самых сокровенных его думах. Муж видит в ней лучшего друга, спутника жизни, поверяет ей все; что, где бы ни был муж, мысль о жене не покидает его; что жена была не стеснена в своей жизни, могла действовать свободно (доказательства: Верхуслава ведет переписку с епископом Симоном, принимает большое участие в монахе Поликарпе, желая устроить его где-либо епископом,– вот и все); что жена могла иметь свою собственную землю, сёла; жена независимо от мужа могла иметь свою казну и т.д.[3]
Подобные идиллические заключения носятся в сознании многих изыскателей нашей старины; но, в сущности, они обнаруживают только какое-то странное сомнение во всем том, что составляет существо человека, будет ли он мужчина или женщина, и что никогда не подвергалось спору, в чем ни один рассудительный человек никогда и нигде не мог сомневаться. Все выводы, с таким усердием добытые из летописей, житий, грамот и т. д., сводятся к одному, что жена любила мужа, а муж любил жену; что мать любила детей, а дети любили мать; что женщина как член семьи пользовалась семейными правами, пользовалась известными правами как человек вообще и как член семьи в особенности. Кто же мог когда-либо в этом сомневаться? История застает Древнюю Русь именно на той степени исторического развития, когда семья составляет единственный и непосредственный узел народной жизни, когда семья составляет существо, основу народного быта; когда, следовательно, семейные добродетели являются неизбежным последствием, естественным продуктом жизни. Доказывать ученым образом, что муж любил жену, а мать любила детей, – все равно что доказывать, что и в старину жили также люди. Не в том дело, имела ли женщина-человек человеческие чувства, находилась ли в человеческих отношениях к отцу, к мужу, к детям; вообще, не в том дело, что именем женщины обозначался человек женского пола; дело в том, пользовался ли женский пол общественными правами наравне с мужским полом, т. е. в равной половине; была ли женская личность самостоятельна в обществе именно этою своею женскою половиною; почиталась ли женская половина необходимою и самостоятельною половиною не семьи, а самого общества; или же эта половина, в сущности, была только придатком к тому целому, которое выражалось лишь одной личностью мужчины; вообще: была ли женская личность самостоятельна в обществе сама по себе, как личность женщины, или же ее самостоятельность определялась только ее принадлежностью к личности мужской, как, например, значением жены мужа, матери сына и т. п.
Вот вопросы, которые возникают сами собою, когда намереваемся узнать, каково было положение женской личности в допетровской Руси. Мы, одним словом, не должны смешивать понятий и свидетельств о правах женщины как члена семьи, какие бы ни были эти права, нравственные или юридические, с понятиями и свидетельствами о ее правах как члена общества. Смешение, безразличие этих понятий и производит путаницу в наших представлениях о характере и общественном положении древнерусской женщины.
Само собою разумеется, что в этом случае необходимо прежде всего узнать важнейшее обстоятельство, а именно: признавало ли и могло ли признавать женщину своим членом древнерусское общество; а еще ближе, что такое было, каково было это самое общество, признавало ли оно вообще общественные права личности, почитало ли оно личность общественною единицею, самостоятельным целым, которым держится само общество; ибо самостоятельность женской личности является лишь там, где является самостоятельность человеческой личности вообще, где общество носит в своем сознании, а следовательно, и в своем развитии самую идею личности, идеал человеческого достоинства, независимо ни от каких частных, случайных бытовых его определений.
Очень понятно, что русское допетровское общество в своем взгляде на достоинство женской личности не могло стоять выше тех убеждений, которые господствовали вообще в средневековом европейском обществе, которые господствуют во всяком обществе младенчествующем. Точно так же, как и везде, на равной степени общественного развития русское общество определяло нравственные и общественные права женской личности ветхим и по преимуществу восточным сознанием, что лицо женщины, каково бы ни было ее положение, не есть половина, а есть все-таки в отношении мужчины – величина меньшая; что женщина сравнительно с мужчиною есть малолеток, недоросль, член общества несовершеннолетний. Сама женская природа способствовала развитию такого убеждения.
В первую эпоху человеческой жизни в понятиях и представлениях человека господствовал и управлял всею его деятельностью идеал богатыря, т. е. идеал собственной физической силы человека. В то время физическая сила была первою необходимостью для человека, а следовательно, первым, самым высшим, почти исключительным его достоинством. В то время по естественным причинам человек везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски завоевывать себе положение и побеждать природу больше силою плеча, чем силою ума. Богатырство было исходным началом его жизни, оно же стало и высшим его идеалом. Под влиянием этого-то идеала и созидались постепенно все первобытные воззрения человека: в его меру он мерил и все свои первоначальные отношения, все положения своей жизни.
Очень понятно, что по физиологическим особенностям своей природы женская личность не могла приравняться к этому идеалу, к этой первозданной и тогда единственной мере человеческого достоинства. Правда, что в богатырский век и она должна была носить в себе некоторые богатырские черты, но вполне сделаться богатырем ей было невозможно. Призванная природою к рождению детей и ко всем тяжким последствиям этого действия природы, каково воспитание или собственно вскормление ребенка и т. д., женщина одним этим действием природы обрекалась уже на страдательную, вполне зависимую роль пред личностью богатыря – мужчины, не говоря уже о том, что самый ее организм, сравнительно слабый и нежный, никогда не мог равнять ее физические силы с силами мужчины. Вот естественная причина, по которой богатырские воззрения первобытного человека очень легко могли воспитать в его сознании мысль о великом различии женского существа от мужского. Различие в физических силах обоих полов было слишком очевидно, а между тем богатырские силы, как мы сказали, были единою мерою человеческого достоинства, единою оценкою достоинства каждой личности. Таким образом, сама природа женщины, вовсе не способная отвечать своею деятельностью первозданным идеалам человека, указывала женской личности место, которое в отношении ее самостоятельности всегда колебалось, да и до сих пор колеблется между мужчиною и его детьми.
С богатырской точки зрения женщина – существо слабое не только физически, но и нравственно, и умственно. Она отличается детскими чертами. Она даже и создана от кости самого богатыря; она в сущности его ребенок; поэтому зависимость, повиновение – вот ее идеалы, которыми она и воспитывается в течение тысячелетий, т.е. во все то время, когда в быту человеческом должен был господствовать идеал богатырский. Вообще достоинство женской личности на основании этих первозданных идей было возведено в идеал милой жертвы, милой хоти, как выразилось «Слово о полку Игоревом». Соответственно этому идеалу ценились и все качества женской личности, вся так называемая женственность, как исключительная сила ее природы, понятая лишь так, как требовал именно этот идеал. В этом идеале и выразился весь жизненный смысл женской доли, весь смысл ее роли общественной, а стало быть, и исторической.
Мы не должны также забывать, что эпоха богатырского идеала была вместе с тем и эпохою идеала родительского, т. е. идеала родительской опеки, по которому всякая почему-либо зависимая личность иначе не представлялась, как в образе малолетства.
Естественно, что навсегда слабая и зависимая женская личность должна была навсегда же сохранить в своем лице образ нескончаемого малолетства, нескончаемого детства, ибо такова была сила первозданных богатырских и патриархальных убеждений человека.
Само собою разумеется, что те же первозданные убеждения и идеалы управляли и нашим бытовым развитием. У нас по причине нашей молодости они сохранились даже с большею свежестью, чем у других европейских народов. Богатырские идеи, как и идеи родительской опеки, у нас живут еще до сих пор, а в допетровскую эпоху они были в полном цвету.
Идеал родительской опеки был основателем и устроителем всего нашего быта. По этому идеалу создалось наше общество и государство. По этому идеалу наше общество представлялось совокупностью семьи или родни, так что его разряды, или ступени, особенно низменные, иначе и не представлялись, как малолетними, и постоянно обозначались именами родства, каковы были отроки, пасынки, детские, молодь. Самые низменные в общественном смысле именовались сиротами, т. е. людьми несчастными в смысле родства, а стало быть, и в общественном смысле, каково было вообще неслужилое земледельческое и промышленное сословие, не обладавшее властным положением в обществе.
По идеалу родительской опеки, не только личность женщины, но и личность мужчины не имела никакого самостоятельного, независимого значения по той причине, что этот идеал вообще не признавал, да и не мог понять самой идеи личности. Он знал только идею рода, идею отчества, т.е. идею принадлежности лица известному отцу или роду, идею полной зависимости лица от своего родства, вообще идею его детства, а не идею его свободы и самостоятельности. Для него независимая личность получала смысл личности гулящей, как и назывались вольные люди, которые, так сказать, выпадали из родового круга, т. е. из круга известной зависимости или принадлежности к тому или другому общественному разряду жизни.
Идея родовой зависимости построила по своему образцу и все эти общественные разряды, всякую другую зависимость, все общественные отношения лица, весь общественный наш быт, так что древнерусское общество в существенном и непосредственном смысле есть, собственно, не общество, а родство, ибо его общее, его идея заключалась в идее рода, а не в идее независимой личности. Вот почему и древний наш быт очень основательно называется родовым бытом.
Но, говорят, у нас не было родового быта, а был общинный быт, следовательно, и общественные отношения устраивались по другому, т.е. общинному, началу; следовательно, не только мужчина, но и женщина пользовалась правами личности самостоятельной и независимой, ибо что ж такое община, как не совокупность более или менее обособленных, самостоятельных, равноправных и независимых личностей. Действительно, понятие об общине не допускает иных представлений в отношении устройства общежития, в отношении характера общественности; общее – значит равное для всех; община – значит равенство. В общине, если она служит основою быта, невозможно представить себе какой-либо иной порядок жизненных отношений, как не порядок равенства, равноправности всех частей этого общего целого. Все это так. Но одно необходимо помнить, именно: какую силу представляет каждая часть этого общего целого, в чем заключается существенный смысл каждой части; какого свойства эта единица, которая служит основою, корнем всего целого; носит ли в себе эта часть, эта единица, смысл отдельной, обособленной личности, независимой личности человека, самого по себе; или она изображает совсем иное свойство, носит в себе совсем иной смысл, именно: смысл человека не самого по себе, а как представителя или выразителя чего-либо такого, в чем его личность почитается за ничто, не имеет ни малейшего смысла и значения. Община как равенство вообще может вмещать в себе такие составные части, такие единицы, которые хотя, по естественной необходимости, и будут лицами, но вовсе не будут представителями личности. В этом весь вопрос. Наша древняя община была в собственном смысле общиною родов или, еще ближе, общиною хозяйств, домов, дворов, а не общиною независимых личностей. Чтобы уяснить себе справедливость такого заключения, мы должны по необходимости остановиться на спорном вопросе о характере и свойствах нашего древнейшего быта. В настоящем случае для нас это необходимо по той причине, что от уяснения этого вопроса вполне зависит уяснение вопроса: что такое было древнерусское общество и каково было положение в нем женской личности?
Люди самых противоположных взглядов на существенный характер нашей допетровской истории будут, вероятно, согласны в том, что в древней русской жизни, домашней и общественной, с особенною силою господствовало и управляло жизнью отдельных лиц патриархальное родительское начало, что оно в значительной степени господствует даже и теперь. Иначе, конечно, и быть не могло, если непреложна та истина, что русская земля расплодилась по преимуществу первобытною силою нарождения, если род был непосредственным деятелем в образовании народной массы, если на самом деле он был растительною органическою клеточкою, основою строения каждого племени и всего народа, если, наконец, сама община являлась только совокупностью этих родовых клеточек, совокупностью не отдельных лиц, а отдельных хозяйств или дворов, в которых замкнулись отдельные роды или семьи. Мы пользуемся таким уподоблением, предполагая яснее и нагляднее представить отношение так называемого родового быта к быту так называемому общинному.
Такой естественный, почти физический ход народной жизни существовал везде. В других странах он еще в незапамятные времена подвергся различным колебаниям и сторонним влияниям и потому очень рано утратил свой первобытный облик, не оставив по себе слишком заметных следов. У нас, в нашей истории, в нашей жизни, сравнительно очень молодой, наоборот, такие следы можно наблюдать даже в настоящую минуту.
Родовой быт как жизненное историческое начало для многих является предметом ошибочной, даже нелепой, и к тому еще немецкой теории, а потому нередко предметом голословных отрицаний и даже остроумных шуток. Нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор собственно о словах. Они упрекают противников в неопределенности будто бы понятий, заключающихся в словах родовой, патриархальный, и стараются определить эти слова, как говорится, научно, т.е. исключительно книжным путем, более в духе грамматическом, чем историческом, более грамматическим именно смыслом отрывочных текстов, а не смыслом самой жизни, разлитой в общем составе древних памятников. Оттого они усердно ищут в родовом быте учреждения, с одной стороны, политического, каково, например, государственное устройство, с другой – юридического, в законах и правах, и, конечно, ничего учрежденного в этом смысле не находят, вовсе забывая, что родовой быт не есть факт, а есть начало, стихия жизни, которая, как стихия, входит во все факты, проницает их, дает им свою окраску, формирует их, но сама нигде в особое учреждение не воплощается. Самое прилагательное родовой обозначает только стихийное качество быта и вовсе не указывает какую-либо учрежденную, т.е. законченную, его форму. Точно так же и существительное род вовсе не обозначает какого-либо учреждения, т. е. искусственной какой-либо формы, выработанной развитием общества. Это, напротив, непосредственная, естественная форма человеческой жизни, произведенная стихийною силою рождения. Если же эта форма становится нормою, стихиею не только для домашних, но и для общественных отношений народа, то, замечая повсюду ее присутствие, исследователь с полною основательностью может и весь народный быт обозначить именем этой стихии, именем начала, которое движет всем этим бытом.
Однако ж отрицатели этого начала утверждают, что «слово род значит собственно семья и что поэтому у славян родового быта не было, а была семья и община, что Русская земля есть изначала наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная (именно общинная) земля»[4]. По смыслу некоторых летописных и других свидетельств, слово род действительно обозначает также и семью, и даже семью в тесном смысле, на чем особенно настаивают защитники семейной и общинной теории. Но иначе не могло и быть, потому что семья служит составною частью или же зерном рода; понятие о роде неизбежно заключает в себе и понятие о семье. Семья служит, с одной стороны, под видом старшей семьи его корнем, его основою, а с другой – выражает под видом младших семей его размножение, его разветвление; семья, одним словом, относится к роду как частное понятие к общему. Немудрено, что в текстах эти понятия очень часто переходят одно в другое, мешаются и доставляют легкую возможность подыскать свидетельства, указывающие на тожество семьи и рода. Но что же из этого выходит? Что именно хотим мы определить, называя народный быт семейным? Не слишком ли широко, пространно, не слишком ли обще такое определение? Люди всегда жили, теперь живут и всегда будут жить семейно. Это неизменное условие человеческого быта, которое в отношении характеристики быта у известного народа на известной степени его развития ничего доказывать не может. Словом «семейный» обозначается именно тот тесный, или, вернее, частный, смысл жизни, который навсегда останется в быту человечества, какие бы формы и порядки ни принимало его развитие; останется как естественный, физиологический закон жизни. Нам кажется, что, говоря фразу: «Русская земля была наиболее семейная», мы в историческом смысле ровно ничего не обозначаем. Другое дело, если мы, невзирая на обыкновенный жизненный смысл этого слова, создадим собственное понятие о семье, придадим ей свойства и качества, каких она никогда не имела, именно свойства и качества кроткой и мирной славянской домашней общины, и назовем эту общину славянскою семьею в отличие от обыкновенной семьи, от семьи вообще, тогда, конечно, мы откроем действительно характеристические черты в нашем древнем народном быте и по необходимости назовем его семейным. Оно отчасти так и случилось с защитниками семейно-общинного быта славян.
Рода у древних славян не было, говорят они, а была семья. Семья эта была семья в тесном смысле. В устройстве ее нет и признака родоначальнического, патриархального характера. Напротив, мы видим, что все члены в ней имеют голос в вопросе собственности. Это назвать родовым устройством невозможно. Если бы общество было построено на основе родового, патриархального быта, так, чтобы в его устройстве находилось отражение этого быта, мы могли бы признать родовой быт основным элементом, существующим в народе (например, в Китае). Но когда пред нами явление совершенно противоположное, когда не только общество, а даже семья построена под влиянием общинного начала, как можем мы тут найти родовой быт? Что же вообще была славянская семья? Она была семья; но как скоро вопрос становится общественным, как, например, вопрос о владении (на землю право имела вся община), то она стороною к этому вопросу становилась сама общиною. Как скоро встречается другой общественный вопрос народного совещания – веча, она опять становилась общиною и от нее шел представитель: или старший, или избираемый ею (как в «Суде Любуши»). Кто из детей отделялся от семьи и жил отдельно, тот уже отрешался от семьи и не наследовал ей,– семья сжималась в числе. С другой стороны, она могла расширяться по произволу, могла принимать в свой состав роднившихся с нею и даже посторонних, но в этом случае соединение делалось относительно хозяйства; собственность не принадлежала всем принятым (вспомним выморочное наследство), но общим было пользование имуществом, во время которого в распоряжениях по имуществу, естественно, имели голос не только члены самой семьи, но и все те, кого она приняла в состав свой. Раздел же был всегда возможен, ибо постоянно действовала живая, свободная воля. Во всех тех случаях, где семья являлась как община, имели голос не только дети, не только семья собственно, но и другие лица, принятые в семью. Но здесь является вопрос: при таком общинном значении семьи в известных важных случаях, где даже дети имели голос, не подрывается ли ее значение семейное, кровное? Нисколько, продолжает семейная теория. «Семейное чувство и семейный быт крепки были, крепки теперь и крепки будут у славянских народов, пока они не утратят своей народности. На это доказательств так много – и прошедших, и современных, что мы не считаем нужным на них указывать… Семейное начало, конечно, было твердо и в те отдаленные времена, о которых говорим,– и было твердо оно как начало чисто нравственное; оно жило в нравственной свободе, в любви, в духе человека: оно было вполне чисто у славян, ибо с ним не связывалась выгода, ибо оно не нуждалось в житейских подпорках. Да и кто мешал семейной общине свободно и любовно исполнять волю отца? Из этого объяснения видим мы, как свято и нравственно понята была славянская семья, как всякий расчет был удален от святого семейного чувства (!). Чисто нравственная, чисто духовная сила семейного начала (каково оно у славян) всего более ручается за существование, глубину и вековечную прочность оного. А чувство семейное и семейное начало, повторяем, глубоко и неразрывно соединено с существом славянина»[5].
Вот основания тех представлений о древнем нашем быте, по которым этот быт именуется семейно-общинным и в которых сосредоточиваются все доказательства и доводы его защитников или отрицателей родового быта. Мы полагаем, что читатель заметит здесь несравненно более теплой любви к идеалу семейной общины у древнего славянина, чем основательного разъяснения существовавшей некогда живой действительности; несравненно более фантазии и, стало быть, поэзии, чем рассудительной, хотя бы и суровой, прозы, разъясняющей существо дела. А дело это в том, что все, что ни сказано здесь о семье-общине, именно об общинном ее значении и характере, должно относиться прямым и непосредственным образом к понятию не о семье собственно, а о хозяйстве, именно о дворе; так что если вместо слова семья мы поставим слово двор, хозяйство, по-древнему – господарство, то получим совершенно правильное, вполне соответствующее действительности представление о том, что именно намеревалась выяснить общинная теория. Ей необходимо было доказать, что семья славянская была не семьею в обыкновенном смысле, а была, в сущности, необыкновенным явлением, она была семья-община. Такому значению семьи вполне соответствует двор. Но почему семья, живущая во дворе, приобретает это значение? Потому что существо двора, его корень есть имущество, хозяйство-господарство; а хозяйство-господарство по естественной необходимости ведется, строится, наживается общими, совокупными усилиями, работами и заботами всех, живущих на этом хозяйстве; все, стало быть, вносят свою долю труда в общий оборот хозяйства; все, стало быть, имеют полное право и на свою долю пользования общим хозяйским имуществом. Из того же источника вытекает и относительное равенство голосов в общих делах хозяйства-двора, непререкаемое право думы, непререкаемое право представительства в общих совещаниях. Однако ж все эти права, в сущности, есть простые, естественные права семьи, по которым обыкновенно выходит, что отец обязан вскормить свое рождение, своих детей, а взрослые дети обязаны помогать отцу-кормителю, чтобы точно так же и самим кормиться от семейного хозяйства; что отец необходимо всегда советуется с возрастными детьми и родичами, а возрастные дети и родичи всегда убеждены, что без их думы и согласия он никогда ничего не предпримет по общему для всех делу. Все это были и есть непосредственные права рождения. Самая собственность, двор-хозяйство, носила в своем смысле ту же идею кровного союза в ее вещественном проявлении, т. е. общем хозяйстве семьи. Дети, приобретая своим рождением право быть детьми своего отца, вместе с тем приобретали право пользоваться отцовскою, а по крови, стало быть, и своею собственностью; они и делили ее, когда они, как кровь семьи, считали необходимым разойтись в разные стороны и зажить особною, самостоятельною жизнью. Разделялась кровь семьи – разделялась и собственность семьи как вещественное ее выражение.
Мы не думаем, чтобы к идеалу таких отношений могло удобно прилагаться понятие об общине, а тем менее самое слово «община». Собственность, именно двор-хозяйство, придавала семье лишь вид общины. Эта община была только количеством родных лиц, живших на одном хозяйстве. Внутри же в качестве союза этих лиц в духе этой общины жила создавшая ее идея кровного союза. По этой идее и была построена внутренняя домашняя жизнь этой общины. Она в полной силе господствовала внутри каждого двора и ни под каким видом не допускала равенства лиц, там живших, не допускала даже малейшей возможности такого равенства, самой мысли о нем, что с особенною силою и образностью выражалось всегда, например в отношениях женатых братьев, замужних сестер, в отношениях свекрови к невестке, в отношениях золовок к той же невестке и т. п. Во дворе жила семья, следовательно, там жило естественное разделение людей на отцов и детей, на старших и младших по крови. Какая же тут может существовать община, т. е. равенство лиц, прав? Родитель по естественным причинам становился главою и властителем своей семьи; в его руках сосредоточивалась патриархальная опека не только над детьми, над своим рождением, но даже и над матерью этого рождения, значение которой, как мы упоминали, всегда колебалось между значением главы семейства и значением его рождения, т. е. его детей. Пред его лицом все члены семьи были по самому существу дела малолетними. Не говорим о том, что сила его опеки и власти увеличивалась и развивалась пропорционально бессилию или даже совершенному отсутствию опеки гражданской, в собственном смысле общественной, которую напрасно мы будем воображать в обществе младенчествующем. В таком обществе, каким было и древнерусское, родительская опека заменяет все то, чем обеспечивается свобода и нравственное и имущественное положение личности в современном быту, все эти государственные, правительственные, общественные учреждения и многочисленные гражданские охраны. Очень естественно, что по той же самой причине в древнерусском обществе родительское начало опеки вырастало до размеров, теперь нам мало даже и понятных.
Мы совершенно согласны с утверждением семейно-общинной теории, что древнерусская «семья была семья в тесном смысле», но никак не можем согласиться с другим ее утверждением, что в устройстве этой семьи «нет и признака родоначальнического патриархального характера», что вообще у «древних славян не было рода». Мы, напротив, и там именно, где эта теория видит семью-общину, видим только один род, не видим даже и семьи в ее прямом и тесном смысле. Понятие о семейной общине возникло у этой теории из представления о собственности, о дворе-хозяйстве, на котором всегда и жила семья-община. Положим, что хозяйство заводилось и двор строился первоначально одною семьею, в тесном смысле семьею. Но такая семья никогда не оставалась замкнутою в этом тесном смысле; она тотчас разветвлялась, и обыкновенно к основному хозяйству сами собою прирастали другие новые семьи: являлась община, пожалуй, но община родных семей, община-родня, а в простом смысле являлся род. Семья попросту разрасталась в род, т.е. в кровную совокупность старших и младших семей, выраставших на одном корню. Отец становился уже дедом, прадедом, дети являлись уже внуками, правнуками. Этот новый тип быта, не злоупотребляя словами, мы не можем называть семьею, а тем менее общиною. Нельзя называть так целую совокупность семей, совокупность родичей, детей рода, а не отца только, между которыми возникают счеты и отношения уже не семейные, а именно родовые. Самое имущество, двор как корень материального существования семьи приобретает смысл имущества уже не семейного, а родового. Конечно, оно становится общим имуществом, но для кого? Лишь для одного кровного родства. Центр тяготения уходит уже к роду, а не остается только в семье. Во дворе, на общем хозяйстве живет уже род, а не семья. В действительности так и было в Древней Руси. Двор именно был средою родового быта, выразителем родового устройства жизни, был экономическим, хозяйственным типом рода[6]. В северной, собственно в Великой Руси и теперь часто встречается, что во дворе живет целый род, а в древнее время этому способствовало множество причин, например самый побор дани с двора, с дыма, от плуга, от рала, следовательно, с хозяйства или тоже с двора, что практически должно было единить родство на одном месте, принуждало жить в одном дворе целым племенем: «Живяху кождо с своим родом». Нельзя же полагать, чтобы наши далекие предки не могли, как говорится, двух пересчитать, т.е. понять, как легче платить дань: с семьи только или с целого рода, когда основою дани была не душа, а хозяйство. Таким образом, выражение летописца «живяху кождо с своим родом» мы почитаем типическим как для целого племени, так и для каждой его первоначальной единицы, т.е. для двора, для единичного хозяйства. В отношении пользования общим, т.е. родовым, имуществом, на чем, собственно, и построена семейно-общинная теория, мы скажем, что самым выразительным типом этого пользования был наш княжеский рюриковский род, для которого русская земля была таким же двором-хозяйством, каким был в собственном смысле двор-хозяйство для тогдашнего крестьянина. Период княжеских междоусобий был, собственно, борьбою за это пользование общим имуществом, в которой именно никак не могли помириться между собою стихии или, пожалуй, взгляды, родовые и семейные; в том состояла и самая борьба. Впоследствии семейные взгляды побороли, а на семейном начале выросла и личность, к чему конечно стремилась вся наша история. Как бы ни было, но назвать княжеский род общиною по случаю общего владения и пользования им Русскою землею мы никак не сможем. Переходя к частным типам такого владения и пользования, мы еще меньше имеем возможности обзывать их общинами, ибо в них еще теснее сжималась стихия рода, чему сильно способствовал типический вид собственности, двор-хозяйство. Это хозяйство было общим, родовым; но кто, собственно, властвовал над этим хозяйством, управлял им? В семье управлял и властвовал родитель, и тот же родитель властвовал и над родом. Община – родня как совокупность живых лиц, само собою разумеется, имела в общих делах хозяйства и голос, и права; но это был голос и права детей, членов кровного союза, а не свободных лиц, членов союза общинного. Полагаем, что здесь существует великая разница. Семья, как мы сказали, разрасталась в целый род; она становилась, пожалуй, общиною семей (хотя это общее представляло все один и тот же тип). Существенное же положение ее власти от этого нисколько не изменялось. Напротив, от размножения семьи лицо родителя приобретало еще большее освящение; он уже был не только отец, но и отец отцов, родо-начальник; затем все его рождение оставалось в тех же естественных отношениях детства, малолетства родо-начальнику и в отношениях старшинства и меньшинства между собою, смотря по восходящему или нисходящему порядку рождения. Никакого равенства членов здесь быть не могло. Равенство, или общее для всех, было то, что все были родня между собою, все имели и голос, и права родни, известные права. О самостоятельной личности здесь нельзя и думать. Здесь лицо не само себя представляло, а являлось представителем известного старшинства или меньшинства по степеням рождения. Самый родо-начальник вовсе не был представителем собственного лица, собственной своей личности, а представлял он лишь старшинство рождения. В сущности, это был олицетворенный род. Личное начало совсем исчезало в идее рода. Смутное представление об этом именно отношении личности к роду, о господстве чего-то общего вместо личного и понудило семейно-общинную теорию вообразить здесь вместо рода общину. Теперь очень трудно войти в жизненный смысл понятий рода, в эту родовую идею, трудно представить себе, насколько в самом деле были крепки, совсем неразрывны эти узы рода и родства, вязавшие и путавшие личность на каждом шагу, во всех ее даже малейших нравственных движениях. Требовалось действительное, эпическое богатырство, чтобы вырваться из этих нравственных узилищ. Если б эти узы были только семейные, как должно называть их по уверению отрицателей родового быта, тогда не о чем было бы и толковать. В характеристике быта, как мы заметили, семейные узы ничего не определяют: они в такой же силе существуют и теперь, как существовали за несколько веков и даже тысячелетий. Для личной жизни семейные узы – необходимая нравственная сфера. Личность в них не пропадает, хотя и остается некоторое время пассивною в лице детей. Другое дело – именно узы рода и родства, т. е. распространение смысла и духа непосредственных семейных связей и отношений на множество лиц, составляющих уже не семью, а целый род и в иных случаях – совсем посторонних старшей семье, например в лице зятьев и невесток. Здесь личность совершенно теряется в сплетениях родового старшинства и меньшинства и, подчиненная счетам этих сплетений, никогда не пользуется самостоятельным, независимым положением. Такую связь людских отношений мы не можем называть только семейною, а тем еще меньше – общинною. Это связь в прямом и точном смысле родовая.
Таким образом, нам кажется, что отрицатели и порицатели родового быта ведут спор только о словах. Они говорят, что рода не было, а была семья, что было семейное чувство, семейное начало (жизни) как начало чисто нравственное, что семейная община любовно исполняла волю отца и т. д. Со всеми такими утверждениями мы согласны вполне. Семейное чувство, семейное начало жизни мы почитаем нравственною стихиею древнерусского быта, основою всех его жизненных движений. Мы только, желая вернее и точнее обозначить свойства этого быта, именуем его не семейным, а родовым и в той семье, какую изобразила нам общинная теория, видим род, в семейном чувстве – именно родовое чувство; в семейной общине – родовую общину или общину-родню. Семьею мы именуем семью в тесном, т. е. в ее собственном, прямом смысле, не почитая уместным переносить этот смысл на новый своеобразный порядок жизни, для обозначения которого существует свое, ему именно принадлежащее слово. Род есть семья семей, что, конечно, не одно и то же с семьею в обыкновенном смысле. Оттого род есть в то же время и община с правами известного равенства и представительства, какие всегда неизменно принадлежали родне. Родовое чувство, родовое начало, управлявшее нашим старым бытом, есть, в сущности, родовая идея, которая была творцом нашего единства, нашей народной силы, творцом всех наших народных добродетелей и всех наших народных напастей – государственных и общественных.
Но была же, однако, община в Древней Руси? Действительно была – и двор, этот неизбежный сосуд родового быта своею внешнею стороною, тою стороною, что он есть собственность или часть общей земской собственности, является единицею общинного быта. Двор был жилищем для семьи-рода, он же был земским имуществом, частью земли, на которой сидело племя; в этом последнем своем значении он и является единицею новых отношений того же племени, он тянет к общим делам земли.
Сиденье племени на одной земле, владенье угодьями этой земли, общее тягло на защиту или в дань, какое неизбежно являлось от сиденья-владенья на той земле, – все это само собою становилось общим делом земли и создавало общинную жизнь.
В общих земских делах кто же должен был принимать участие в общем тягле, как не хозяин земской же единичной собственности, единичного хозяйства, частного, особного сиденья на земле, особного пользования ее угодьями? Двор был выразителем этой особности. А кто был выразителем двора? Конечно, его хозяин, большой. Большим же был отец или родо-начальник – и никто другой, т.е. в собственном смысле старший, большой по крови. Так было – и иначе быть не могло. Идея отца или родоначальника не умирала; в одних только ее руках соблюдалась власть во дворе-хозяйстве. Умирало лицо – т.е. отец, но идея была бессмертна: в отца место вступал старший, большой из остававшихся в живых. Этот старший всегда и был выразителем жившего во дворе рождения; естественно, что он же всегда был и выразителем двора как особного земского имущества. Но что же, собственно, выражал он в глазах земщины? Для нее выражал он только особное имущество, только двор, в котором жило его рождение своим особным хозяйством. Земская община, это общее сиденье на земле, корнем своих отношений ничего другого не могла признавать, как ту же землю, т.е. недвижимое имущество, иначе – пользование землею. Из этого корня вырастало известное равенство всех членов земщины. То есть каких же членов? Именно частных, особных владельцев земли, какими были не лица собственно, а дворы-хозяйства. Лицо здесь исчезало в понятии земской собственности, т.к. внутри двора оно исчезало в сплетениях кровной связи. Для земской общины нужен был лишь хозяин – представитель своего особого имущества, но не представитель собственного лица. На особом хозяйстве могла жить одна семья, могли жить несколько семей, целый род со многими домочадцами; но для земской общины все лица, жившие при хозяине, т.е. жившие на особом земском хозяйстве, не имели значения и никакого смысла. Для нее смысл заключался в одном лишь хозяине этого хозяйства или в тесном и непосредственном смысле в самом хозяйстве с его представителем. Таким образом, земская община – было ли то в деревне, в городе, в целой области – являлась в существенном своем смысле общиною хозяйств, а не людей, именно общностью дворов, совокупностью хозяев-домовладык как представителей частных отдельных хозяйств. В ней лицо рассматривалось лишь с имущественной, земской точки зрения, с точки зрения владения землею, сидения на общей земле. Ясно, что здесь не было места для нравственных определений личности, для личности самой по себе, для свободной личности в нравственном ее значении и смысле, а следовательно, не было и нравственного равенства лиц. Здесь существовало одно только имущественное равенство лиц; здесь людей-хозяев равняло лишь имущество, а не нравственное достоинство человека. Здесь не виделось даже пути для выработки личной нравственной, а вместе с нею – юридической и политической свободы по той причине, что не личная свобода, а земское имущество составляло здесь почву для действий каждого члена. Здесь наиболее независимое положение, собственно не свободное, а своевольное, личность могла приобрести лишь посредством богатства, посредством большого имущества сравнительно с другими, т.е. в существенном смысле здесь получало наибольшую свободу действий и относительную независимость одно лишь богатое имущество. Земская община в своем дальнейшем развитии всегда и вырабатывала только аристократию богатства, всегда выделяла несколько богатых, а потому как бы аристократических родов (опять-таки не лиц), которые обыкновенно и заправляли всеми движениями общины, определяли и выражали ход ее истории. Не личность своею нравственною и политическою свободою, своими нравственными и политическими правами давала смысл такой общине, а богач своими имущественными средствами. Имущество было основою и главною целью нашей древней общины, имущество же должно было преобладать в ней и порабощать себе все другие интересы. Оно должно было представлять и всегда представляло душу общины. Пластическое доказательство такого именно значения нашей древней общины представляет знаменитая Новгородская община. Никто не станет сомневаться, что развитие Новгорода как общины началось с той же первородной клеточки, какая создавала общину по всей земле, именно с двора-хозяйства, с общины деревенской. Уже в незапамятные для истории времена эта община является политическою силою. Она же и начинает нашу историю призванием варягов. Мы видим, что варяги понадобились именно для того, чтобы побороть зло, которое по неизбежным общинным же причинам народилось в общине. История открывается тем, что жизнью общины владеют и управляют роды: «И вста род на род»; что варяги призываются против этого владенья и управленья. Какие же это роды? Да те же, которые владеют и управляют новгородской жизнью во всю последующую историю: передние, богатые и потому знатные роды. История через шестьсот лет оканчивается тем, что такие же роды и по таким же причинам призывают нового Рюрика – московского государя. Что же выработано в 600 лет? Все то же, что и в остальной Русской земле. Выработано вотчинное право, которого различие заключалось лишь в форме его политического представительства. В южной Руси это представительство выражалось в целом княжеском роде; в северо-восточной стало выражаться в одном лице, государе-вотчиннике; в Новгороде оно выражалось в общине-городе; вотчинником был город, который в этом именно смысле и стал потом называть себя также государем. В сущности же вотчинником были родовитые, знатные и богатые его дворы. Это повсюду было сверху, а внутри, в глубине жизненных отношений, все оставалось одинаковым. Смерд везде оставался смердом, и везде шла подземная борьба меньших людей с большими. Род как нравственная сила всюду господствовал и пригнетал личность. Свобода личности не была вовсе мыслима ни в вотчине государской, ни в общине народной, хотя бы и новгородской. Вершиною новгородской свободы было своеволие меньшинства (богатых родов) или своеволие большинства (бедных, меньших родов)– вообще своеволие силы. Между этими двумя видами общинной свободы и колебалась вся новгородская история до своего конца. Уравнителем таких свободных движений жизни и в народной общине, и у себя в отчине является все тот же Рюрик, государь-вотчинник, представитель личного начала, а следовательно, и будущий освободитель личности.
В самой Москве, когда она устроилась окончательно в государскую вотчину, мало-помалу стало обнаруживаться то же самовластие больших родов над всею землею, но здесь оно встретило кровавый отпор в лице Грозного, без всякой пощады истреблявшего этот ветхий дух родового своеволия.
Таким образом, наша древняя община ничего не выработала, да и не могла ничего выработать для нравственного и социального освобождения личности. Она ничего не выработала даже и для материального ее освобождения, ибо новгородская община как община имущественная вовсе не мыслила, однако ж, о равенстве, например о равном распределении земской собственности между всеми членами общины. У ней, как и в господарской вотчине, земская собственность была разделена слишком неравномерно; у ней, как и в господарской вотчине, существовало только равенство прав на землю, т. е. на пользование землею для каждого плательщика даней, а это составляло первозданную стихию русской народной жизни по всей Русской земле. Эта-то стихия и сохранила русский народ от всех исторических и всяких вражеских напастей; она же создала и государство именно как охрану и защиту от тех напастей.
Как бы ни было, но земская община, даже в своем роскошном цвете, в политической своей форме, какою были Новгород, Псков, Вятка, не в силах была высвободить личность и создать для нее равенство прав нравственных и социальных, в чем заключается все существо дела.
Быт народа мы называем общинным, желая совсем устранить другое его определение: родовой — как противоречащее нашему представлению о существе общинной идеи. Но чего же мы ищем в этом определении и что именно хотим в нем обозначить? Народный быт выражает себя и реально, в известных формах, и нереально, одними идеями, которые незаметно им движут, действуют в нем и которые всегда где-то скрываются от наших глаз; стало быть, и характер народного быта можно определять реальными обозначениями, вернее сказать – деловыми, и идеальными, иначе – нравственными. Быт земледельческий, военный, торговый, промышленный, казацкий, охотничий и т.д.– все это будут обозначения реальные, деловые, обозначения дела, каким занимается народ. Мы думаем, что и быт общинный есть не более как только общее, как бы материковое обозначение одних лишь реальных, деловых отношений народа. Община вообще – значит связь людей на общем деле; община земская означала связь людей по земле, собственно связь земли – связь народа как земли, т. е. как реальной сущности народных отношений; другого смысла община не могла иметь, ибо зачатком ее было всегда представление о человеке в его имущественном положении. Община выражала лишь связь имущественных, следовательно, материальных отношений – не более.
Ошибочное представление об общине заключается, по нашему мнению, в том, что ее почитают связью отношений нравственных, о чем она сама, как мы говорили, никогда не думала, да и до сих пор не думает. Между тем при определении бытового начала важны лишь одни отношения нравственные, которые всегда и составляют основной узел народной жизни и управляют ходом ее развития. Народ выражает свой быт многими формами, и одна из таких форм есть община, как есть другая, существующая рядом с нею,– вотчина; как есть третья – семья и т.п.; все это только формы. Но где же идея, общая всему быту, где нравственная сила, управляющая всеми формами, где этот дух, проникающий всякую форму и весь быт вообще? Общий характер народных нравственных связей и отношений должен, по нашему мнению, раскрываться ближе всего в отношениях сожития, или обще-жития, в той сфере, которую мы теперь обозначаем словом общество, общественность, т. е. в сфере людских отношений, независимо ни от каких частных, случайных определений и форм быта, обозначающих то или другое положение личности и вовсе не обозначающих основной силы или стихии личных отношений.
Как и на чем построены были отношения общежития – вот существенный вопрос и вот где настоящее место нашим рассуждениям об общем характере народного быта. Потемнение и путаница наших понятий о характере нашего древнего быта происходит главным образом оттого, что мы смешиваем идею общины с идеей общества, вообще смешиваем понятия о формах быта с понятиями о его началах.
Фундаментом общины, основным ее камнем было не лицо, не нравственная личность, а известная материальная доля того материального общего, которое как общая выгода связывала людей. Лицо в этом случае было только юридическим представителем своей материальной доли и в существенном смысле всегда рассматривалось с точки зрения чисто материальной, с точки зрения годности или негодности для выражения того материального целого, которого долю оно изображало. Во владении землею – хороший плательщик или пособник общим земским делам, например защите от врагов и т.п.; в торговле – капитал, в промышленности или в ремесле – уменье; словом сказать, в общине, не исключая никакую дружину, никакую артель,– личность ценилась лишь со стороны прямого пособничества тому делу, которое соединяло людей. Нравственная сфера, как и нравственный смысл лица, здесь были в стороне, не были главною, руководящею силою. Лицо здесь имело земский, торговый, промышленный смысл, но не нравственный. Общество, наоборот, всю силу полагает в нравственном смысле человеческой личности. Здесь фундаментом, основным камнем лежит нравственное значение личности. И само собою разумеется, что нравственная постройка общества вполне зависит от того, как понимается это нравственное значение личности, т.е. в чем оно заключается. Известно, что нравы общества с течением времени изменяются, а вместе с ними изменяется и воззрение на нравственный смысл личности. Можно сказать, что каждый век что-либо делает в этом отношении, каждый век вырабатывает какую-либо долю общего сознания о существе нравственной личности человека, т.е. о существе человеческого достоинства. Как же понимал и как сознавал это достоинство наш русский древний век? Каково было наше древнее общество, какова была наша древняя общественность, эта действующая нравственная сила народного развития, эта нравственная система, или нравственный склад житейских отношений? Какая нравственная сила служила основанием нашему древнему обществу; из какой органической клеточки образовалось русское общество?
Мы уже говорили, что органическою клеточкою нашего допетровского общественного быта был род, что родительское, патриархальное начало управляло всем ходом нашей допетровской жизни.
Но что же такое было это родительское, патриархальное или родовое начало жизни? Это было начало или стихия родительской опеки, стихия старшей воли, идеалом которой было родовое старшинство. Это старшинство одно почиталось выше всяких других достоинств человека, оно одно и было главным, начальным достоинством человеческой личности. Родительская опека с идеалом родового старшинства существовали и существуют везде, но не везде они становились стихиею жизни. У нас не только семья и род, что очень естественно и обыкновенно, держались крепко и твердо стихиею родительской опеки, но ею же держалось все общество, ею же строилось наше государство, ею выработалась и эта необычайная государственная плотность и стойкость народа.
Родительская опека была исключительною силою нашего развития. Она проникала всюду и все подчиняла своим воззрениям. Это был наш нравственный и политический бытовой воздух, которым мы жили, дышали в течение всей нашей истории. Это было начало начал нашего развития, такое крепкое начало, по которому русский народ даже и до сих пор понимается и ведется как малолеток, недоросль, требующий на всяком шагу, во всех его жизненных стремлениях и движениях неусыпных забот и попечений родительских.
Самою лучшею и наиболее верною характеристикою основных начал народного быта всегда служит власть. Мы не говорим о власти в ее тесном смысле, о власти только политической, государственной, верховной; мы говорим о власти как о стихии народного и именно общественного развития; о власти, которою живет и держится не государственное устройство, а устройство и связь самого общества, о власти, господствующей именно в народном быту.
Власть, как известно, вырабатывается с большим трудом и с великими жертвами. Сама история каждого народа есть не что иное, как выработка более или менее правильной власти. Свойство и характер власти, действующей в быту народа, обрисовывает свойства и характер самого быта. Для уяснения характера и свойства не политической только, а вообще бытовой власти необходимо выразуметь: как сознает себя в обществе властный человек – не только тогда, когда он становится деятелем власти, но и в том случае, когда он является только членом общества; и потом, как понимает себя в том обществе человек безвластный, зависимый от власти.
Если общество сложилось путем завоевания, следовательно, вообще путем наиболее сильного обособления личности, то понятно, что и характер его власти будет совершенно иной, чем в обществе, которое сложилось путем нарождения. Властные, общественные и личные отношения первого будут стремиться определить себя юридически, разгородят себя, т. е. свои отношения, отчетливо и ясно необходимыми правами и обязанностями, отчего и характер власти выразится определеннее и резче, а потому, быть может, суровее и беспощаднее.
В таком обществе власть развивается и утверждает себя идеею права, идеею закона или, вернее, идеею строгой определенности и разграниченности жизненных отношений. В этом заключается все ее существо. Само собою разумеется, что такое начало власти прямым путем ведет к выработке более точных и более определительных понятий о независимой личности человека, выдвигает личность на первый план и в истории, и в повседневных частных делах жизни. По этому пути прошло развитие западных обществ, с самой ранней эпохи поставивших личность выше всяких других определений в бытовом положении человека.
Наше древнее общество, как мы упомянули, сложилось путем непосредственного распространения рода, путем непосредственного нарождения, без участия каких-либо пришлых, чуждых ему элементов. Варяжское завоевание распустилось в нашем быту, как капля в море, почти не оставив следа. Своеобразная сила нашего быта была так велика, что самая реформа и, можно сказать, революция Петра оказалась во многом совершенно бессильною. Естественно, что характер, существо и свойство нашей русской власти вполне должны были выразить существо самого быта. Существом нашего быта, единственным и вполне непосредственным его источником, единственною и непосредственною его силою был род. Поэтому наша древняя власть была власть по преимуществу родовая. Где бы и в какой бы форме она ни возникала, она везде и всегда была властью отеческою со всеми своими свойствами, с одной стороны, с непомерною жестокостью безотчетного произвола, пред лицом которого не могло существовать даже и малейших понятий о каком-либо праве; а с другой – с тою любовною родственностью в отношениях, которая всегда ставила ее в непосредственные, родственные, братские отношения к подвластной среде. Такими свойствами нашей власти и самого быта определяется и особенное своеобразие нашей истории. В западном обществе в основу бытового развития, а следовательно, и в основу бытовой власти легли отношения завоевателей, дружинников или собственно право сильного, следовательно, право личное. Там властные отношения и властный человек всегда, везде и во всем руководились этою основною идеею своей жизни; властный человек всегда и везде понимал себя, чувствовал себя как победитель; подвластный понимал и чувствовал себя как побежденный. Оба чувствовали себя чужими друг другу и на этой идее устанавливали свои отношения. Бытовою связью людей руководило там по преимуществу право, закон. У нас, наоборот, всякое движение жизни, всякое бытовое отношение и всю бытовую связь людей одухотворял смысл рода. Все наше общество по духу своей внутренней жизни представляло одну громадную совокупность родни, где не было и не могло быть членов, строго разграниченных своими правами. Поэтому у нас все общественные разряды людей или их отношений, например сословия, сливались, можно сказать, органически в какую-то общую, жизненно цельную массу, так что трудно указать, где, собственно, начинается и где оканчивается тот или другой разряд. Все по своему духу сливалось в один жизненно цельный организм рода. И т.к. род разграничивает людей только по рождению, т. е. по лествице физического старшинства, то очевидно, что в этом организме все частицы должны были распределять и различать свои отношения только в меру такого старшинства. Так наши старые предки и понимали себя и разверстывали по этому смыслу все свои бытовые отношения. Старшие, т. е. почему-либо властные, идеализировали себя или свое общественное положение характером отцов, свою власть – характером власти отеческой; младшие, т. е. подвластные в каком бы ни было смысле, идеализировали свое положение характером детей – вообще малолетних, несовершеннолетних. Смысл таких именно, а не других житейских отношений высказывался всюду, во всех крупных и мелких обстоятельствах, во всех частных и общих случаях, с эпическою первозданною наивностью, которая очень наглядно обнаруживала, как еще глубоко и широко лежали в общественной почве корни быта доисторического.
Если западный властный человек в средний век своей истории смотрел везде победителем, завоевателем, смотрел на подвластную среду как на свое завоевание, то наш властный человек даже и до сих пор смотрит отцом-опекуном, смотрит на подвластных или вообще на меньших, подчиненных, как на малолетних, несовершеннолетних, недорослей в общественном смысле и никогда не думает, как думал Петр Великий, что он прежде всего только первый, передовой слуга обществу, а, напротив, всегда убежден, подобно царю Алексею Михайловичу, что для управляемого общества он отец-опекун, что его обязанности к обществу, равно как и права, суть обязанности и права отеческие, опекунские, а не гражданские. В этом-то заключается все глубокое, коренное различие нашего востока от европейского запада; отсюда и различие истории, культуры, всей жизни со всеми ее понятиями и движениями.
Строгое разграничение прав победителей и побежденных на западе, это отчетливое понимание, чувствование себя чужими друг другу, совершенное отсутствие в бытовых общественных отношениях понятий родни поставило тамошнее общество, как говорится, на ножи, но вместе с тем повело к выработке таких же строгих, точных и до мелочей отчетливых определений равноправности и полноправности человеческой личности вообще; повело к учению и практическому водворению идеи о правах человека как человека, независимо от его случайных, т.е. родовых, политических или общественных определений; одним словом, выдвинуло на первый план бытовых отношений достоинство человеческой личности, эту коренную и неизменную силу человеческого развития. К той же цели мы должны были идти иным путем. Родовой дух, управлявший нашим развитием, по свойству и характеру собственного своего начала препятствовал строго и точно распределить или разграничить возникавшие у нас права и бытовые отношения; он сливал все в одну нераздельную массу родства. Личность в строгой определенности своих прав была для него явлением, совершенно непонятным. Он понимал личность только как известное рождение — старшее или младшее, но не более как рождение. Для него личность служила только выразителем известного рода, отчества. Она определялась только правами родовыми, а не личными.
Державшееся родовым духом наше общество в своем социальном развитии ничего другого не могло и выработать, как одно плотное, жизненно связанное единство. Таким образом, к социальному единству мы шли через род, в то время как западное общество шло к нему же через личность. Там община явилась совокупностью независимых друг от друга, равноправных личностей, у нас – совокупностью родни. Там в жизни господствовала идея личности, у нас – идея родни, иначе – идея детской зависимости.
Общество, если обозначим этим словом так называемый свет, или по-старому мир, т.е. существо и склад людского общежития, людской общительности и общественности,– вверху, как и внизу, во всех своих сферах и видах, основою своих отношений кладет всегда известное достоинство личности, известную честь лица, разумея в этом совокупность личных или других каких качеств, наиболее уважаемых и наиболее ценимых в человеке. Словом сказать, всякое общество всегда живет идеалом хорошего человека, понимая и рисуя этот идеал под условием своего развития, своего времени, своего гражданского положения, своих начал жизни. Западная средневековая личность искала такой идеал сама в себе, в своих собственных доблестях, в высоте собственного своего достоинства, ставила целью своих идеализаций самое себя, свою индивидуальность. Рыцарь не потому становился рыцарем, что его посвящали в это звание, а потому именно, что личными качествами и доблестями он вполне достоин был этого посвящения, воплощал собою идеал достойного человека.
У нас, наоборот, идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем отечестве, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. По нашим старым понятиям человек почитался в обществе достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или умственными качествами или какими заслугами и доблестями, а прежде и первее всего потому, что высок был своим родовым старшинством, т. е. старшинством своего рода или старшинством в своем роде. По крайней мере так, а не иначе думало об этом общежитие, так понимала личное достоинство наша старая общественность. Место в обществе человеку указывали его род, его отечество, а не личные таланты или доблести.
Общественное значение личности лучше всего, конечно, характеризуется понятиями о личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь рыцаря лежала в идее собственного его достоинства. Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее отечества. Русская боярская честь, т.е. самая развитая и высокая по общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность под батоги (палки), кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее жестокой царской опале – и все это делала с единым стремлением охранить неприкосновенность своего рода или отечества[7]. Лицо здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения представлений о чести рода.
Вообще в нашем обществе отечество личности, ее родовое, кровное значение почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством вообще человека. На понятиях о таком только достоинстве построилась вся наша старая общественность, которая в существенном смысле была лествицею родового, а по его идеалам – и всякого другого старшинства, так что каждый член ее, на какую бы ступень ни восходил, всегда и везде становился выше одних, младших, и ниже других, старших, по ступеням этой лествицы.
Самым определенным и законченным выражением нашей древней общественности служит известное местничество, которое напрасно рассматривают с одной только официальной точки зрения, как официальное какое-то учреждение или установление вроде табели о рангах. Официальный характер оно приобрело от официальной или, собственно, служебной, среды, в которой стало действовать и которую оно стремилось пересилить, подчинить собственным своим искони вечным уставам и порядкам. Действительно, происхождение местничества скрывается в глубокой древности. В древний период нашей истории оно не обнаруживало своих споров, стычек и, стало быть, не обнаруживало как бы самого существования, потому что в то время оно было господствующею силою общественности, было святынею, неколебимым, неизменным и несомненным жизненным положением, которое оспаривать, с которым бороться не представлялось ни причин, ни случаев. Оно стало обнаруживать свое существование, т. е. свои движения или споры, лишь с той минуты, когда должно было вступить в борьбу с опасным своим противником – с идеею государственности. Оно нам и известно несравненно больше только стороною этой борьбы, т. е. своею отрицательною, а не положительною стороною. Положительную его сторону наука еще до сих пор не успела привести в должный порядок и выяснить.
Когда взамен родовых, кровных определений лица, взамен родовых достоинств личности новорожденная государственность поставила служебные ее достоинства, достоинства личной службы государю и его государству, старая общественность никак не могла понять этого нового шага в народном развитии и встретила враждебно эту новину жизни, боролась с нею до последних сил и до последних дней, даже и после того, как местнический устав официально был упразднен.
Само великое самодержавие, истребляя на своем пути все чуждые ему элементы, разрушая победоносно устройство целых и больших общин, упраздняя целые княжества, изводя целые княжеские и боярские роды, не находило, однако ж, достаточно силы обуздывать местнические счеты, не находило никакой возможности разом покончить с этими счетами и большею частью или подчинялось им, или уклонялось от них, обходя их какими-либо косвенными путями. И это понятно. Легко было победить какой-либо внешний, формальный строй жизни или упразднить значение и даже самое существование целого ее порядка, но совсем было невозможно одною лишь волею разорить бытовой, искони вечный и, можно сказать, стихийный строй народной общественности. Здесь приходилось считаться не с личностями только, не с вольными городами или княжествами и знатными родами, а с нравственным складом народной жизни, который мог уступить не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах.
Достоинство личной службы, внесенное самодержавием в среду общественных отношений, и было таким новым нравственным началом жизни, способным изменить ее ветхую старину. Оно было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека как человека, помимо всяких других определений его личности – и родовых, и даже служебных, которые явились на смену этим родовым.
Нам, быть может, скажут, что силы нашей древней общественности лучше всего отыскивать в вече – в этой самой осязательной форме русского древнего общества. Мы и не думаем отрицать такого именно значения нашего веча. Но мы думаем, что местничество как порядок мест – оно-то именно и есть выражение нашего древнего веча, вечевого собрания с внешней его стороны, оно-то и есть его реальная форма, т.е. форма собравшегося общества. Местничество как порядок мест служило выражением собравшейся Государевой Думы, а что такое была Государева Дума XVI и XVII столетий, как не та же дружина, по крайней мере по форме, если не по духу, ибо дух ее в это время, как мы знаем, отлетел уже навсегда. В истории форма всегда долго переживает свою идею. Дружина, собиравшаяся с князем на Думу, собиралась, собственно, на вече. Дума и вече – синонимы в смысле совета, совещания. Местнический распорядок мест был формою собравшегося общества дружины, или формою вечевого собрания. Этот распорядок мест не зависел ни от чьей воли, даже и от воли великого самодержца, каков был, например, Иван Грозный, который ничего не мог поделать с такою старою и крепкою формою русского быта. Чтобы разрушить ее, Грозному надо было сделать то, что сделал Петр, т.е. совсем смешать шашки; но в то время Грозный и сам еще не был готов для этого. Распорядок мест в Думе, как мы сказали, не зависел ни от чьей воли; он вполне зависел от самого устава жизни, т. е. от устава общественных отношений личности. Местничество и было формою этих общественных отношений лица. Оно и указывало место для личности, когда она являлась в обществе, являлась членом общественного союза.
Мы не знаем ни порядка, ни уставов, как собиралось знаменитое новгородское вече – этот высший тип всенародной, а не дружинной только Думы. Исследователи новгородской старины не дают нам ничего ясного, определительного в этом отношении, отзываясь тем, что нет об этом подробных сведений. Однако ж необходимо знать: собиравшиеся на вече люди как становились, или как садились, или кто сидел и кто стоял, словом сказать, в каком порядке размещались собравшиеся вечники. Что какой-либо порядок был – в этом нет сомнения, особенно на вечах ежедневных, обыкновенных, а не бунтовых; да и бунтовые веча все-таки были совещанием, Думою, следовательно, не могли же происходить без всякого порядка. Нам кажется, что вечевой порядок, размещение собравшихся вечников-думцев вполне высказывается уставом вечевых решений, а об этом мы имеем весьма положительное свидетельство еще от XII в. – от эпохи, когда вечевая сила господствовала по всей земле.
«Новгородцы бо изначала и Смолняне и Кыяне и Полочане и вся власти (волости), якоже на думу на веча сходятся, на что же старейшии сдумают, на том же пригороди станут… Како нам любо, такоже створим, говорили старые города Ростов и Суздаль о мезинном городе Володимире: он есть пригород наш» (Лавр. 160). Вот основная идея древних вечевых решений.
Если таково было существо вечевых решений, то можно понять, что по его же смыслу строилась и вся форма вечевого собрания, что в Думе на вече первая честь должна была принадлежать старейшим; место же служило только выражением, обозначением этой чести. Стало быть, первая честь и первое место по необходимости отдавалось старейшему. Ум века почитал это дело несомненным и неизменным, а потому не являлись и самые счеты о местах, т.е. местничество в его собственном смысле. Они, как сказано, стали являться тогда, когда родовое начало стало разлагаться, когда в него стало вторгаться личное начало слуги государева, из которого потом народился и слуга государству, каким и был первым Петр Первый. Убеждение века тотчас же само разрешало сомнительные в этом отношении случаи, что мы и видим в том же Новгороде: в 1211г. посадник Твердислав уступает свое место по своей воле старейшему себя Дмитру Якуничу, пришедшему тогда из (Киевской) Руси[8]. Если все это было так, то вече и по духу своих совещаний и решений, и по форме людских отношений походило на собравшуюся родню, которая советуется о семейном деле. Это была община хозяев, разумевших себя больше родными, чем независимыми друг от друга и юридически определенными личностями.
Оттого такая неопределенность, неясность вечевых отношений, оттого не существует ни в летописях, ни в актах никаких подробностей о вечевом порядке жизни. Оттого новгородская душа не любит закона, связывающего деятельность, как замечает г. Костомаров (т. 2, с. 147). Незачем было определять то, что искони было определено и существовало как стихия жизни, было для всех ясно, всем известно и понятно, как Божий день. Житейские отношения родни определяются сами собою и не требуют себе в помощь юридических каких-либо обозначений лица. Незачем было определять людские отношения, давать им закон и порядок, ибо они определялись сами собою, т. е. силою родовой идеи, в них господствовавшей.
Итак, наше старое общежитие в своих отношениях и даже в своих формах строилось и руководилось родовою идеею, идеею родства; наше старое общество в существе своем значило то, что значит слово «родня»: дух нашей старой общественности был дух родства, а не общества, ибо идея общества, идея общественная живет и развивается равенством лиц, равенством прав, равенством достоинств; напротив, родовая идея живет и развивается понятиями старшинства, следовательно, понятиями неравенства, местничества, вообще понятиями достоинств родовых, а не личных, видовых. В ней господствует одно лишь, так сказать, физическое равенство, равенство природы, т. е. равенство родни, которое и производит для наших теперешних глаз оптический обман, именно в рассуждении равенства общественного, социального. Древнее право представительства, право веча, право Думы суть одно естественное право родни, по которому она непреложно должна участвовать в общих делах своего рода. Самое вече по форме и по смыслу своих отправлений служило полным выражением этого права. На вече все делалось и совершалось как-то неопределенно, неправомерно, как-то по-родственному, по-братски, полюбовно, а в сущности все делалось и совершалось подчинением разуму к воле старейших: что старейшии сдумают, на том и пригороды, т. е. молодшие, станут.
Вот почему и Земские соборы XVI и XVII вв. являются в полном смысле только совещаниями родни, не нося в своих формах ничего определительного, законного, правомерного, такими совещаниями, где с полною откровенностью родственника возможно было высказывать все, что угодно: резко обличать существующую неправду; прямо, открыто указывать злоупотребления и вместе с тем заявлять свои исключительно эгоистические интересы, вовсе не помышляя об интересах общих; говорить обо всем и ничего не решать в уверенности, что решение само собою явится мыслию и волею старейшей власти. Таков был смысл и характер нашего народного представительства в течение всего древнего периода нашей истории и на вечах, и на Соборах, и на мирских сходках: «что старейшии сдумают, на том и меньшии станут». Для меньших решать дела согласно своему мнению существовало только одно право – право своей воли, которое, разумеется, всегда и утверждалось усобицею.
Мы рассматривали отношения родовой идеи к обществу и общественности и старались объяснять, что дух нашего древнего общества и общественности был дух родовой власти и опеки, что эта власть и опека была начальною, господствующею стихиею русской жизни вообще. Нам необходимо остановиться теперь на действиях этого духа в личной жизни наших предков: раскрыть по возможности, как его силами и влиянием воспитывалась и вырабатывалась для жизни русская личность.
Подобно тому как древняя наша общественность нашла себе типическое выражение в местничестве, так и родовая власть, строившая эту общественность, вполне и типически выразила себя в известном Домострое. Это памятник неоценимого значения для нашей истории, это цвет и плод, с одной стороны, писаного учения, которое как раз пришлось в рост и в меру нашему непосредственному бытовому развитию, нашим непосредственно созданным своенародным и своеобразным идеалам жизни; с другой стороны, это цвет и плод искони вечных нравственных и хозяйственных уставов нашего быта. Домострой и есть зерцало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. Это зерцало нашего древнего домашнего быта, зерцало нашего допетровского развития, зерцало общества и общественности. Пред этим зерцалом, т. е. под его сильнейшим влиянием, совершилась постройка и нашего государства, которое в своем существе и до сих пор еще носит много тех же начал и тех же положений и определений жизни, какими исполнен этот многовековой источник нашего развития.
Известно, что Домострой написан, или, вернее и точнее, записан, собран в порядок в половине XVIв. благовещенским попом Сильвестром – новгородцем по происхождению. Дело, конечно, не в том, кто его записал, т.е. кто собрал в одно место живые и писаные учения, существовавшие испокон века, «како строити дом» и весь свой быт: священник Сильвестр или другой кто – это все равно. Составитель был только редактором этого памятника, и если бы он что и прибавил свое, личное, то это свое так было обще для всех, что нет никакой возможности его указать. Здесь выражалась не личность, а все общество, почему и собирателем кодекса явился именно священник, как личность в полном смысле общественная. Поучение и наказание «како жити христианом», из которого возродился и развил свои положения Домострой, искони было прямым делом духовных отцов, иначе назвать – духовников народа. Священник-духовник, особенно в первое время, был единственным, исключительным источником учения и наказания; к нему обращались со всеми житейскими недоразумениями, со всеми вопросами, какие только внушались благочестивою мыслью, как устроить свое спасение и эту временную погибельную жизнь. Оттого духовный отец становится как бы членом семьи, и притом самым почетным членом. Естественно, что весь нравственный строй дома опирался на его поучение, естественно, что и сочинение писаного нравственного устава домашней жизни являлось его прямою обязанностью, исполнение которой для мирского человека – и по учению Церкви, и по разумению века – было бы даже предосудительно, ибо поучать и наказывать духовно мог только посвященный. С первых самых времен по принятии христовой веры духовные отцы уже упражнялись в составлении небольших учительных слов с упомянутым заглавием или с другим заглавием: поучение избрано от всех книг. Эти слова и поучения сказывались в церквах, распространялись в списках, наполняли особые сборники писаний: Златоструи, Златоусты, Измарагды и т.п., служившие всегда настольными книгами в каждом доме, желавшем учения и назидания. Почти все такие слова были заимствованы у отцов Церкви, переведены, или переделаны, или же составлены выбором (избрано от всех книг) целых фраз и речений, пригодных для назидательной цели. В этом отношении Домострой представляет для нас новый интерес: он является цветом нашей старой книжной образованности, именно ее поучительной стихии; он является, так сказать, цветом ее общих мест, общих фраз. В сущности, весь он есть общее место нравственной и хозяйской жизни.
Мы имели случай указать заимствования Домостроя по преимуществу из слов Иоанна Златоуста[9]. Но не должно думать, что такие заимствования были простыми непосредственными выписками из книг. Напротив, тексты, внесенные в Домострой, иногда целиком, слово в слово, были заученными, ходячими речами, присловьями в устах духовных учителей. Они усваивались непрестанным чтением и употреблением на всякий пригодный случай; они по необходимости точно и верно заучивались, ибо в том заключалась и цель книжного ученья. Таким образом, если требовалось составить или сказать какое-либо поучение, то не только слова, но и целые речи из запаса памяти являлись сами собою, так что все дело списателя подобных поучений заключалось лишь в известном расположении этих памятных текстов соответственно его мысли и намерению. Можно вообще заметить, что все старые наши поучения, наказания, слова русского сочинения составлялись этим путем. Оттого в каждом из них легко встретить те или другие выражения из поучений отцов Церкви не как приводимый текст, а как бы собственную речь составителя, его заученные словеса, о которых он вовсе и не думает, что это словеса чужих текстов; оттого так редко встречаем мы в подобных литературных памятниках свои слова, ибо к тому же говорить своими словами значило низводить писание с его священной высоты и самое поучение и наставление людей обращать в простую пошлую беседу о вседневных нуждах. Особый склад и самый звук церковного слова должен был действовать, как и теперь действует, на души поучаемых с тою торжественностью чувства, которая всегда составляла существо религиозного учения и которая поэтому всегда требовала неизменности и неприкосновенности церковного слова. Таким образом, Домострой по естественным причинам явился, как мы упомянули, цветом и соком общих мест церковного учения, направленного к нравственному устройству дома. Это в литературном смысле. В практическом, жизненном смысле он явился точно так же цветом и соком, таким же общим местом русской нравственности, возделанной в течение веков на почве Писания и на почве искони вечных бытовых идеалов.
Состав Домостроя – все это поучение и наказание «отец духовных ко всем православным христианам» – выразился главным образом в пяти отделах: «1) како веровати; 2) как царя чтити и вообще светскую власть; 3) как чтити святительский и вообще духовный чин или духовную власть; 4) како жити в миру, или наказ о мирском строении, и 5) хозяйственный, экономический наказ о домовном строении».
Кто же является центром всех этих поучений? К кому, собственно, обращается Домострой со своим наказательным словом, кого он почитает твердою опорою для своих назиданий, с кем он, собственно, ведет речь? Кто этот ты, кто этот сам, к которому Домострой относит свои речи во втором лице, в то время как назидание остальных он выражает преимущественно и почти везде в третьем лице, а если иногда и во втором, то собирательно – как к детям, к домочадцам? Кто этот сосуд избран, который должен не себя одного нести к Богу, но многих, сознавая этих многих как собственную влагу, сохраняя эту влагу наученьем и наказанием, любовью и грозою, чтоб донести ее до угодного Богу назначения, в целости наибольшего нравственного совершенства?
Домострой именует этот сосуд государем дома, также настоящим, большим, прилагая ему, как нераздельную с ним почву для его нравственной деятельности, жену, чад и домочадцев. Стало быть, в существенном смысле Домострой признает самостоятельною лишь одну личность родителя со значением главы дома, т.е. со значением государя или господаря – хозяина и нравственно, и имущественно большого, или настоящего, в доме или во дворе. Мы уже упоминали, что таково именно было понятие древнего века вообще о достоинстве личности. Все другие лица дома служили как бы необходимою обстановкой, необходимым придатком этой настоящей личности.
Младенчествующее общество очень высоко ставило личность родителя как основную силу родовой власти, которая служила прямым и ближайшим органом и для власти общественной. Вот почему и писаное учение возвысило эту власть в лице родителя до последней крайности. В одном из кратких и древнейших наших домостроев (поучение избрано от всех книг) оно заповедует: «Родителя ж, аще кто имать, да чтить яко Бога[10], теми бо познахом свет сей; поклоняйтеся им за утра и вечер, на ложа идя. Аще бо человек чтит родителя своя, то весь закон свершил есть. И тогда сын свободен есть, егда спрячет кости родителя своея». Таким образом, самостоятельное значение сына возможно было только по смерти родителя.
Непомерно возвышая и освящая в лице родителя домашнюю власть, писаное учение вместе с тем возлагало на главу дома и великую нравственную обязанность строить и охранять нравы дома, великую нравственную ответственность во всем, что бы ни совершилось в доме не только со стороны собственных чад, но со стороны и всех чад дома, всех работающих дому. Глава дома нес великую ответственность пред Богом за это нравственное тело, называемое домом. Глава дома в действительности иначе и не сознавал своих отношений к домашней своей среде. Дом в своем нравственном составе был нераздельным целым, был на самом деле одним нравственным телом, все члены которого были исполнены сознания, что они лишь служебные члены и что всему начало в этом теле глава – домовладыка, государь этого господарства.
Тот же древний Домострой поучает: «Рабы водите в наказании, с тихостью учаще добрым беспорочным, и чтя их, да негде мистять у притчи. Аще ли не послушают, то раны разумеючи, дати, яко и те Божия создание суть, но вам даны суть Богом на службу… а что суть у вас рабы и рабыня, Богом даны вам на службу, теми паки достойно печися вам и душами их, от зла возбраняти им и на покаяние приводити: а к Церкви принужати, вы бо есте игумени домов своих; аще ли кто без покаяния умрет у вас или не крещен, то вам ответ дати за душу ту пред Богом»[11].
Другой, столько же, если не более древний Домострой поучает так: «Чада моя милая! Еще вы глаголю: челядь свою кормите, якоже до сыти им, одевайте, обувайте. Аще ли не кормите, ни обуваете, а холопа твоего убьют у татбы или робу, то за кровь его тобе отвещати. Тем же набдите сироты своя во всем и учите и на крещение и на покаяние и на весь закон Божий. Ты бо ecu, яко и апостол дому своему, кажи (казни) грозою и ласкою. Аще не учишь, то ответ въздаси за то пред Богом. И Авраам бо научи своих домочадец 300 и 18 всему добру закону и добру норову. Страх бо Божий приимше, не опечалят на старость тебе. Аще ли тебе не послушают ни мало, то лозы на ны не щади, якоже Премудрость Божия глаголет до 4 или 6 ран, или за 12 ран. Аще ли раб и рабыни не слушает и по твоей воли не ходит, то загода (пригодно) лозы нань не щадити до 6 ран и до 12. Аще ли велика вина, то и 20 ран. Аще ли велми велика вина, то 30 ран лозою, а более 30 ран не велим. Да аще тако кажете и (наказываете их) и добре одеваеши и кормиши, то благ дар приимеши от Бога»[12].
Эти поучения по всем признакам принадлежат к ранней эпохе нашего Христианства, быть может, к XI и, по крайней мере, к XIIв., т.е. вообще к эпохе дотатарской. Само собою разумеется, что начинающаяся Церковь вместе с начинающимся обществом иначе не могла определить и устроить отношения домашней семейной общины, которая и в народном сознании, и в сознании самой Церкви вся сливалась в лице своего домовладыки. Но причины, почему домовладыка должен был становиться игумном, апостолом дому своему, существовали и в последующие века; поэтому Домострой XVIв. развивает это учение как несомненный и непререкаемый догмат нравственной жизни общества. Он отделяет для этого учения особый «Наказ о мирском строении, как жити православным христианом в миру с женами и с детьми и с домочадцы и их наказывати и учити и страхом спасати и грозою претити и во всяких делах беречи, душевных и телесных, чистым быти, и во всем самому стражу над ними быти и о них пещися, аки о своих удех», утверждая жизненное, практическое значение и смысл этого наказа таким рассуждением: «Господу рекшу: будете оба в плоть едину. Апостолу рекшу: аще страждет един уд, то все уды с ним страждут. Також и ты, не о себе едином пецыся, но о жене и о детях своих и о прочих и о последних домачадцех – вси бо есмы связани единою верою к Богу: и с добрым сим прилежанием имей любовь ко всем в Бозе живущим и око сердечное взирающе к Богу и будеши сосуд избран, не себе единого несый к Богу, но многи, и услышиши добрый рабе и верный: буди в радости Господа Бога своего».
На этом-то наказе построена вся нравственная практическая философия нашего древнего века. Этот наказ составляет, так сказать, душу, основу и всех поучений Домостроя; он присутствует в нем повсюду, почти во всякой строке, где только дело касается поучения и назидания.
Написав память о том, «как избную порядню устроити хорошо и чисто», Домострой назидает государыню-хозяйку: «Всего того и всякой порядни жена (чтоб) смотрила и учила б слуг и детей добром и лихом: не имет слово,– ино ударить. И увидит муж, что не порядливо у жены и у слуг… инобы умел свою жену наказывати всяким рассужением, и учити. Аще внимает – любити и жаловати. Аще жена по тому научению и наказанию не живет… и слуг не учит, ино достоит мужу жена своя наказывати и ползовати страхом на едине; и понаказав и пожаловати и примолвити… И слуги и дети такоже, посмотря по вине и по делу, наказывати и раны возлагати; да, наказав, пожаловати…. А только жены или сына или дщери, слово или наказание не имет, не слушает и не внимает и не боитца, и не творит того, как муж или отец или мати учит,– ино плетью постегать, по вине смотря. А побить не перед людьми, на едине: поучити да примолвити и пожаловати; а никакоже не гневатися – ни жене на мужа, ни мужу на жену. А про всяку вину по уху, ни по виденью не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть; никаким железным или деревянным не бить: кто с сердца или с кручины так бьет,– многи притчи от того бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст; и главоболие и зубная болезнь; а у беременных жен и детей повреждение бывает во утробе. А плетью с наказанием бережно бити: и разумно и больно и страшно и здорово. А только велика вина и кручиновато дело, и за великое и за страшное ослушание и небрежение, ино соймя рубашку плеткою вежливенько побить, за руки держа; по вине смотря, да, поучив, примолвити; а гнев бы не был; а люди бы того не ведали и не слыхали, жалоба бы о том не была… а не кается и не плачется о грехе своем и о вине, то уже наказание жестоко надобеть, чтобы был виноватый в вине, а правый – в правде; а всякому греху покаяние… а поклонны головы и меч не сечет, а покорно слово кости не ломит»[13].
Домострой закрепляет свой наказ следующим обращением к мужу, или главе дома: «Аще муж сам того не творит, что в сей памяти писано, и жены не учит, ни слуг своих, и дом свой не по Бозе строит, и о своей душе не радит, и людей своих по сему писанию ни учит, и он сам погублен в сем веце и в будущем и дом свой погубит и прочих с собою. Ащели добрый муж о своем спасение радит, и жену и чад своих наказует, тако же и домочадцев своих всякому страху Божию учит и законному христианскому жительству, якоже есть писано, – и он вкупе со всеми в благоденстве по Бозе жизнь свою препроводит и милость Божию получит».
В другом месте – в «Наказе мужу и жене и людем и детем как лепо быти им» – Домострой укрепляет свое поучение такою же грозою о великой ответственности владыки дома пред Владыкою мира и тем же милованием за доброе выполнение его устава: «Ащели небрежением и нерадением сам, или жена мужним ненаказанием согрешит или что зло сотворит, и вси домочадцы, мужи и жены и дети, господаревым (твоим) ненаказанием, каков грех или что зло сотворят, или брань, или татьбу, или блуд: все вкупе по делам своим приимут, зло сотворший – муку вечную, а добросотворшие (иже сущие с тобою вкупе – и которые с тобою вкупе) богоугодно поживше, жизнь вечную наследят в царствии небесном. А себе больший венец приимеши, понеже не о себе едином попечение имея к Богу, но и сущих с собою введе в жизнь вечную».
Таково было великое и высокое значение господаря дома, такова была великая и страшная его нравственная ответственность пред Богом и именно за свой дом. Он один за всех должен был «ответ дати в день страшного суда», как говорит Домострой в другом месте. Эта священная обязанность и великая ответственность сами собою уже давали владыке дома самые полные, беспрекословные, самые широкие права поступать в доме единственно только по собственной воле, ставить началом всего домашнего нравственного и хозяйственного строя только свою волю. Практическая жизнь главным образом это только хорошо и понимала в учении Домостроя, по той особенно причине, что Домострой ничего определительного не говорит о том, какова должна быть сама эта господарская воля. Он учит ее только не гневаться, исполнять свои наказания сознательно, разумно, с самообладанием, без сердцов, и смягчать их тотчас любовною приветливостью, пожалованием: наказать да и пожаловати, поучить да примолвити. Но этим самым он вполне и обрисовывает существо и свойство господарской воли. Он иначе ее не понимает, как волю родителя, а родительская воля, по его же убеждению, сама себе образец и сама себе наука. В ее отношениях к подвластной среде никаких определений быть не может. Определения воли должны распространяться только в этой подвластной родителю среде. Вот почему Домострой особенно и настаивает, чтобы господарь жены, чад и домочадцев как возможно заботливее определил их волю.
«Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою, и даст красоту души твоей. И не ослабляй бия младенца: аще бо жезлом (лозою) биеши его, не умрет, но здравее будет; ты бо, бия его по телу, а душу его избавлявши от смерти. Дщерь ли имаши, положи на них грозу свою, соблюдеши я от телесных, т.е. грехов… Любя же сына своего, учащай ему раны, да последи о нем возвеселишися… И не даж ему власти (воли) во юности, но сокруши ему ребра, донележе растет, а ожесточив, не повинет ти ся; и будет ти досаждение, и болезнь души, и тщета домови, погибель имению и укоризна от сусед, и посмех пред враги, пред властели платеж и досада зла».
Очень понятно, что от детей Домострой по заповеди Господней требует повиновения и послушания родителям во всем. «Со страхом раболепно служите им,– заключает он свое наказание,– да и сами от Бога мзду приимете и жизнь вечную наследите, яко совершители его заповеди». Но этот наказ детям, как и самый приведенный выше наказ отцу «како дети учити и страхом спасати», в духе своем, как и на самом деле, распространялся и ко всем живущим под властью домовладыки. Пред его лицом все были детьми, не исключая и их матери или его жены. Домочадцы же, т.е. слуги со всеми своими семьями, стояли ниже степенью и детей господаря, ибо почитались чадами дома, чадами всего господарского семейства. Таким образом, поучение «казни сына своего», как и поучение о повиновении детей, практически относилось ко всякому без исключения члену господарского дома. Оно служило единым основанием домашнего господарского быта. Такое же детское послушание Домострой налагает и на жену: «Жены мужей своих вопрошают о всяком благочинии: како душа спасти, Богу и мужу угодити и дом свой добре строити; во всем ему покорятися, и что муж накажет, то с любовию приимати (и со страхом внимати) и творити по его наказанию…. а повся бы дни у мужа жена спрашивалась и советовала о всяком обиходе, и вспоминала, что надобет. А в гости ходити и к себе звати: ссылаться с кем велит муж». Домострой определяет для жены даже и то, как и о чем с гостьями беседовати. «И то в себе внимати: у которой гостьи услышит добрую пословицу: как добрые жены живут и как порядню ведут, и как дом строит, и как дети и служак учат; и как мужей своих слушают и как с ними спрашиваются и как повинуются им во всем». Равновесия отношений между мужем и женою Домострой и не предчувствует. Доля жены в нравственном смысле есть доля детская. Она, с одной стороны, первый из домочадцев, как первый и ближайший слуга мужа, на обязанности которого лежит весь домашний обиход. С другой стороны, она – старший из детей, правая рука мужа.
Конечно, на самом деле положение жены могло быть и в действительности бывало лучше, чем то, какое рисуется учением Домостроя. Но лучшим это положение бывало уже по требованиям самой жизни, но никак не по учению Домостроя, которое, напротив, своими освященными, авторитетными речами отдавало жену в полную опеку мужа, следовательно, ставило ее не только в детские, но и в рабские отношения к нему, и все это утверждалось искони вечным уставом доброго и богоугодного жития.
Муж, господарь дома, оставался, таким образом, единым лицом, самостоятельность которого была несомненна и ничем непререкаема. В этой одной только форме личность признавалась самостоятельною и обществом. На этом одном лице утверждался и союз общежития. Это одно лицо было, так сказать, целым, полным лицом. Все остальное имело значение неполноты, неоконченности, вообще значение детства.
Такими-то учениями созидался и укреплялся в народном сознании идеал родовой или родительской власти, что, в сущности, одно и то же. Значение этого идеала в древнерусской жизни, его влияние на народный ум, на все представления народа о житейских отношениях были так сильны и велики, что самая оценка даже исторических событий и подвигов рассматривалась по преимуществу с точки зрения того же идеала. Так, всякое проявление личной или общественной самостоятельности, всякое малейшее движение личной или общественной независимости тотчас же возбуждало нравственное осуждение как порок гордости, самонадеянности, высокоумия. Конечно, это осуждение всегда имело в виду христианский идеал смирения, во имя которого оно и распространяло свои поучения о гордости, но самый идеал смирения мог получить особенный смысл, самый раболепный, только под сильным влиянием библейского идеала родовой власти, которая, как мы видели, смирение, покорение возносила на высоту главнейших добродетелей жизни, и именно для младшей ее среды, для младшей и в домашнем, и в общественном значении.
«Господь бо гордым противится, смиренного Бог любит, а покоренному (покорному) Бог благодать дает…»; «Бог бо не любит высокия мысли нашия, возносящегося смиряет…»; «Всяк возносяйся смирится, а смиряяйся вознесется». Вот учение, которое проходит очень сильною чертою по всей нашей истории и особенно в нашем бытовом развитии. Литература – не только книжная, но и устная, непосредственная, – чертит множество образов с целью утвердить эту истину, сделать ее вполне осязательною и очевидною. Летописцы пользуются каждым подходящим событием или подходящим случаем, чтобы напомнить людям крайнюю очевидность этой истины. Пришел князь Ярослав Святополчич на Андрея к городу Владимиру (южному): «Разгордевшю, надеяся на множество вой, и молвяше так Андрееви и горожаном: т. е. град мой; оже ся не отворите не выйдите с поклоном, то узрите, завтра приступлю к граду и возьму город». Но на разъезде под городом его убивают изменнически свои же два ляха. Итак, «умре Ярослав, один в толикой силе войска, за великую гордость его, понеже не имеяше на Бога надежи, но надеяся на множество вой. Виждь, что преодоле гордость… прочее, дружино и братье, разумейте, по котором есть Бог – по гордом ли или по смиренном». Новгородцы, например, с самого раннего времени прославляются гордыми за то, что крепко держат свою самостоятельность и независимость против княжеских притязаний. Случилось в 1169 г., что войска Андрея Суздальского опустошили Новгородскую область, хотя потом с великим уроном сами были отбиты от Новгорода. Летописец пользуется случаем и рассуждает: «Так сих людей новгородских наказал Бог и смирил их до зела… за гордость их навел на них…»
Вообще именем гордости обозначалось всякое независимое или самостоятельное деяние, где бы оно ни обнаружилось. В этом смысле и московский князь Симеон был прозван Гордым.
Приводить новые тексты, в которых с большею или меньшею силою развивается этот идеал смирения, значит касаться одного из самых любимейших мотивов нашей древней литературы, который проходит как бы основною ее нитью через все века – и не только в книжных, заимствованных, но и в народных, самобытных произведениях. Из последних наилучшим и наиболее пластическим выразителем этого идеала служит известная «Повесть о Горе-Злосчастии», в которой живыми красками изображается ослушание родительское, вообще непослушание, непокорение и непоклонение родителям, а в сущности – безнравственное, по тогдашним понятиям, и самонадеянное стремление личности жить, как себе любо. Это-то стремление к самостоятельности и независимости приравнивается, и с полным основанием с точки зрения родового идеала, к детской глупости. Повесть описывает жизнь молодца, оторвавшегося от родного корня, в сущности, жизнь личности гулящей, и в том смысле, что она сбилась с настоящей дороги, повела себя развратно; и в том смысле, что она хотела жить свободно, самостоятельно, независимо от родительской опеки, ибо, по понятиям века, жить без опеки значило то же, что жить гулящим путем, развратно.
Молодец, захотевший жить, как ему любо, был в то время «мал и глуп; не в полном разуме и не совершен разумом». Только глупый и мог решиться скинуть с себя родительскую опеку, хотя бы и сознавал в себе силу и возможность жить своим разумом. Глупо это было потому, что уму века не представлялось и самой мысли о том, что личность может существовать без опеки. Без опеки она непременно должна погибнуть. Эта идея и составляет главный мотив рассматриваемой «повести». В доказательство своей правды она, эта идея, вначале рисует самостоятельную жизнь доброго молодца завидными красками: он наживает деньги, друзей; честь его как река течет. «Другове к молодцу прибивалися, род племя причиталися…» Все у него есть, но нет у него главного – нет воли, а из родительской воли-опеки он ушел, стало быть, потерял точку опоры и за это самое и должен быть наказан злою долею. В этом и заключается вся его вина – ослушание родительское. Повесть ничего другого и не думает изобразить, как одно назидание, что вышедший из родительской воли молодец всегда падает. Его друг, названый брат, заводит его в избу кабацкую. Не хочется молодцу друга ослушаться; принимается он за питья за пьяные и просыпается обобранным до нитки. В лохмотьях стало срамно молодцу появитися к своему отцу и матери, и к своему роду и племени, и к своим прежним милым друзьям. Пошел он на чужую сторону; попадает на пир к добрым людям, рассказывает свое ослушанье родительское: «Ослушался я отца своего и матери, благословенье мне от них миновалося; Господь Бог на меня разгневался… Отечество мое потерялося, храбрость молодецкая от меня миновалася!» Он таким образом теряет свое достоинство; в собственных глазах он становится ничтожным. Он просит добрых людей научить, как жить на чужой стороне, в чужих людях. Добрые люди, т.е. само общество, эта чужая сторона, поучают его так: «Не буди ты спесив на чужой стороне: покорися ты другу и недругу, поклонися ты стару и молоду, будь скромен, нельстив и не лукав, смирение ко всем имей, с кротостью держися истины с правдою… то тебе будет честь и хвала великая…» Таковы требования жизни в обществе, которое иначе не представлялось исполненному родовой идеи уму, как чужою стороною.
На чужой стороне стал жить молодец умеючи; от великого разума наживал он живота (богатства) больше старого. Словом сказать, самостоятельность его стала несомненною. Он задумал жениться, срядил честный пир отечеством и вежеством и на пиру похвастался, что стал совсем независим: «Наживал-де я живота больше старого». А всегда гнило слово похвальное, похвала живет человеку пагуба! За эту похвалу, а в сущности, за сознание своей независимости и свободы, которое, по естественным причинам, личность не могла не высказать, за это ей готовится пагуба, готовится кара в образе Горя-Злосчастия. Подслушало Горе-Злосчастие хвастанье молодецкое, само говорит таково слово: «Не хвались ты, молодец, своим счастием, не хвастай своим богатством; бывали люди у меня, Горя, и мудрее тебя и досужее, и я их, Горе, перемудрило: учинися им злосчастие великое; до смерти со мною боролися; во злом злосчастии позорилися».
Вот судьба, ожидавшая всякую личность, которая высвобождалась из родовой опеки, которая отрывалась от родового корня, которая теряла свое отечество. Это судьба ребенка-сироты, брошенного на произвол случайностей. Так личность и понималась нашим древним веком, когда она устремлялась жить, как себе любо. Индивидуальной жизни, индивидуальных стремлений вовсе не существовало в его сознании. Жизнь родом, а не личностью, жизнь в круговой зависимости и в круговой опеке – это жизнь правильная и счастливая. Жизнь, отделившаяся от своего целого, – естественно, жизнь неправильная, необстоятельная; жизнь Горя-Злосчастия, которого «гнездо и вотчина в бражниках». В действительности так большею частью и бывало. Оторвавшаяся от родного союза личность, разумеется, очень редко могла выдержать борьбу со случайностями самостоятельного житья-бытья, ибо выходила она на эту борьбу в самом деле глупым, малым ребенком, т. е. с ребяческим воспитанием своей воли. Поэтому Горе-Злосчастие и становится олицетворением личной свободы человека, живущего на своих ногах, без всякой опеки. Образ Горя-Злосчастия есть образ свободной личности, начертанный нравственным учением века в назидание молодому поколению. От этой кары никуда нельзя было уйти. Горе-Злосчастие неизменно приводило молодца к бражничеству, соблазняло его безответственною жизнью нагих-босых и преследовало его всюду.
Прожившийся молодец идет в чужу дальну сторону, встречает на пути реку, а за перевоз заплатить нечего. С тоски и с голоду он хочет лучше в реке утопиться.
«Полощи мое тело, быстра река! Ино ежьте, рыбы, мое тело белое! Ино лутчи мне жития сего позорного! Уйду ли я у горя злосчастного!» Но воскликнуло Горе: «Стой ты, молодец, меня, Горя, не уйдешь никуды! А в горе жить – некручинну быть, а кручинну в горе погинути! Спамятуй, молодец, житие свое первое: и как тебе отец говорил, и как тебе мати наказывала; о чем тогда ты их не послушал? Не захотел ты им покоритися, постыдился им поклонитися, а хотел ты жити, как тебе любо… а кто родителей своих (на добро) учения не слушает, того выучу я, Горе злосчастное». Покорился молодец Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли.
Покорность и здесь награждается тем, что молодца перевозят даром через реку. Добрые люди напоили, накормили его, сняли с него одежду кабацкую и дали ему платье крестьянское, да и присоветовали ему идти на свою сторону, к своим родителям, проститься (помириться) с ними, взять от них благословение родительское. «Пошел молодец в свою сторону; но горе наперед зашло, везде его встречает: „Ты стой, не ушел, добрый молодец! Не на час я к тебе, Горе злосчастное, привязалося…“ Полетел молодец соколом, полетел сизым голубем, побежал молодец в поле серым волком, стал в поле ковыль-трава, пошел в море рыбою – везде горе готовило ему напасть напрасной смерти. Наконец, оно научает молодца богато жить: убить и ограбить, т.е. сделаться разбойником. Но молодец вспоминает спасенный путь и уходит в монастырь постригатися. Горе остается у святых ворот, к молодцу вперед не привяжетца».
В этом подвиге молодца вполне и высказалась даже историческая правда, что единым исключительным прибежищем для индивидуальной жизни был монастырь, к которому по этой причине всегда и стремилась искавшая себе спасения наша допетровская личность.
Хотя мы и видим, что эта назидательная повесть олицетворяет свою кару Горя-Злосчастия как бы исключительно за ослушание родительское, однако необходимо помнить, что отношение родовой опеки к свободе личности никогда иначе и не могло выразить своих положений, как в этой частной форме, которая, в сущности, была общею формою всяческой опеки. Об этом свидетельствует даже и сама повесть: изобразив вначале происхождение и общую характеристику человеческого рода, она обозначает это свое введение к повести общею чертою: таково рождение человеческое «от отца и от матери», т. е. таково происхождение и свойство человеческой природы.
«Ино зло племя человеческо: вначале пошло непокорливо; ко отцову учению зазорчиво; к своей матери непокорливо, и к советному другу обманчиво. А се роди пошли слабы, добрубожливи[14], а на безумие обратилися и учали жить в суете… А прямое смирение отринули. И за то на них Господь Бог разгневался; положил их в напасти великия… все смиряючи нас, наказуя и приводя нас на спасенный путь».
Таким образом, главным мотивом повести остается все тот же, общий во всей поучительной литературе мотив смирения, покорения, послушания, с отрицанием всякой непокорливости и гордости, именем которой, как мы заметили, обозначалось и все самостоятельное в действиях человеческой личности. В этом отношении повесть о Горе-Злосчастии есть только поэтическое воспроизведение основных учений Домостроя.
К каким же практическим результатам приводили все эти поучения и наказания, как эта теория являлась в практике, какую личность, с каким характером воспитывал и выпускал на общественную деятельность этот домашний, семейный строй жизни? Иначе сказать: какую личную волю приготовлял для общества наш древний Домострой?
Мы видим, что, с одной стороны, в лице старшего он воспитывал, утверждал и освящал самый безграничный произвол, стало быть, полную необузданность воли. С другой стороны, в лице каждого младшего он воспитывал, утверждал и освящал беспрекословное покорение и послушание, безграничное принижение личности, полное детство и раболепство воли. Между этими двумя крайностями мы не видим никакой средины.
Родительская опека, как единая нравственная сила, державшая весь строй нашего древнего общества и помимо писаного учения, по естественной причине должна была водворить в умах непреложное убеждение, что воля старшего есть закон для младших. Это была сама сущность родительской власти, вытекавшая из естественных, непосредственных отношений отца к своим детям. Разумное начало, утверждавшее такие отношения, основывалось на том факте, что физически малолетний в действительности не способен еще руководиться своею незрелою и потому глупою, неразумною волею. Ребенок иначе и не мог обнаруживать свою волю, как только по-детски, неразумно; поэтому разум и воля старшего по необходимости являлись здесь руководителями и опекунами малолетной воли. На этом утверждалось семейное начало жизни. Но тот же закон распространялся дальше, шире, когда семья развивалась в целый род: а т.к. род представлял, в сущности, только размножившуюся семью, то и начало его жизни и действий оставалось то же. Как умножившаяся семья род распространяет семейное начало жизни, родительскую опеку на множество лиц, которые, с его точки зрения, в нисходящей степени все в действительности оказываются малолетними, а потому и неразумными пред восходящею степенью, непременно требующими руководства и опеки. В родовом распорядке лиц физическое старшинство, как мы сказали, приобретает уже смысл старшинства нравственного. Это-то нравственное старшинство при дальнейшем развитии родовых понятий становится господствующею силою племенной, а вслед за нею – и общественной жизни, в которой, по закону такого развития, трудно было народиться представлению о том, что личность носит в себе не родовой, подчиненный, а независимый, особный, единичный, индивидуальный смысл. По родовым понятиям совершеннолетие личности наставало не вследствие ее физического и нравственного развития, а только вследствие ее родового, а по его идеалу, и всякого другого старшинства; или, говоря вообще, вследствие старшего, властного положения в обществе, потому что бытовая власть, как мы говорили, была собственно властью отеческою, носила в себе лишь одно существо – существо родительской опеки. Родич всегда оставался малолетным к восходящей линии своего рода. Он физически вырастал, но нравственно старики все еще почитали его малолетком и не выпускали из своей воли; и такое малолетство могло в известных родовых обстоятельствах продолжаться до его собственной глубокой старости. Это понятно; но менее понятно то, что тот же самый взгляд на существо человеческой личности неизменно господствовал и в общественном сознании, в порядке и складе общественных отношений, во внутреннем, нравственном складе всего нашего древнего житья-бытья. Практический, жизненный смысл отеческой воли заключался, как мы видели, в личном родительском произволе, в той еще до сих пор не умершей и чуть не врожденной нравственной аксиоме: «Мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю», – как мыслит еще современный нам родитель и как мыслил XII век в лице старшего города, как мыслил потом дед Грозного – великий князь Иван Васильевич, сказавший псковичам: «Чи не волен яз в своем внуке и в своих детех? Ино кому хочю, тому дам княженство…»
Очевидно, что такая воля и для малолетних, и особенно для малолетних в общественном смысле, не могла иметь никакого другого смысла, как смысл произвола, смысл простой грубой силы или насилия, смысл обыкновенной физической силы, в какой под видом ученья — битья, по преимуществу и проявлялась эта воля старшего, или родительская воля. Но этот произвол в глазах массы освящался не только авторитетом своего происхождения, т. е. происхождения из непререкаемой власти родительской, но и учением Церкви, которая утверждала и распространяла его как единственную силу общественного союза. В убеждениях массы этот произвол, эта воля старшего, построившая по своему идеалу и всю бытовую власть, являлась какою-то первозданною физическою стихиею вроде огня, воды, пред которою по необходимости должна была приникать всякая самостоятельность, а тем более самостоятельность индивидуальной личности.
Малолетний, т.е. ребенок, отрок физически, равно как и ребенок, отрок общественно, чувствовал на каждом шагу силу этой воли – стихии, и по необходимости ею одною воспитывался, воспитывал свои понятия и свои стремления. Других начал, других источников для развития и образования собственной воли он не имел. Его со всех сторон охватывала среда произвольных поступков, произвольных действий, которые представляли практическое только выполнение целого нравственного учения об авторитетной воле старших. В этом учении он выяснял себе понятие не о нравственной свободе человека вообще, на чем и должна бы созидаться воля; напротив, он выяснял себе твердое убеждение о подчинении такой свободы произволению старших как исключительных, от рода и от века поставленных блюстителей нравственного закона. Он выяснял себе твердое убеждение, что никто не должен иметь воли (свободы) в качестве человеческой личности, а всякий должен обладать ею только в качестве старшего, в качестве отца своим детям и в прямом, и в переносном смысле, т. е. в смысле всякого властного положения в обществе. Воспитанный в родительском произволе, в произволе старших вообще, крепко убежденный, что этот произвол, иначе – родительская и родовая опека, есть священная воля самой нравственности, неколебимая основа нравственной жизни; что этою только одною волею держится не только связь семьи, рода, но и связь всего общества, всей земли. Старый наш предок, вступая в жизнь уже возрастным, более или менее сознательным ее деятелем, ничего не мог принести в нее другого, как те же самые понятия и убеждения, как тот же основной смысл воли вообще и своей в особенности, тот же произвол, который представлял для него единственную и исключительную норму действий и деяний.
Действуя по такому умоначертанию, по такому развитию и складу своего нрава, он не мог в собственном сознании отделить законного от беззаконного в этом отношении, потому что здесь для него ясен был один только закон – воля или произвол старшего, стало быть, своя воля, когда он сам делался старшим, властным, т.е. свободным и самостоятельным по его понятиям и представлениям. Истинных понятий о нравственной свободе лица не могло существовать в обществе, где родовой дух с такою силою пригнетал, давил личность, т.е. всякую человеческую индивидуальность. Поэтому идея свободы понималась также материально, как и идея воли, и свобода значила собственно освобождение от чужой воли, а следовательно, приобретение своей воли или, в сущности, приобретение нравственной или материальной силы распоряжаться в данных обстоятельствах полным хозяином. Идея самостоятельности, нравственной независимости была нераздельна с идеей самовластия, а еще ближе – с идеей самоволия и своеволия. Вот почему мы, люди другого времени и других понятий о законах нравственности, не имеем права слишком строго судить об этом неизмеримом и безграничном своеволии и самовластии, которое так широко господствовало в нашем допетровском и петровском обществе, и особенно мало имеем права осуждать за это отдельные, а тем более исторические личности, которые всегда служат только более или менее сильными выразителями идей и положений жизни своего общества.
Своеволие и самовластие в ту эпоху было нравственною свободою человека; в этом крепко и глубоко был убежден весь мир-народ; оно являлось общим, основным складом жизни. Это была общая норма отношений между старшими и младшими, между властными и безвластными, между сильными и бессильными, между независимыми и зависимыми и в физическом, и в нравственном, и в служебном, и в общественном, и в политическом отношениях. Это был нравственный закон жизни, выращенный ею же, самою жизнью, из почвы родового, патриархального быта и отеческих поучений; закон, которому противоречия, отрицания являлись только в среде государственных, вообще гражданских, социальных стремлений, постоянно, хотя и не всегда успешно, с ним боровшихся. Нужно было очень много времени для того, чтоб этот закон в борьбе с государственными, т. е. социальными, элементами износил свои жизненные начала, сделался дряхлым и ветхим, каким он представляется нашему сознанию только теперь, в начале второго тысячелетия нашей исторической жизни, все еще время от времени давая нам иногда сильно чувствовать, что не совсем угасло его престарелое существование.
Само собою разумеется, что историк в своих разысканиях и размышлениях о характере многих событий нашей истории и особенно о характере действовавших в этих событиях лиц не мог не заметить, не мог не почувствовать особенной, как бы основной черты, проходящей по всей нашей истории и неизменно появляющейся в каждом сколько-нибудь сильном и наиболее выразительном ее действии, особенно за последние два века перед реформою. Трудно было хорошо выяснить себе эту основную черту, найти ее истинный, жизненный смысл. Тому очень мешали наши взгляды, исполненные западных идей, западных представлений об исторических силах, развивавших тамошние народности. Западными идеями мы по преимуществу измеряли и собственное, историческое развитие; делали ему оценку с точки зрения западных представлений о свободе и рабстве, о праве и государстве, о социальной общине, об обществе и общественности, а главным образом, о свободной и независимой личности. Отсюда: развившееся в Москве самодержавие мы объясняли и до сих еще пор объясняем татарскою идеею, которая будто бы в нем воплотилась и, как самое Батыево иго, беспощадно громила все свободные, самостоятельные учреждения совершенно свободной, будто бы «удельно-вечевой» нашей старины[15]. Западный человек, исполненный идей о правах независимой личности, иначе и не мог смотреть на наше дело, как именно такими глазами. По его взгляду, и мы так поняли основной закон нашей истории и вследствие того подняли нашу семейную и вечевую общину до идеала, какой возможен только в поэзии. Древняя семья-община предстала нам в образе угнетенной невинности; между тем она-то и была первою причиною этой татарской идеи, наилучшею почвою ее воспитания и развития. Самодержавие в своей самовластной форме XVI и XVII вв. явилось роскошным цветом, плодом именно родовой культуры, которая заботливо воспитывала нас с самых первых времен нашей истории. Не зная хорошо самих себя в истории и во всем своем, даже современном быту, мы по неизбежной причине должны были удаляться больше в поэзию, чем идти к здравому, чисто научному исследованию. Мы и теперь все еще идеализируем нашу прошлую жизнь по плану иноземных идей. Однако разработка нашей исторической науки все-таки подвигается вперед, и здравый реализм, который характеризует ее в последнее время, незаметно наводит нас на иные соображения о действующих силах нашей истории.
Сводя счеты всей деятельности и действительности старой Руси до эпохи преобразования, историк никак не мог не почувствовать той основной черты в наших исторических характерах, о которой мы ведем речь.
Он должен был заметить ее присутствие повсюду и, следя главным образом за формами жизни, по естественной причине остановился на самой выразительной, законченной, поэтической ее форме, которую создал сам народ. Историк очень верно охарактеризовал эту черту эпическим богатырством. Богатырь, в самом деле, в народных поэтических представлениях является образом самостоятельной, независимой, вполне свободной личности, как рисовал ее себе наш старый век.
Указывая общее направление или общую силу деяний русского человека в XVII столетии, историк говорит: «Быт русского народа до эпохи преобразования вполне выражается в его поэзии; одних ее памятников достаточно для верной общей оценки этого быта… Вслушавшись внимательно в эту длинную и однообразную песню русского народа, которую он заводит от Киева и Царягорода и ведет через Волынь, Галич, Чернигов, Новгород, Москву к Казани, Астрахани и Сибири, мы видим ясно, что это народ, проживший восемь веков в одинаковых исторических условиях. Любимый образ фантазии певцов – это богатырь – казак, названия однозначащие. Как в X, так и в XVIIв. русский мир был на Украине; как в X, так и в XVIIв. человек, которому было тесно в избе отцовской, у которого сила по жилочкам живчиком переливалась, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, отправлялся в степь-поле, где ему легко найти, на ком попробовать свою силу молодецкую. Многое переменилось в государственном строе России с X до XVIIв., от времен ласкового киевского князя Владимира до времен великого царя Алексея Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца, но удальцы по-прежнему шли в степь поляковать (от поле), на Дону образовалось большое военное братство удалых поляниц (опять от поле), где каждому богатырю можно было набрать себе дружину и идти на подвиг. Таким образом, для народа была возможность через целый ряд веков петь свою песню на один лад, потому что содержание ее было живо перед его глазами; богатырь не умирал в казаке, и наши древние богатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие, о казаках».
Таким образом, выходит, что допетровское русское общество со стороны общего характера своих подвигов, деяний и былей переживало еще древний, эпический склад быта. Богатырство как известный закон личного характера было исходным началом личной деятельности, личного деянья. Понятно, что образом богатырства может быть обрисовано и казачество – весьма видное и в полном смысле эпическое явление нашей истории. Историк распространяет смысл богатырства и на все другие, с виду однородные, явления жизни. Он ставит его общею характеристическою чертою нравственной жизни общества, а следовательно, типическою чертою жизни отдельных лиц. С этою целью он дает нам эпическую характеристику богатыря, рисует вообще сильного
