История Русской Церкви Монашество (1237 – 1563 гг.)
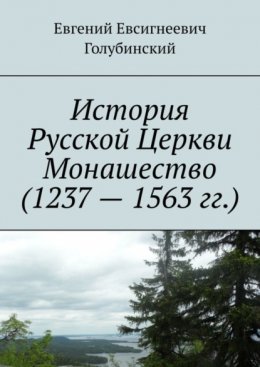
Редактор Андрей Александрович Платонов
© Евгений Евсигнеевич Голубинский, 2024
ISBN 978-5-0062-4595-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Е. Голубинского,
Ординарного Академика Императорской Академии Наук,
заслуженного ординарного профессора Московской Духовной Академии
Том II
Период второй, Московский,
от нашествия монголов до митрополита Макария включительно
Вторая половина тома. Окончание:
Гл. 6 «Монашество»
Послесловие издателя С. А. Белокурова
Подготовка к публикации, составление и предисловие
Андрея Платонова
Предисловие публикатора
Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834—1912) – крупнейший представитель русской церковно-исторической науки, академик Императорской Академии наук, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, автор классического исследования истории Русской церкви. Издание этого труда, завершавшееся в тяжелых условиях войны и революции в 1917—1918 гг. так и не было окончено. Второй полутом II-го тома был сброшюрован и выпущен в свет в неполном виде.
К счастью, нам удалось обнаружить в Центральном архиве древних актов в Москве (ныне – РГАДА) неизданную часть труда Голубинского, которая теперь и предлагается вниманию читателя. Последняя часть 2-го полутома II тома «Истории Русской церкви» Е. Е. Голубинского находится в архиве С. А. Белокурова (Ф. 184) и ошибочно атрибутирована как «Статья „Монашество“».
Послесловие С. А. Белокурова посвящено как рассказу о подготовке к изданию этого полутома, так и истории его написания, а также истории их отношений с Голубинским. В данное издание также включен любопытный набросок статьи о Голубинском известного археографа Ивана Голубцова, работавшего над наследием Голубинского под руководством С. А. Белокурова.
Приношу свою глубокую благодарность всем людям, поддержавшим мои архивные поиски и подготовку публикации: историкам – профессору В. А. Муравьеву (+2009) и Л. Н. Простоволосовой (каф. источниковедения историко-архивного института РГГУ), профессору А. И. Плигузову (+2011), C. Богатыреву (Лондонский ун-т), работникам архивов ОР РГБ, РГАДА, РГИА, особенно Е. Е. Лыковой, Русскому Благотворительному Обществу в Финляндии.
Андрей Платонов
А. А. Платонов
Академик Евгений Евсигнеевич Голубинский – историк и человек
Родился Евгений 28 февраля 1834 г. в семье священника Евсигния Феодоровича Пескова1 в богатом селе Матвееве глухого Кологривского уезда Костромской губернии. Отец выбрал ему фамилию в честь не только знаменитого земляка академического философа Федора Александровича Голубинского2, но и его младшего брата Евгения, бывшего приятелем отца по семинарии. Не исключено, что и имя сыну отец дал в честь друга.
Грамота давалась историку легко. Он вспоминал, что отец учил его по знаменитой в то время среди священников книге «Путь к спасению» Феодора Эмина. «Красноречие книги, состоящей из восьми размышлений, первое из которых начинается словами: „Опомнись, в светских роскошах погруженная душа моя!“ – приводило в восхищение нас обоих – и отца, и меня»3. Дед по отцу – священник села Успенье-Нейское Федор Никитич Беляев хвалил резвого мальчика, приговаривая: «Ты будешь у меня академистом»4.
В восемь лет Евгений потерял мать Анну Козьминичну, смерть которой сильно повлияла на него: из мальчика резвого он сделался замкнутым и нелюдимым, стал чуждаться сверстников и игр5.
В 1843 г. Голубинского отвезли в Солигаличское училище, где, по мнению отца, «лучше учили и секли». Там по традиции ему сразу дали прозвище – «медведь». Эти годы известны нам только из «Воспоминаний» и примечательны усердным учением подростка. Успехи Евгения в греческом языке привели однажды П. Н. Альбова, преподававшего краткий катехизис, в такой восторг, что он пообещал ему великую будущность.
В последнем классе духовного училища из семинарии пришло предписание отобрать у всех учеников произвольные фамилии и восстановить старые, отцовские, но для Евгения, очевидно, за его успехи, сделали исключение – ему была оставлена громкая фамилия, и он с честью пронес ее до конца жизни, став ординарным академиком Академии наук и оправдав возлагавшиеся на него с детства надежды.
Об учебе историка в Костромской семинарии помимо «Воспоминаний» имеется подробный очерк Н. И. Серебрянского6, написанный на основе архива семинарии по заказу С. А. Белокурова в 1915 г. для издания в «Чтениях Императорского Общества истории и древностей Российских» (ЧОИДР).
Из профессоров на Голубинского оказал влияние преподаватель патрологии П. С. Смирнов, увлекавший семинаристов чтением святоотеческих творений. Хорошо читался и ряд других предметов – риторика, православное исповедание, философия, пастырское и нравственное богословие. Преподаватель последнего предмета – К. Ф. Бронзов был отличным проповедником.
В 1854 г. по окончании семинарии Голубинский на казенный счет был послан в Московскую духовную академию (МДА). Историк отмечает в «Воспоминаниях», что в академии профессоров слушали плохо. Исключение он делает для бакалавра Священного Писания иеромонаха Михаила Лузина, чьи лекции о Бауэре и Штраусе считались тогда выдающимися и их слушали внимательно. Оказал решающее влияние на воспитание Голубинского как ученого и его земляк профессор Александр Васильевич Горский.
Голубинский все свое время отдавал учебе, которая предусматривала ежемесячное написание сочинений по каждому предмету. Из них наиболее высоко были оценены его сочинения по истории, истории литературы и Новому завету.
10 февраля 1859 г. Голубинский получил степень магистра богословия за первую научную работу – курсовое сочинение «Об образе действования православных государей греко-римских в IV, V и VI веках в пользу церкви, против еретиков и раскольников» (М., 1859; 2-е изд. М., 1860). Тема, заданная Синодом, предполагала использование исторического опыта первых веков для борьбы со старообрядцами и сектантами. Голубинский хорошо знал старообрядчество и позднее написал большую историческую работу «К нашей полемике со старообрядцами» (М., 1896; 2-е изд. М., 1905). В ней он собрал исторические и археологические материалы, объективно разрешающие многие спорные вопросы, приведшие к расколу. Этот труд серьезно подрывал противораскольническую пропаганду. Что касается сектантов, то их нравственность он ставил в пример в своих публицистических статьях. Но пока что, будучи студентом, он вынужден был писать по теме, формулировка которой противоречила его христианским понятиям – он вовсе не считал, что насильственные меры против раскольников приносят пользу церкви. Сочинение пришлось переписывать. Его окончательный вариант был правлен А. В. Горским, в угоду вкусам начальства дополнившим его «полицейским красноречием» (как выразился в своих «Воспоминаниях» Голубинский) о благодетельности мер против еретиков и раскольников.
Творческая атмосфера, в которой началась учебно-научная деятельность Голубинского (с 1859 г. профессора Вифанской семинарии, а с 1861 г. – бакалавра МДА по кафедре Русской церковной истории) описана в незаконченной статье И. А. Голубцова, помещаемой в приложении к данному изданию7.
Чтобы понять истоки истории русской церкви, Голубинский начал с изучения истории христианства у славянских народов, ранее русских принявших православие. Данные материалы должны были стать введением к академическому курсу русской церковной истории. В ходе этой работы он написал два исследования. Одно из них, оконченное в 1867 г., – «Константин и Мефодий, апостолы славянские» получило в 1869 г. Уваровскую премию Академии наук (на основании положительной рецензии И. И. Срезневского). Это сочинение состоит из двух частей. В первой – полное жизнеописание славянских первоучителей Константина и Мефодия, во второй – критический обзор сказаний о них. В письме к Срезневскому Голубинский объяснил свое отношение к этой работе: «…они принадлежат к такого рода нашим великим людям, что мы обязаны знать не одни только совершенные ими для нас дела, но… по причине их величайшего значения и важности и всю их жизнь»8. Труд остался неопубликованным, с одной стороны, из опасения тогдашней цензуры, не пропустившей бы резкой критики некоторых легендарных сказаний, а с другой – из-за издательских проблем: собственных средств у историка тогда было мало, а редактор единственного подходящего журнала – ЧОИДР О. М. Бодянский был автором критикуемого Голубинским сочинения «Время происхождения славянских письмен». Значительно позднее Голубинский мог издать работу о Константине и Мефодии, но будучи требовательным к себе, не сделал этого, считая, что кирилломефодиевистика вышла за прошедшие годы на более высокий уровень. Для своей работы он желал лишь подробного критического разбора компетентного исследователя, как он об этом сам написал на рукописи, хранящейся в Отделе рукописей РГБ9.
Почти круглосуточная работа подорвала могучее здоровье Голубинского – с ним случился удар и он ослеп на один глаз, но это не сломило его бодрого духа. Он сразу принялся за «Краткий очерк истории православных церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской». Исследование, впервые ясно осветившее историю этих церквей, вызвало одобрение ректора МДА А. В. Горского и других ученых. В 1871 г. Голубинский издал его за собственный счет, но разошлась лишь десятая часть тиража.
28 сентября 1870 г. историк был возведен в звание экстраординарного профессора.
Устав духовных академий 1869 г. предусматривал возможность научных командировок, и Голубинский, не удовлетворенный лишь книжным знанием о православных церквах, сразу решил совершить заграничное путешествие. Чтобы избежать волокиты в совете академии, он прямо послал прошение об отпуске обер-прокурору Синода графу Д. А. Толстому. Тот запросил А. В. Горского и, получив хвалебный отзыв10, дал согласие. Доклад обер-прокурора о разрешении командировки утверждался императором, и Александр II собственноручно написал: «Согласен, но с тем, чтобы он отнюдь не вмешивался в политические дела»11. Эта осторожность диктовалась крайне напряженным положением на Балканах, а также, возможно, и ясно выраженной в «Кратком очерке» личной позицией, занятой Голубинским в отношении балканских конфликтов.
Путешествие «для ближайшего ознакомления с внутренним бытом современной и памятниками исторической жизни православных церквей греческих и славянских» продолжалось с лета 1872 г. до конца 1873 г. Сначала Голубинский в течение четырех месяцев работал в Вене, занимаясь в библиотеках и совершая поездки в Польшу и Австро-Венгрию. Затем еще четыре месяца провел в Белграде, путешествуя оттуда также по Сербии. Через Болгарию и Румынию он прибыл в Константинополь, посвятив полгода его изучению. Отсюда на Пасху 1873 г. через Кипр и Родос совершил путешествие в Иерусалим, побывал в Вифлееме, монастыре св. Саввы, на Мертвом море, Иордане и в Горней. По пути был в Смирне, Александрии и Бейруте. Вернувшись в Константинополь, посетил Солунь и Афон, остановившись в русском Пантелеймоновом монастыре и приняв участие в знаменитых 14-часовых бдениях, прожил полтора месяца в Афинах, месяц в Риме, откуда обратный путь совершил через Равенну, Венецию, Триест, Вену и некоторые другие города. В его неопубликованных дневниках содержится масса любопытных наблюдений12. Кроме того Голубинский написал ряд статей о южно-славянских народах, которые должны были составить продолжение его «Краткого очерка истории православных церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской», но остались в рукописях, несомненно представляющих интерес до сего дня13.
Проработав около 5 лет над первым томом «Истории Русской Церкви» (Т. 1. Период первый, Киевский или домонгольский, 1-я пол. М., 1880; 2-я пол. опубл. в 1881 г.), Голубинский представил его в качестве диссертации на степень доктора богословия. 16 декабря 1880 г. состоялась защита, на которой одним из оппонентов был В. О. Ключевский. Она привлекла внимание широкой публики и прошла весьма успешно14. За это сочинение он был награжден Уваровской премией Академии наук. Интересно, что деньги на издание ссудил Голубинскому московский митрополит Макарий (Булгаков), сам в это время издававший свою многотомную «Историю» и знавший о критике Голубинским его труда. Второй том (первый полутом) «Истории Русской Церкви», освещающий московский период по Стоглавый собор включительно, удалось издать в ЧОИДР лишь в 1900 г. Четвертый, последний, полутом вышел в свет в 1918 г. (не полностью).
Рецензенты отмечали, что в первом томе «Истории Русской Церкви» Голубинским впервые дана картина народно-религиозной жизни, освещен ход христианского просвещения народа, проведен критический анализ источников. Автор стремится из каждого памятника взять все то существенное, что помогло бы составить общее понятие о направлении просвещения, и делает вывод, что в допетровской Руси не было настоящего просвещения, а только грамотность и начитанность, а в народной массе – не живая осмысленная христианская вера и нравственность, а обрядоверие. Сравнительным методом, материалом для которого служат сведения о греческих церковных учреждениях, а также отчасти история западных церквей, Голубинский реконструирует историю церковных учреждений домонгольского периода (епархиальное управление, приход и приходское духовенство, монастыри, церковная архитектура). Историк подчеркивает серьезные недостатки, возникшие в русской церкви: обширность епархий, отдалившую епископа от церковной общины, принудительное и искусственное формирование духовенства из крестьян, перенесение из Греции всех злоупотреблений, исказивших монашество, отступление после смерти преподобного Феодосия Печерского от истинного монашеского (общинножитного) устава15.
В. О. Ключевский отмечал как недостатки метода «Истории» Голубинского: «…во-первых, наклонность уединять церковно-исторические явления от их обстановки… вне связи с исторической средой, в которой они возникли, и во-вторых, историко-критический скептицизм, излишняя подозрительность, с которой он относится к источникам нашей истории»16.
Недовольство Синода «Историей» задержало избрание Голубинского ординарным профессором МДА, которое все же состоялось 14 июня 1881 г. также при поддержке митрополита Макария. 29 декабря 1882 г. Голубинский стал членом-корреспондентом Академии наук по разряду историко-политических наук. С января 1884 г. по апрель 1893 г. был помощником ректора по церковно-историческому отделению и членом правления МДА. 17 января 1886 г. утвержден в звании заслуженного профессора. В 1886 – 1887 гг. – редактор журнала МДА «Прибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе». В марте 1893 г. получил премию митрополита Макария за сочинение «Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра» (Сергиев Посад, 1892; 2-е изд. М., 1909). Его «История канонизации святых в Русской Церкви» (Сергиев Посад, 1894; 2-е изд. М., 1903) стала в дальнейшем пособием по канонизации. В июле 1895 г. вышел в отставку. 19 марта 1903 г. общим собранием Академии наук избран ординарным академиком по отделению русского языка и словесности. В 1906 – 1907 гг. стал членом Предсоборного присутствия при Синоде, в связи с чем издал брошюру «К вопросу о церковной реформе» (М., 1906). (Другие статьи по вопросу реформ были изданы уже после смерти Е. Е. Голубинского его учеником С. А. Белокуровым под общим названием «О реформах в быте Русской Церкви»17).
Вскоре Голубинский окончательно ослеп. Ученики продолжали работу над его наследием. Так, С. И. Смирнов записывал его воспоминания, ярко описывающие быт провинциального духовенства середины XIX в., духовное училище и семинарию, бытовую и научную атмосферу МДА на протяжении нескольких десятилетий. Умер ученый в 1912 г.
Большая часть трудов Голубинского была издана благодаря заботам учеников – С. А. Белокурова, С. И. Смирнова и других. Ряд исследований опубликован в журналах «Православное обозрение», «Богословский вестник», «Известия ОРЯС». При жизни было издано более 70 его работ18.
То, что осталось неопубликованным, хранилось у И. А. Голубцова или помещалось в государственные архивы.
Нельзя сказать, что наследие Е. Е. Голубинского обойдено вниманием. Переизданы «История Русской Церкви», «История канонизации святых в Русской Церкви», «Воспоминания», сборник «О реформах в быте Русской церкви». В 1985 – 1986 гг. в «Богословских трудах» издана (с некоторыми сокращениями) первая часть работы «Константин и Мефодий, апостолы славянские». Переиздание трудов Голубинского вызвало не только интерес, но и нападки. В газете «Радонеж» появились статьи, обвиняющие Голубинского в искажении истории, а его издателей – в нанесении вреда церкви. Архимандрит Тихон, выпускающий в Сретенском монастыре репринтом массу дореволюционной литературы, заговорил о необходимости духовной цензуры. С другой стороны, в научных публикациях личность и вклад выдающегося историка церкви оцениваются самым положительным образом19.
Предлагаемую вниманию читателя неопубликованную главу «Истории Русской Церкви» Е. Е. Голубинского нам удалось обнаружить в фонде Белокурова в Российском государственном архиве древних актов. В описи дела глава была неверно определена как статья «Монашество». Там же находится и послесловие Белокурова, к сожалению, незаконченное. Кроме того, Белокуров смог подготовить к изданию и подборку набросков Голубинского, посвященных нравственному состоянию общества.
Другой важный источник был нами обнаружен в библиотеке Историко-архивного института: это несколько сот книг, принадлежавших Голубинскому. Свои книги он помечал автографом на форзаце, который часто сопровождается указанием на дату приобретения или дарения книги, в тексте встречаются карандашные пометы и заметки академика. Позже в фонде Голубинского в Отделе рукописей РГБ была обнаружена упомянутая выше «Опись личной библиотеки академика Евгения Евсигнеевича Голубинского со включением всех заметок, сделанных им на книгах», подготовленная к публикации И. А. Голубцовым в 1912 – 1918 гг.20, причем его вступительный очерк оказался в папке «Некрологи». Там же находятся дневники и переписка историка.
Интересные неопубликованные работы и биографические материалы содержит фонд Голубинского в РГИА (Ф. 1628). Это статьи о греческой и южно-славянских церквах и народах, о карпато-руссах, большая критическая работа по истории славянофильства (о существовании которой не упоминается даже в «Воспоминаниях» автора), политический памфлет «Должны ли русские стремиться овладеть Константинополем» и др.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МОНАШЕСТВО
Содержание
I
Постепенное умножение количества монастырей: собственных или настоящих. Подвижники, которые сами для себя начали строить монастыри. Причины появления сонма подражателей преп. Сергию Радонежскому; построение монастырей в пустыне; общежитие; запрещение входа женщин в монастыри; построение монастырей в таких местностях, где их дотоле не было. После ревности подвижников слишком быстрое умножение числа монастырей в XIV—XVI вв. объясняется обнявшими и охватившими всех монахов человеческими страстями – славолюбия, честолюбия, властолюбия и корыстолюбия.
Препп. Сергий и Герман Валаамские.
Преп. Сергий Радонежский. Его жизнь до пострижения в монашество. Пострижение в монашество, построение Троице-Сергиева монастыря и жизнь в нем до поставления в игумены. Его настоятельство в монастыре. Дар чудотворений еще во время жизни. Кончина. Троицкий монастырь.
Преп. Кирилл Белозерский. До пострижения в монашество. Пребывание в Симоновом монастыре. – в Белозерье. Монашеский устав его. Отношение его к вопросу о монастырских селах или вотчинах. Последние годы его жизни. Преп. Кирилл – как великий подвижник и учитель.
Монастыри несобственные и их количество. Монахи безмонастырные. Количество монахов.
II
Разделение монастырей на классы в отношении к праву собственности на них: монастыри ктиторские (княжеские, частных богатых людей, общинные, вкладчичьи (эти вкладчики – дружинники?), принадлежавшие известному количеству, артелям вкладчиков); самостоятельные или самовластные. Домовые архиерейские, приписные к другим монастырям посессионные или находившиеся во временном владении.
III
Разделение монастырей на классы в отношении к характеру жизни монахов: особножитные, общежитные (строгие и нестрогие), сохранившие уставы и грамоты основателей строгообщежитных монастырей, скиты. Устройство управления и быт в каждом классе монастырей. Прием в монастыри желающих.
Общежитные монастыри (строгие и нестрогие). Уставы монашеской жизни и «Духовные грамоты»: преп. Евфросина Псковского. Преп. Иосифа Волоколамского. Корнилия Комельского. Антония Сийского. Герасима Болдинского.
Грамоты представителей церковной власти о введении в монастырях общежития: архиепископа Суздальского Дионисия. Неизвестного митрополита (св. Ионы?). Митр. Макария.
Число монастырей, в которых вводимо было строгое или настоящее общежитие. Отсутствие определенного греческого устава строгого общежития. Об уставах этого общежития в наших монастырях.
Устройство управления в монастырях общежитных: игумен-архимандрит, уставщик и головщик, келарь и казначей, подручные им служебники и чиновники. Устройство управления в монастырях малых. Право избрания игуменов: в монастырях ктиторских; в монастырях общежитных самостоятельных. Предписание об избрании простых чиновников. Власть игуменов-архимандритов монастырей, соборные старцы.
Управление в монастырях особножитных: чиновники церковные. Избрание игуменов. Рядовое население их прихода.
Правила относительно пострижения в монашество. Великая схима. Насильственное пострижение в монашество.
IV
Качественность нравственной жизни монахов.
Монашество как целое и как частный процент его; монастыри с строгим общежитием, с общежитием пустынным. Строгая нестяжательность и другие монашеские подвиги. Подвижники монашества, прославленные церковью и непрославленные. Особые виды подвижничества: пещерничество. Молчальничество. Отходничество. Юродство.
Жизнь монахов особножитных монастырей; – не строгообщежитных. Заключение. Монашеские пороки: пьянство и женолюбие. Жизнь монахов безмонастырных. Жизнь настоятелей монастырей: особножитных и общежитных.
Постановления и предписания Стоглавого собора относительно монашества или монастырей и монахов. Взгляд советников царя Ивана IV на недостатки монашеской жизни. О строгом общежитии. Недостатки жизни монашеской, по указанию собора. Ответы соборные на предложение царя: общее увещание; относительно пьянства и горячего вина или хлебной водки; относительно робят голоусых; относительно трапезы и гостей; относительно выхода из монастырей и житья вне их как чернецов, так и самих архимандритов и игуменов; относительно непокупания архимандритами и игуменами мест и недержания ими у себя детей и племянников; относительно того, чтобы архимандриты и игумены заведывали монастырскими хозяйствами с соборными старцами, келарями и казначеями, и чтобы казну монастырскую ведали и описывали дворецкие государя; относительно женок и девок; относительно монахов и монахинь, скитавшихся в миру; – скитавшихся по городам и по селам со святыми иконами и пр.; относительно пустынников-обманщиков; относительно пьянства. – Плоды всех этих предписаний.
V
Средства содержания монастырей и в частности их земле- и вотчиновладение.
VI
Церковно-общественное значение монашества.
Общественное значение монашества как целого и избранных единиц его. Апостольско-миссионерская деятельность наших монахов по обращению в христианство инородцев-язычников: преп. Кирилл Челмогорский, преп. Лазарь Муромский или Мурманский, преп. Стефан Пермский, преп. Евфимий Корельский, преп. Зосима Соловецкий; обращение лопарей и инородцев по берегам р. Пинеги, преп. Феодорит Кольский и Трифон Печенгский и другие пустынники. Заботы монахов о построении и устроении храмов. Монахи как учители мирян. – как обличители всяких неправд, творимых одними людьми другим и всякого деспотизма и варварства одних людей над другими. Благотворительность их неимущим: странно- и нищепитательство, во время неурожаев хлеба и голодов. Заслуги монашества для просвещения и монастырские библиотеки учительных книг. О заслугах их для колонизации страны.
Общее заключение о монашестве.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. – Списки монастырей XIII—XIV вв. в Московской или Северной Руси.
2. – Монастыри Юго-Западной Руси в XIII—XVI вв.
3. – Подвижники XIV—XVI вв.
4. – Челобитная царю Ивану IV о введении общежития в Московских монастырях.
I
Постепенное умножение количества монастырей: собственных или настоящих и явившиеся в истории этого умножения преобразователями преп. Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский. Монастыри несобственные и их количество. Монахи безмонастырные и их количество.
Речи о постепенном умножении у нас числа монастырей в рассматриваемое нами время мы должны начать с оговорки. Наши монастыри периода до-монгольского должны быть разделяемы на два класса: на монастыри несобственные, состоявшие из монашеских так сказать слободок при мирских приходских церквах, и монастыри собственные, каковы в настоящее время все вообще наши монастыри. На те же два класса разделялись наши монастыри и в рассматриваемое нами время. Мы можем и будем говорить о постепенном умножении числа монастырей только второго класса или собственных. Что же касается монастырей первого класса или несобственных, то мы вовсе не имеем сведений о постепенном их умножении. Монастыри эти, представлявшие собою не более, как только терпевшееся злоупотребление, нисколько не принадлежали к числу предметов или явлений церковного быта летописных; ни общие наши летописи не упоминают о них ни единым, нарочитым или ненарочитым, словом, ни их обитатели вовсе не доходили до того притязания, чтобы, прославляя злоупотребления, составлять и вести их частные летописи. Если мы знаем о существовании этих монастырей, то вовсе не из каких-нибудь нарочитых исторических сказаний, а из гражданско-административных актов, не имеющих никакого отношения к истории; мы знаем о них из так называемых Писцовых книг, которые, говоря обо всем, что стояло на подлежавших описанию землях, говорят вместе с другим и об этих монашеских слободках, которые они представляли собою и которые находились при некоторых из мирских приходских церквей.
В период домонгольский, обнимаемый 250-ю годами, во всей вообще Руси, как Южной, так и Северной, собственных или настоящих монастырей было устроено до 85-90-ста [1]. В рассматриваемое нами время, обнимаемое 324-мя годами, явилось этих монастырей в одной Северной или Московской Руси, которая подлежит здесь нашим речам, до [425], а может быть и гораздо более (о чем ниже). Следовательно, в наше время в Северной или Московской Руси монастыри умножались с несравненно большею быстротой, нежели в период домонгольский во всей вообще Руси.
В отношении к этой быстроте умножения монастырей рассматриваемое время разделяется на две неравные части или на два отдела: первый составляют первые сто с лишним лет до половины XIV века; второй составляют остальные двести слишком лет до смерти митр. Макария. В первые сто лет умножение количества монастырей шло так же медленно, как и в период домонгольский, а во вторые двести лет оно шло весьма быстро; именно – в первые сто лет их основано не более, как до 40-45-ти [2], а все остальное их множество явилось в остальные двести лет.
В первые сто лет умножение количества монастырей шло так же медленно, как и в период домонгольский, потому, что продолжало совершаться тем же самым способом, как и в этот последний; во вторые двести лет оно шло весьма быстро потому, что с половины XIV начало совершаться и во все остальное время совершалось новым способом. Самые первые настоящие монастыри явились у нас в России не таким образом, что сами монахи построили их для себя своим собственным трудом, а таким образом, что построил их вел. кн. Ярослав Владимирович, с тем, чтобы в эти готовые, построенные им, монастыри собрать монахов, которые монашествовали дотоле безмонастырно или в монастырях несобственных. В след за монастырями, явился у нас и монастырь, построенный самими монахами, это – Антоние-Феодосиев Печерский. Но монастырь Печерский, при всей своей славе, которую он весьма скоро приобрел, и при всем своем процветании, которого он столь же скоро достиг, вовсе не послужил образцом строения для последующих наших монастырей. Эти последующие настоящие монастыри периода домонгольского в решительно наибольшей своей части явились таким же образом, как и самые первые, т.-е. быв строены не самими монахами, своим собственным трудом, но для монахов или князьями, или частными людьми богатыми. Но если наши монахи периода домонгольского еще вовсе не имели охоты и ревности строить для себя настоящих монастырей своим собственным трудом, то и князья с частными людьми богатыми вовсе не знаменовали себя в этом отношении особенной ревностью. Заботясь о самих себе (о своих душах), князья строили свои семейные монастыри, которые бы служили поминовенными местами для их родов, но чтобы заботиться о строении настоящих монастырей для помещения в них всех монахов, монашествовавших безмонастырно или в монастырях несобственных, то об этом они вовсе не заботились; да при том и о самых семейных или родовых монастырях, сколько знаем, заботились они далеко не все. Что касается до частных людей богатых, то имели или не имели бы они ревность устроять родовые поминовенные монастыри, но у нас не повелось обычая, чтобы они ровнялись в этом отношении с князьями, и только один особый и не настояще княжеский Новгород представлял в сем случае исключение. Не особенно ревностные об устроении семейных или родовых монастырей князья, а в Новгороде столько же не особенно ревностные об этом частные люди богатые, настроили в продолжение периода домонгольского столько монастырей, что на каждое полстолетие периода приходится их приблизительно до 17-18-ти. В продолжение первого столетия рассматриваемого нами времени монахи наши еще не брали на самих себя (или в весьма малой степени) строение настоящих монастырей, как и в период домонгольский, продолжая оставлять заботу об этом князьям и частным людям богатым, и так как последние (князья и частные люди) не приобрели большей ревности к строению монастырей, а продолжали оставаться при той же не особенно великой ревности, что и в период домонгольский, то по этой причине в течение нашего столетия явилось у нас настоящих монастырей немного более, чем в таковое же продолжение времени периода домонгольского. Впрочем, по точнейшему соизмерению времен все-таки мы должны сказать, что довольно значительно более, ибо когда мы говорим о периоде домонгольском, то разумеем всю вообще Русь, а когда говорим о нашем столетии, то разумеем только Русь Северную, Московскую. Затем, наше довольно значительно большее число должно было бы быть и еще большим по крайней мере на один десяток монастырей, если бы тотчас после нашествия Монголов не последовало изменения политических взглядов князей в одном отношении. Для князей периода домонгольского, проникнутых идеею рода или семьи, Киев, столица великого княжения, составлял такое общее родовое достояние, что каждая частная княжеская семья, члены которой по правам старшинства или вообще наследования занимали великокняжеский престол, усердно заботились о построении в ней как бы своего нарочитого дома, чрез построение в нем своего семейного монастыря, вследствие чего и настроено было в Киеве (ничьем и общем) такое сравнительное множество монастырей. Князья нашего столетия, тотчас после нашествия Монголов начавшие переходить от идеи рода к идее государства, не смотрели на столицу своего великого княжения – Владимир так, как их домонгольские предшественники на Киев, и видели свои действительные столицы в стольных городах своих уделов, а вследствие этого из длинного ряда великих князей нашего столетия ни один не построил во Владимире ни одного монастыря [3].
С половины XIV века настала новая эпоха в истории умножения или размножения наших монастырей. В лице преп. Сергия Радонежского явился подвижник, который, подобно Феодосию Печерскому, возъимел помысл основать себе монастырь без чужого или своего злата и сребра слезами, пощеньем, молитвою, бденьем. Пример Феодосия Печерского в XI веке на нашел себе подражателей; но пример Сергия Радонежского в нашей половине XIV века внезапно пробудил целый многочисленный сонм продолжателей, который и последовал за ним целым, непрерывным, рядом и можно сказать – целою непрерывною толпой. Ревность о строении монастырей, внезапно пробужденная примером преп. Сергия в подвижниках, изменяя затем свой характер, обняла и охватила, как человеческая страсть, всех вообще монахов. И плодом ревности подвижников и человеческой страсти вообще монахов, преимущественно последней, последовавшей в след за первой и под ее прикрытием, и было то, что в продолжение наших двух столетий было настроено в Московской Руси указанное нами выше великое множество монастырей.
Топографическому обозрению монастырей, явившихся у нас в продолжение первого столетия (от нашествия Монголов до половины XIV века) и построенных наибольшею частью князьями, мы должны для ясности предпослать обзор государственного разделения за наше время Северной или Владимирско-Московской Руси на области и на княжения. Русь эту за наше время составляли: область Новгородская с частнейшею волостью Псковскою; великое княжество Владимирское, у котором открыты или образованы были, или которое подразделено было на частнейшие уделы: Юрьевский (города Юрьева Польского), Суздальский, Тверской (подразделявшийся с 1319 г. на два удела – Тверской и Кашинский), Костромской, Галичский, Переяславский, Городецкий и Московский; княжество Ростовское, в котором перед нашествием Монголов (в 1218 г.) был открыт частнейший удел Ярославский, а тотчас после нашествия Монголов два частнейших удела – Белозерский и Угличский; княжество Муромское; княжество Рязанское с частнейшим уделом Пронским; княжество Смоленское с домонгольским частнейшим уделом Торопецким и послемонгольскими – Вяземским и Можайским. В Новгороде и его области в продолжение нашего столетия явилось восемь монастырей, из которых три были построены Новгородскими архиепископами [4], два самими монахами [5], один настоятелем прежде существовавшего монастыря [6] и один – неизвестным или неизвестными [7]. Во Пскове и его волости явились в продолжение нашего столетия два монастыря, из коих один был построен одною княгинею [8], а другой – неизвестно кем [9]. В столице великого княжения Владимире не было построено в течение нашего столетия ни одного монастыря ни великими князьями, ни кем бы то ни было, а в его собственной области был построен неизвестно кем один монастырь [10]. В частнейших уделах великого княжения явились монастыри: в Юрьеве Польском – один, построенный, как должно думать, первым здешним удельным князем Святославом Всеволодовичем (1252) [11]; в Суздале – один, построенный Александром Ярославичем Невским [12]; в Твери и ее области – четыре, из коих один построен супругой второго здешнего князя Михаила Ярославича [13], два – богатыми боярами, постригшимися в монахи [14], и один – неизвестно кем [15]; в Костроме и Галиче с их областями не было построено ни одного монастыря; в Переяславле – один, построенный неизвестно кем, но по всей вероятности – которым либо из двух здешних удельных князей (Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич, последний в 1302 г.) [16]; в Нижнем Новгороде – один, построенный, не знаем – богатым или бедным, монахом [17]; в Москве – три, из коих два построены князем Даниилом Александровичем [18], а один – вел. князем Иваном Даниловичем Калитой [19]. В княжестве Ростовском с его частнейшими уделами явилось четыре монастыря, именно: в самом Ростове – один построенный супругой князя Василька Константиновича Марией Михайловной [20]; близ Ярославля – один, построенный Ростовским епископом [21]; в Белозерьи – два, построенные первым тамошним князем Глебом Васильковичем [22]. В княжествах Рязанском и Смоленском не явилось ни одного монастыря. В княжестве Муромском явился один монастырь, построенный неизвестно кем, но вероятно кем-либо из князей Муромских [23].
Мы сказали, что ряд подвижников, которые сами для себя начали строить монастыри, пошел от преп. Сергия Радонежского с половины XIV века. К этому должна быть сделана однако некоторая оговорка. Непрерывный ряд таковых подвижников действительно пошел от преп. Сергия; но отдельные немногие единицы их были и прежде него; по крайней мере мы можем указать на двоих нашего рода подвижников, которые трудились в создании истинно монашеского, так сказать, монастыря непосредственно перед самим Сергием, хотя, как должно думать, и оставались совершенно неизвестными ему по отдаленности от него места своих подвигов; это – препп. Сергий и Герман Валаамские, которые начали созидание своего монастыря в Новгородской области, на Валаамском острове Ладожского озера, после 1329 г.. Непрерывный ряд нашего класса подвижников, пошедший от преп. Сергия, как мы сказали, очень длинен; считая по год смерти митр. Макария всех подвижников может быть названо до [31] лица. Они суть в самом XIV веке: Мефодий Песношский, Авраамий Галичский, Иаков Железноборовский, Сильвестр Обнорский, – все четверо ученики преп. Сергия, Евфимий Суздальский, Лазарь Муромский, Стефан Махрищский, Феодор и Павел Ростовские, Григорий и Кассиан Авнежские, Димитрий Прилуцкий, Кирилл Белозерский, Ферапонт Белозерский, Арсений Коневский; в XV веке: Дионисий Глушицкий, Сергий Нуромский (отчасти ученик преп. Сергия), Павел Обнорский, Григорий Пельшемский (ученики преп. Сергия), Зосима и Савватий Соловецкие, Макарий Колязинский, Иннокентий – ученик преп. Нила, Александр Куштский, Евфимий Сянженский [и Евросин Псковский]; в XVI веке: Корнилий Комельский, Стефан Озерской или Комельский, Трифон Печенгский, Герасим Болдинский, Нифонт Телеговский, Феодосий Тотемский (по просьбе жителей) [24]. Некоторые основали по одному монастырю, другие по два, по три и по четыре, так что всех монастырей [основано ими 37].
Если пример преп. Сергия внезапно вызвал многочисленный сонм подражателей, то, конечно, это было не без каких-нибудь причин. В современных памятниках, сколько знаем, причины прямо не указываются, не объясняются, и мы можем только предполагать их. Характеристическую особенность построения преп. Сергием его монастыря составляет то, что он построил его в пустыне (хотя после построения монастыря пустыня весьма скоро и перестала быть таковой), тогда как дотоле монастыри были строимы в городах или близ городов. Мы примечаем, что эта характеристическая особенность остается таковой же особенностью и относительно большей части монастырей, построенных его подражателями, т.-е. что большая часть и этих монастырей также была построена в пустынях, и мы уверены, что тут указывается нам одна из причин, почему пример преп. Сергия внезапно вызвал многочисленный сонм подражателей. Монашество по своей идее есть пустынножитие, чем оно и было у Греков в первые времена. В позднейшее время, которое впрочем настало очень скоро после первых времен, ибо эти первые времена в смысле процветания монашества были весьма непродолжительны, монахи греческие, совершенно завыв про идею, возвратились из пустынь в города (cfr I-го т. 2-ю полов., стр. 528/636). После принятия нами христианства наши монахи начали монашествовать не по примеру первых и древних монахов греческих, а по примеру современных им, т.-е. в тех же городах, что и последние, как это и пошло потом у нас. Но людям, которые не обречены на безвозвратную духовную смерть, а призваны жить, естественно то, чтоб с течением времени они приходили к сознанию своих недостатков и чтобы, пробуждаясь от сна, они воскрешали в себе идеалы вещей. Наши монахи долгое время монашествовали не так, как этому надлежит быть, а как они научились от монахов греческих: но наконец они, взирая на первые и на древние образцы, дошли до сознания того, что монашествование в миру не есть настоящее монашество, что это последнее есть пустынножитие. И вот, преп. Сергий, быв первым деятельным выразителем этого сознания, потому внезапно и нашел себе многочисленных последователей, что оно – это сознание не было его только личным сознанием, но стало общим сознанием лучших представителей монашества. Некоторые из монастырей, основанных в пустынях, весьма скоро потом переставали быть пустынными, в том числе и прежде всех других – монастырь самого преп. Сергия. Но это вторжение мира к монастырям в пустыни зависело не от основателей монастырей; и многие из ревнителей истинного монашества бежали из монастырей, которые, быв основаны как пустынные, переставали быть таковыми, чтобы основывать новые пустынные монастыри.
Другую характеристическую черту монастырей, основанных подражателями преп. Сергия, составляет то, что все они, в след за ним самим, вводили в своих монастырях общежитие. Эти, как необходимо думать, указывается другая причина, почему преп. Сергий внезапно нашел многочисленных подражателей со стороны монахов в строении собственных монашеских монастырей. Как по своему месту монашество должно быть пустынножитием, так по своему внутреннему устройству оно должно быть общинножитием. Позднейшие монахи греческие, совершенно забыв про пустыни, вместе с тем почти совершенно изгнали от себя и общинножитие, заменив его измышленным или так называемым оснобножитием (cfr ibid. стр. 502/607). Наши первые русские монахи, последуя примеру современных им монахов греческих, усвоили себе, как образ своей жизни, особножитие вместо общинножития, а преп. Феодосий Печерский, сделавший было попытку ввести у нас последнее, потерпел с своею попыткою совершенную неудачу. Но если преп. Феодосий Печерский на первых порах нашего монашества совершенно безуспешно пытался ввести у нас общинножитие, то созерцание жизни особножителей, со всею ее неприглядностию, переходившею в полное безобразие, продолжавшееся в течение нескольких столетий, привело лучших представителей нашего монашества к тому, что наконец сами они признали ее не жизнию, а житьишком [25], и возгорелись желанием о водворении у себя истинно-монашеской и отечески-заповеданной жизни общинной. Это возгоревшееся желание и было причиною, что преп. Сергий внезапно нашел себе многочисленных подражателей в деле строения собственных монашеских монастырей.
Не имеем мы достаточного количества положительных данных, но со всею вероятностию думаем, что должна быть предполагаема еще третья причина, почему преп. Сергий нашел себе многочисленных подражателей. Одно из настоятельных и даже настоятельнейших предписаний, читаемых в отеческих уставах монастырям, составляет то, чтобы последние отнюдь не входны были для женщин; это читается и в уставе Феодора Студита (собственно – патр. Алексея), который был введен у нас преп. Феодосием Печерским (I-го т. 2-я полов., стр. 516/623, см. также стр. 530/637 и 638 нач./789). Между тем наши русские монастыри были доступны для женщин и не только в том смысле, что они свободно входили в них, но отчасти и в том, что они жили в них совместно с монахами [26]. Так как мы считаем за весьма вероятное думать, что если не все подражатели преп. Сергия, то весьма значительная их часть, строя свои собственные монастыри, между прочим имели в виду то, чтобы создавать монастыри, не входные для женщин. Весьма немного известно нам уставов или духовных грамот, оставленных нашими основателями монастырей созданным им монастырям; но эти немногие уставы или грамоты вполне подтверждают наше предположение: из четырех, известных нам, уставов в трех строго запрещается вход женщин в монастыри, а если в четвертом не читаем этого запрещения, то может быть, только потому, что устав известен нам в вольной и сокращенной передаче, в которой запрещение опущено [27].
Кроме сейчас указанных нами трех побуждений, по которым со времени преп. Сергия ревнители истинного монашества строили свои собственные монастыри, должно быть указано еще четвертое. Это – побуждение, при котором ревнители монашества имели в виду не самих себя – монахов, а мирян, и которое имеет не общий характер, как указанные, а частный. Оно состояло в том, что ревнители монашества, считая полезным для мирян монахов и монастыри, воздвигали монастыри в таких местностях, где их дотоле не было.
Мы сказали, что большая часть монастырей нашей категории была построена в пустынях. Пустынь в старое время было довольно во всей Московской Руси, и монастыри действительно настроены на пространстве всей ее, за исключением впрочем областей Рязанской и Муромской, в которых за взятое время нам неизвестно их (монастырей нашей категории). Но была одна знаменитая своими пустынями или своею пустынностью область, в которой пришлыми и своими местными подвижниками было настроено их более, чем где-нибудь и вообще очень много, это именно – область Вологодская. Начало пустынным монастырям положил здесь [Стефан Махрищский], за ним [преп. Дмитрий Прилуцкий и др.] и потом построено было всех монастырей [38].
Мы сказали, что другое после ревности подвижников, чем должно быть объясняемо слишком быстрое умножение числа монастырей в продолжение наших двух веков, составляла обнявшая всех монахов человеческая страсть, именно, говоря точнейшим образом, страсти – славолюбия, честолюбия, властолюбия и корыстолюбия. Должно однако сделать оговорку, что если в предшествующее время главнейшим образом не сам монахи были виновниками умножения числа монастырей, то наоборот в настоящее время были таковыми виновниками не исключительно они одни с их побуждениями хорошим и худым. По сравнению с самими монахами, князья вовсе перестали быть в настоящее время главными умножителями числа монастырей; но они продолжили строить их, как и в прежнее время. За предшествующее время мы знаем немного примеров, чтобы монастыри строили предстоятели церкви – митрополиты и епископы; за настоящее время мы знаем этих примеров гораздо более. Частные люди богатые и теперь продолжали строить монастыри, как прежде, и можно думать, что в наше время это вошло между ними в больший обычай, чем прежде. За прежнее время мы не знаем примеров, чтобы строимы были монастыри мирскими общинами известных местностей; за настоящее время мы знаем подобные примеры. Князья продолжали строить в наше время монастыри или в благодарность Богу за явленные им благодеяния (Дмитрий Иванович построил по этому побуждению один монастырь или вообще по своей ревности об умножении числа монастырей и так сказать о благоукрашении ими своих областей или же как свои домовые (придворные). Предстоятели церкви – митрополиты и епископы построили в настоящее время более монастырей, чем в предшествующее, по всем трем сейчас указанным причинам (в благодарность Богу за благодеяние был построен один монастырь митр. св. Алексеем). Частные богатые люди строили монастыри по третьему из указанных нами побуждений; но, вероятно, отчасти также и по двум первым. Мирские общины иногда строили или устрояли у себя монастыри в тех случаях, когда в их ближайших округах не было последних; побуждениями для них при этом служило – или то, чтобы иметь свой монастырь для поминовения умерших [28], или то, чтобы иметь свой монастырь для пострижения в монахи престарелых и вообще желающих между их (общин) членов [29]. Всех монастырей, построенных в наши два столетия князьями, предстоятелями церкви, частными людьми богатыми и мирскими общинами, нам известно до 20.
Из числа монастырей, построенных в продолжение наших двух столетий самими монахами, мы усвоили их ревнителям истинного монашества до 40. Следовательно, после присоединения к этим 40 монастырям сейчас указанных 20, на долю монахов, водившихся при построении монастырей не ревностию по истинном монашестве, а названными выше страстями человеческими, останется огромная цифра [ок. 335] монастырей. Но подводить здесь точный итог было бы весьма поспешно и весьма неосновательно. Под именем ревнителей истинного монашества мы указали подвижников, которые прославлены церковию и в намерениях которых мы не имеем никакого основания сомневаться; но кроме подвижников, прославленных церковию, могли быть подвижники, которые остались непрославленными, а затем и между монахами, которые не имели сил на то, чтобы быть подвижниками, не все непременно могли водиться при строении монастырей только названными выше страстями человеческими. Если бы все число подвижников ограничивалось только теми, которых нарочито являет и прославляет Бог, то оно было бы слишком уж мало, и, не допуская этого противного делу домостроительства понятия о благодати Божией, церковь твердо верует, что Бог нарочито являет и прославляет лишь отдельные избраннейшие единицы в целых сонмах своих подвижников. Некоторые и не немногие из монахов, которым не было дано стать подвижниками, могли строить свои монастыри, будучи побуждаемы тою же чистою ревностию, что и подвижники, но только ревностию не по разуму. Русское общество нашего времени до крайности не высоко было образовано христианским образованием; но и это крайне невысокое образование было уделом только весьма небольшого слоя общества, наибольшая же его часть была совершенно слепотствующею. В слепотствовавшей наибольшей части общества образовалось в наше время убеждение или верование, будто и устроение сколько бы то ни было плохого качественно и сколько бы то ни для кого ненужного монастыря было уже делом богоугодным. А водимые этим убеждением или верованием людей слепотствовавших и мняся службу совершати Богу не совсем немногие и даже довольно многие монахи из числа принадлежавших к среде слепотствовавшей и могли строить свои монастыри.
Но если таким образом недолжно и напрасно высчитать и обозначить точными цифрами, какое именно количество монастырей наших двух столетий обязано своим появлением простым человеческим страстям (славолюбию, честолюбию, властолюбию и корыстолюбию: то с другой стороны не может подлежать сомнению, что неопределенное и неизвестное количество этих монастырей вообще должно быть предполагаемо как очень большое.. Отчасти исторические сведения о строении монастырей, главным же образом топографические сведения об их распределении по местностям, в связи с сведениями о степени их населенности или о количестве в них монахов, несомненным образом убеждают нас в том, что весьма значительное число монастырей было построено без всякой нужды, что весьма многие новые монастыри были строены, когда в данных местностях был или совершенный достаток или даже и крайний излишек в монастырях и когда существовавшие монастыри не были переполнены монахами, но были населены ими весьма бедно иди даже и вовсе стояли почти что пустыми. Следовательно, побуждением для основания весьма многих монастырей должно быть предполагаемо одно из двух – или указанная неразумная и слепая ревность или наши человеческие страсти. Ревность мы и предполагаем; но предполагать лишь только ее, или же предполагать, чтобы она была преобладающим мотивом строения вовсе ненужных монастырей, значит представлять себе умственную слепоту русского общества большею, нежели какою можно ее себе представлять. Совсем темный деревенский селянин, наделенный особенным чувством благочестия, мог в совершенно (полной) детской простоте сердца думать, что он сделает дело угодное Богу, если подле обители, состоявшей из келий трех-четырех, имеющих неполный комплект обитателей, он поставит своими трудами новую таковую же обитель и таким образом к славе Божией умножит в местности число обителей; но полагать, чтобы так думало и целое общество, значило бы вместо слепоты усвоять ему простую и совершенную глупость. Большинство общества, при своей невеликой умственной зрячести, действительно считало создание монастырей делом богоугодным, хотя бы и не было в них никакой нужды, но создание монастырей сколько-нибудь настоящих, а не простых пародий на них, каковые представляло собою почти все это множество монастырей, построенных самими монахами (т.-е. монахами того класса, о котором говорим). Но большинство монахов-строителей мы не имеем никакого основания причислять к исключительно темным деревенским селянам, а, имея о них чрезвычайно мало положительных сведений в сем отношении, имеем всю вероятность причислять по крайней мере к рядовому большинству общества, если не к низшей части его слоя образованного и интеллигентного (в тогдашнем смысле). Так как слепая ревность есть нечто невменяемое (хотя и весьма достойное сожаления), а порочные страсти представляют собою нечто совершенно вменяемое: то некоторые более наклонны были бы объяснять появление у нас в течение наших двух столетий великого множества монастырей не последними, а первою, как гораздо более нравственно извинительною. Но, как мы уже сказали, при этом мы должны были бы усвоять не только монахам, но и всему русскому обществу XIV—XVI века, такую слепоту ревности, которой при всем худом о нем мнении усвоять ему невозможно. Положительные современные свидетельства, конечно, убедительнее всяких вероятностей невероятностей психологических и вообще всяких доказательств априорических, и мы имеем эти положительные современные свидетельства. Этих положительных современных свидетельств мы знаем очень немного, но все-таки знаем; и так [как] свидетельства – официального характера, исходящие от высшей власти гражданской и церковной, то они имеют всю свою полную силу. Именно – Царь Иван Васильевич в своих вопросах к Стоглавому собору и собор в своих предписаниях и приговорах прямо и ясно свидетельствуют, что пустыни, т.-е. именно монастыри и монастырьки, о которых говорим, были созидаемы не по слепой невменяемой ревности, а по тем совершенно вменяемым нравственно побуждениям, которые мы указали, именно – тунеядству, корыстолюбию и тщеславию [30]. Кроме свидетельства совершенно ясного знаем еще свидетельство не совершенно ясное. В житии преп. Павла Обнорского или Комельского рассказывается, что когда он пришел к митр. Фотию испросить благословения воздвигнуть церковь в основанном им монастыре, то митрополит сначала не только не дал было ему своего благословения, но и осыпал его бранью, и переменился лишь после чудесного откровения, бывшего ему о нем (преподобном: «митрополит же не внимаше словесем преподобнаго, но и жестокая некая глагола ему») [31]. В житии не объясняется, почему сначала митрополит не только не дал было преподобному своего благословения, а и осыпал его бранью; но представляется вероятным подразумевать, что увидел в нем одного из тех просителей, которые основывали монастыри не по истинной ревности о монашестве, а преследуя удовлетворение своих порочных страстей. Время жизни митр. Фотия отстоит весьма не далеко от времени жизни преп. Сергия (последний скончался в 1392 г., а первый занимал кафедру в продолжение 1408—1431 годов); и если мы согласимся понимать рассказ жития преп. Павла так, как мы его понимаем, то из содержащего [ся] в нем свидетельства будет следовать, что монахи, начавшие у нас строить монастыри не по ревности о монашестве, а для удовлетворения своих страстей, явились слишком скоро в след за монахами, начавшими строить их по ревности [32]. Однако известные нам весьма подозрительные исторические примеры заставляют предполагать даже и гораздо больше того, а именно – что первые монахи явились почти одновременно с последними и что если преп. Сергий начал собою один ряд строителей, то из его же монастыря и при нем же самом вышел предначинатель и другого ряда. У преп. Сергия был племянник, по имени Феодор, сын его старшего брата Стефана, тоже монаха, но жившего не в его монастыре, который был приведен к нему отцом для пострижения в монашество 12-летним мальчиком. Выросши и удостоившись сана священства (как будто в молодых очень годах), Феодор неотступно начал просить у дяди дозволения основать свой собственный монастырь, получив наконец каковое, и основал Симоновский монастырь близ Москвы. Так как последующее, известное нам, поведение Феодора несомненно дает видеть нам человека честолюбивого [33], то весьма можно подозревать, что и свой монастырь, в котором не было никакой нужды, он основал главным образом из стремления к тем чести и славе, которыми потом до избытка и преизбытка он пользовался в Москве (Весьма можно подозревать немереный расчет и в том, что он поставил свой монастырь – с одной стороны не в Москве, а в пустыне, которая находилась на загумнах Москвы. Если Феодор сподобился быть причисленным к лику святых, то и между святыми нет ни одного, который бы был совершенно безгрешен, ибо вообще нет безусловно ни одного человека, который бы мог быть совершенно безгрешным) [34].
Наибольшая часть монастырей, построенных нашими монахами не по истинной ревности о монашестве, как уже мы давали знать, были ничтожными и весьма ничтожными монастырьками. Обносилось известное пространство земли «костровым» забором, немного лучшим того, каким в северной России огораживаются от скота крестьянами так называемые «новины», или даже и совсем таким; ставилась внутри пространства маленькая или же совсем крошечная деревянная церковь; срубалось от пятка до десятка келий, которые были именно кельями; собиралось в монастыре до пятка и много до десятка жильцов, – и вот монастырь. По видимому слишком не велико удовлетворение страстей – честолюбия, славолюбия и властолюбия, чтобы быть основателем и начальником такого монастыря; а следовательно – не представляется, по видимому особенно вероятным и то, чтобы предполагать сейчас указанные страсти мотивами к основанию наших монастырей. Но относительно удовлетворения страстей если всякий человек стремится в мыслях своих к слишком многому, то с другой стороны на деле всякий столь же усердно стремится к тому немногому, что для него возможно: всякий бы мечтал властвовать тысячами, но если это невозможно, то всякий столь же усердно [мечтал] добиваться властвовать по крайней мере и над единицами; всякий бы мечтал греметь славой на весь мир, но если это невозможно, то столь же усердно стремится греметь славой по крайней мере на свою деревню. Жалкий монастырь все-таки представлял из себя обитель, и его основатель славился на свою округу, как основатель обители; три-четыре монаха или пять-шесть монахов все-таки составляли братство и основатель монастыря властвовал над ними, как игумен. Не велико было удовлетворение славолюбия и властолюбия, но оно доступно было для многих, и многие со всем усердием и со всем рвением, вообще со всею тою или другою страстью или обеими страстями вместе, к нему стремились. При том же мы вовсе не должны забывать, что все эти монастыри и братства, ничтожными будучи на наш взгляд, вовсе не были таковыми в глазах значительной, невежественнейшей части современников и что жалкий старый монастырь, по переводе так сказать на наш курс, равнялся нынешнему среднему монастырю, а быть не только основателем, но и просто игуменом-архимандритом среднего монастыря, как удостоверит в этом каждый нынешний монах, человеческая приятность ни сколько не шуточная. Многое старое не умерло и до сих пор и может быть (иногда, в иных случаях, целыми страницами своей истории) созерцаемо в натуре. Есть в Греции одна специально монашеская местность, где очень много русских монахов. Монахи начинают монашествавание в одиноких кельях, а потом некоторые из них устрояют маленькие монастырьки (и те и другие носят на месте специальные названия). Каждый из одиноких монахов, если он сознает в себе способности или обладает материальными средствами, со всею страстною настойчивостью стремится к тому, чтобы устроить монастырек, и те, которые действительно успевают стать основателем монастырька и начальником собранного братства, по большей части не в состоянии бывают скрывать, в каких своих чувствах они удовлетворены, достигнув своей цели. Когда мы были на месте и смотрели на этих монахов, стремящихся к устроению маленьких монастырьков и уже успевших устроить их, нам невольно припомнилось наше старое русское монашество и мы в состоянии стали живо представлять себе, как это в старое время могло быть настроено у нас такое множество монастырей.
Страсть корыстолюбия, как имеющая своим предметом нечто реально и осязаемое руками, во всяком случае довольствуется всем, что только приходит в руки и может быть прятаемо ими в сундук; между тем как мотив или стимул к основанию монастырей она должна была действовать в монахах со всею силою, ибо они видели, что их стремления в сем случае вовсе не напрасны. Маленький монастырек был для его основателя маленьким и даже немаленьким имением. Все наши монастырьки были по внешнему (хозяйственному) образу жизни монастыри особножитные. Но, не знаем мы – было ли взято у нас из Греции или самими основателями наших монастырей в своих интересах было уложено, только у нас в особножитных монастырях из всех доходов монастырских шла (принадлежала) игуменам, а следовательно – и прежде них основателям, целая половина [35]. Между тем доходы эти большие или небольшие непременно долженствовали быть. При всем благочестии старых наших предков вовсе не было у нас так, чтобы – основал какой-нибудь монах монастырек или пустыню и в монастырек со всех сторон посылали вотчины; но основатели монастырей, став этими основателями, неустанно разъезжали по миру, вызнавая о «благотворителях» (употребляем термин нынешних монахов), т.-е. о богатых людях, особенно расположенных к монашеству, и с такой бесстыдной и неотступной назойливостию (по всей вероятности, выработанною в целое искусство, в котором соединялись нахальство, лесть и всякое вранье) выпрашивали и вымаливали у них вотчин, что некоторые из них и успевали добывать если не вотчины, то вотчинишки – селишка и деревнишки (см. выше [первой половины сего тома, стр. 656], слова Вассиана Косого). Еще с большим успехом должны были они выпрашивать у окрестных вотчинников и даже у самого царя ненаселенных пахотных и сенокосных земель. Наконец, могли они и до самой половины XVI века в значительной степени успевали выпрашивать у царя денежную и хлебную ежегодную ругу. Но если бы какой-нибудь основатель монастыря был так несчастлив, не успел бы добыть себе совершенно ничего ни по одной из трех, сейчас указанных, статей дохода, то во всяком случае у него оставался еще верный доход, это – доход поминовенный. Монастыри, хорошие или худые, служили обыкновенными местами поминовения родителей для окрестных жителей. Не для каждого из основателей наших монастырей было возможно ставить иеромонахов, для совершения поминовенных служб, из собственного братства, так как не всегда в числе маленького братства могли находиться люди настолько грамотные, чтобы могли быть поставлены в иеромонахи; но для каждого легко было нанять бродячего мирского священника, которых было очень много, или бродячего иеромонаха, которых также было не мало [36]. Наняв священника ли иеромонаха и выдавая им с остальными лицами, которые составляли служебный причт (т.-е. богослужебный) и которые были из самого братства или также нанимались, половину поминовенных доходов, как относительно этого существовал обычай [37], другую половину доходов основатель всю сполна брал себе, ибо братия не имела никакой части в этой статье доходов [38]. Если мы представим себе с одной стороны, что основать наш монастырь совершенно ничего не стоило, а с другой стороны – что поминовенные доходы, большие или малые, были верные, то мы поймем, как много одни эти доходы должны были побуждать корыстолюбивых монахов к тому, чтобы основывать свои собственные монастыри. Но так как каждый из корыстолюбивых монахов, конечно, соединял с основанием своего монастыря мечты о том, чего удавалось достигать счастливейшим между ними, – а счастливейшим удавалось создавать себе целые именьица и настоящие имения, то мы поймем, каким чрезвычайно сильным стимулом для монахов должно было служить корыстолюбие к тому, чтобы основывать свои новые монастыри.
Мы сказали выше, что не может быть обозначено точными цифрами число монастырей, построенных монахами в продолжение двух столетий, о которых говорим, не по искренней ревности о монашестве, а во удовлетворение своих страстей – славолюбия, властолюбия и корыстолюбия. Точно также и по той же самой причине, которая указана, не может быть обозначено точными цифрами и распределение этих монастырей по местностям. Но мы знаем, что все, указанное нами, число [ок. 335] монашеских (по строителям) монастырей (стр. 626) распределяется по местностям так, что их приходится: на Новгородскую [158], на область Псковскую [28],… и весьма вероятно предполагать, что наибольшее число наших монастырей было в тех местностях, в которых было наибольшее число вообще монашеских монастырей; следовательно, в областях Новгородской, Псковской, Вологодской и Московской.
Почему было наибольшее число наших монастырей в областях Новгородской и Вологодской, это совершенно понятно, а именно – потому, что в областях этих, очень обширных, было наибольшее количество свободных земель и что вообще здесь по причине обилия земель дорожили ими менее, чем где-нибудь. Старые предки наши обыкновенно представляются до чрезвычайности монахолюбивыми; очень может быть, что в таком представлении есть более или менее значительное преувеличение, как скажем об этом ниже; но, во всяком случае, дело вовсе не было так, чтобы пожелал какой-нибудь монах основать свой монастырь и ему во всяком месте предлагали бы к монастырю земли или земельных угодий столько, сколько бы он пожелал. Напротив, где земля была дорога (сравнительно), там не редко бывало так, что крестьянское население, опасаясь отхода от них земельных угодий к монастырям, весьма неблагосклонно встречало таких пришельцев к себе, как основатели монастырей, и употребляло усилия, иногда весьма энергические, чтобы выпроводить их от себя, – касательно этого мы имеем немалочисленные свидетельства [39]. А по сейчас указанному нами основатели монастырей и должны были предпочитать области многоземельные, где бы они могли устраиваться без опасения неприятностей. Не совсем понятно или, лучше сказать, – совсем не понятно для нас множество монастырей в области Псковской: весьма маленькая область эта была вовсе не многоземельна, а между тем ее множество монастырей по пропорциональному отношению к ее величине было не просто большое, а совсем огромное. Не должно ли подозревать, что здесь виновниками огромного множества монастырей были не монахи, а миряне, именно – что заправилы и воротилы в крестьянских общинах старались об основании в них общинных монастырей за тем, чтобы потом при заведывании в качестве мирских старост пользоваться их доходами, как пользовались доходами приходских церквей, о чем мы говорили выше (стр. 123) и о чем скажем еще ниже? Если бы это было так, то значило бы, что миряне в Псковской области старались создавать себе из монастырей те именьяца и имения, которые в других местах создавали себе из них монахи. – Что касается до области Московской, то здесь, не рассчитывая на большие земли или земельные угодья, монахи-основатели монастырей могли рассчитывать на хорошие денежные сборы в Москве.
Мы сказали выше, что в продолжение всего рассматриваемого нами времени, от нашествия Монголов до митр. Макария, монастырей построено было, может быть, и не [425] нам известных, а гораздо более. И это последнее совершенно вероятно. Если бы мы имели нарочитые списки монастырей за наше время, подобные напр. тем. какие имеются теперь, то, конечно, мы знали бы все их. Но подобных списков мы вовсе не имеем и знаем о монастырях – о немногих сравнительно, важнейших, из нарочитых о них сказаний (житий их основателей), а об огромном их большинстве просто из случайных упоминаний. Но случайное есть именно только случайное и может быть весьма далеким от действительной полноты, между тем Стоглавый собор дает знать, что по крайней мере в ближайшее к нему время чрезвычайно сильно развилась у монахов страсть основывать монастырьки или пустыни [40].
Итак, в продолжение рассматриваемого нами времени (от нашествия Монголов до митр. Макария) монастырей постепенно настроено было в России очень большое число, так что ко времени смерти митр. Макария (и вместе с монастырями, основанными еще в период домонгольский) она украшалась огромным их множеством. Вовсе не должно однако представлять себе это украшение сколько-нибудь блестящим с его внешней стороны, каковым некоторые представляют его себе и каковыми быть монастыри, конечно, вовсе и не имеют назначения. Наибольшая часть монастырей были сплошь деревянными, т.-е. деревянными по своим стенам или оградам, кельям и церквам; монастырей сполна каменных совсем не было, а монастырей отчасти каменных, именно – с каменными церквами и некоторыми из зданий было немного сравнительно с общим их количеством и восходило всего до 20 [41]. Ни одной каменной не было сколько-нибудь монументальной (в нашем, подразумевается, тогдашнем смысле, а не западном) и все они были небольшие одноглавые церкви. Ко времени смерти митр. Макария один только Сергиев-Троицкий монастырь мог гордиться своими каменными стенами, которые, быв построены только при нем (а быв начаты за два года до него – в 1540 г.), действительно представляли для своего времени нечто весьма замечательное и совсем великолепное, хотя внутри этих замечательных и великолепных стен и не было совершенно ничего замечательного, а второй после Троцкого по своей знаменитости монастырь – Кириллов Белозерский совсем не имел еще и никаких каменных стен. Некоторые из деревянных церквей в монастырях могли быть великолепными, как таковые, т.-е. как деревянные; некоторые деревянные монастыри сполна могли быть великолепными, как таковые же: но вероятно думать, что это было очень редко, ибо одни из строителей монастырей не заботились о великолепии, а другие не имели возможности к тому, чтобы заботиться о нем. Что касается до большинства монастырей, то весьма наименьшая часть их должна быть представляема относительно внешности скромно приличною, а весьма наибольшая часть – совсем бедною. Как воображает себе бедный монастырь, это мы уже давали знать выше: первобытного вида ограда, состоящая из кострового забора или сделанная тыном; то или другое количество маленьких отдельных келий, какие в настоящее время строятся по деревням бобылками; небольшая церковь посередине келий, – вот и весь монастырь. Должно быть сделано нарочитое замечание относительно местностей, которые были избираемы основателями монастырей для их поставления. Судя по монастырям, существующим до настоящего времени, большею частию избирались местности с хорошими природными видами и удобные относительно воды и высоты, – живописные холмы над реками и озерами или же по крайней мере просто берега тех и других (при чем однако первый водитель пустынного жития, преп. Сергий Радонежский, не подав в этом отношении и первого примера, ибо он, заботясь единственно о пустыне, избрал для себя место в лесной чаще, которая не только не имел никаких хороших природных видов, но которое было и не на реке, а только на ничтожнейшей реченке).
Монастырей, построенных в рассматриваемое нами время (от нашествия Монголов до митр. Макария) более или менее знаменитыми и прославленными от церкви подвижниками, как говорено и указано выше, мы имеем целый значительно длинный ряд. Не говоря здесь нарочито обо всех наших монастырях и об их основателях, что было бы невозможно и что не идет к нашему делу (к нашей цели), мы скажем здесь только об основании – основателях старейших между первыми вообще или в известных местностях, которые вместе с тем были наибольшею частию и знаменитейшими, и о знаменитейших безотносительно к старшинству, только о Сергии Радонежском и Кирилле Белозерском.
Истинным родоначальником пустынного жития и подвижничества, от которого пошел непрерывный и длинный ряд продолжателей, был преп. Сергий Радонежский. Но действительными первыми по времени подвижниками, представляющими собою как бы пролог к преп. Сергию с его подражателями, как мы сказали выше, были препп. Сергий и Герман Валаамские, что в области Новгородской.
Остров Валаам или Валаамский находится в середине северной части Ладожского озера, между городами Кексгольмом и Сердоболем на западном его берегу, и имеет до 27 верст в окружности [42]; в настоящее время он принадлежит к Выборгской губернии Финляндского княжества, а в первой половине XIV века, когда жили препп. Сергий и Герман, вероятно, составлял спорную или ничейную землю между Новгородцами и Шведами. К сожалению, о наших первых по времени пустынно-подвижниках мы не имеем совершенно никаких сведений и знаем только то, что, во-первых, как читается в одной записи, «в лето 6837 (1329 г.) нача житии на острове на Валаамском, озере Ладожском, старец Сергий» [43], и что, во-вторых, как удостоверяется в одном показании Валаамских монахов конца XVI века, преподобные уложили в основанном ими монастыре общину не только относительно стола, но и относительно одежды и обуви, т.-е. полную и строгую [44]. Что препп. Сергий и Герман были пустынно-подвижники, в этом не может быть сомнения, ибо остров был пустынный; на основании того, что они учредили в своем монастыре полное и строгое общежитие, не может также подлежать сомнению, что они были ревнители истинного монашества. Следовательно, не зная о преподобных никаких частностей, в общем мы должны представлять себе их как настоящих предтечей преп. Сергия (Когда к преп. Сергию пришел преп. Герман, остается неизвестным. Автор Истории Иерархии уверяет (III, 484 fin), будто он читал записи, в которых говорится, что Герман пришел к Сергию в 6901 (1393) году; но очевидно, что он смешивает Германа с преп. Арсением, который пришел в последнем году на другой остров Ладожского озера Коневец или Коневицкий. Когда скончались препп. Сергий и Герман, остается также неизвестным. Что касается до истории основанного преподобными монастыря за рассматриваемое нами время, то из Жития Авраамия Ростовского и Савватия Соловецкого знаем, что во второй половине XIV века он отличался благоустроенностию.
Отечеством преп. Сергия Радонежского была область Ростовская, в которой его родителями были местный боярин Кирилл и его супруга Мария, люди, усердно набожные по своим нравам. Принадлежав к числу людей, которым суждено бывает испытать в жизни счастие и несчастие, Кирилл провел первую большую половину своей жизни в числе знатнейших бояр области и обладал богатством многим, а потом к старости, вследствие тяжкой государственной службы того времени, татарского для всей северной России лихолетья и постигавших ее естественных бедствий, дошел до нищеты и скудости [45]. Когда в наставшую вторую половину жизни земледельчествовал он по удалении со службы государственной в одном своем имении или именьеце, находившемся где-то не особенно близко от Ростова [46], и родился у него около 1324 г. благодатный сын, который стал впоследствии знаменитым представителем русского монашества и который, быв наречен в крещении Варфоломеем, был у него середним между другими двумя сыновьями, – старшим Стефаном и младшим Петром [47]. Спустя лет 12-ть по рождении своего второго сына Кирилл должен был стать пресельником из своей области Ростовской [48]. Великий князь Иван Данилович Калита вскоре по своем занятии великокняжеского престола (в 1328 г.) подчинил себе Ростов с его областью и послал в него двух своих воевод, которые, подавляя ли недовольство жителей новою Московскою властью или только пользуясь мнимым недовольством для личного обогащения, а вероятнее – то и другое вместе, начали такое ужасное грабительство и мучительство [49], что многие из жителей Ростова и его области решились бежать из своего в тогдашнем частнейшем смысле отечества. Решился бежать и наш боярин Кирилл, и вместе со многими из Ростовцев выбрал для своего нового жительства село Московской области Радонеж [50], которое было отдано Иваном Даниловичем его младшему сыну Андрею [51] и наместник которого (Терентий Ртищ), поставленный вместо малолетнего князя [52], желая привлечь в него переселенцев, обещал последним большие льготы. Истинный сосуд Божий, предъизбранный, Варфоломей с 11 или 12-летнего отрочества начал упражняться в подвигах поста, молитвы и всякого добродетельного благоповедения, насколько это было возможно для отроческих сил, и еще в отрочестве дал обет всецело посвятить себя на служение Богу в монашестве. Достигнув 16 или 17-летней юности (когда женился уже младший брат Петр) Варфоломей просил у родителей дозволения привести обет в исполнение. Набожные родители Варфоломея, сами принадлежавшие к числу почитателей монашества, ничего не имели против обета и, как нужно думать, давно знали о нем (ибо Епифаний не говорит, чтобы они принуждали второго сына жениться прежде третьего), но они просили только его, чтобы он помедлил исполнением обета, пока проводит их до гроба, говоря, что его братья Стефан и Петр женились и заботятся об угождении своим женам, а они находятся в старости и в скудости и одержимы болезнями. Исполняя волю родителей, Варфоломей остался их попечителем, каковым воля Божия судила ему быть не долго, ибо оба родителя скоро отошли к Богу, при чем оба приняли перед смертию монашеское пострижение, удалившись для сего в монастыри [53]. Смерть родителей сделала Варфоломея свободным, и он, совершив по них 40-дневное поминовение пением литургий и панихид, кормлением нищих и раздачей милостыни убогим, и отдав оставшееся после родителей имение младшему брату Петру, тотчас же поспешил привести свой давний обет в исполнение. Мы говорили выше, что преп. Сергий был водителем у нас нового вида монашествования, именно – пустынного, чем было монашество в первое и древнее время и чем бы оно должно быть, иначе сказать – что он был реформатором в области нашего монашества. Реформаторами становятся люди, которые родятся с натурами к тому призванными или предназначенными, т.-е. которые наделяются потребными для того душевными свойствами, и которые вызываются на их новые решения окружающей средой, т.-е. этим зрелищем несоответствия действительности идеалам или злоупотреблений, существующих в первой. Если преп. Сергий стал реформатором, то очевидно, что он был натурою, предназначенною к тому, а что касается среды, то она слишком давно была такова, чтобы вызвать наконец реформатора в лице его или кого-либо другого. Но отличительною и замечательною чертой реформаторской натуры преп. Сергия должна быть, как кажется, признана ее так сказать самовозбудимость или ее особенная внутренне-живая сила. Он принял свое решение стать водителем у нас истинного или пустынного монашествования, будучи 20-летним юношей, после того как первые 12 лет жизни провел в неизвестном селе Ростовской области, а остальные восемь лет в селе Радонежском. Следовательно, он не имел возможности видеть собственными глазами всего того нехорошего, к чему приводило городское монашествование и мог только об этом кой-что слышать; а следовательно и не зрелище и не знание всего этого нехорошего, которое бы могло подействовать на него слишком сильно, возбудило его главным образом стать реформатором. Очевидно, что он дознался из истории монашества и из аскетически-отеческих творений, что истинное монашествование должно быть пустынножитием и что хотя не знал о всем нехорошем, к чему вело городское монашествование, решил заменить последнее первым, потому что последнее во всяком случае было отступлением от идеала истинного монашества. Жизнеописатель преп. Сергия ни слова не говорит в ответ на вопрос, как он пришел к своему решению стать пустынножителем. Это прискорбное для нас обстоятельство должно понимать так, что когда Епифаний писал житие Сергия многочисленные ученики и подражатели последнего уже настолько успели сделать пустынножитие обычным у нас, что совсем не возбуждалось о нем никакого вопроса. Как бы то ни было, Варфоломей, приняв свое решение стать монахом пустынножителем, пошел к своему старшему брату Стефану, который после недолговременного супружества и рождения двух сыновей (Климента и Иоанна, в монашестве Феодора), овдовел и постригся в монахи в Хотьковском монастыре, чтобы звать его с собою в пустыню. Стефан, как мы знаем из его дальнейшего поведения, хотя и был усердным монахом, не был однако особенным любителем пустыни; но, видно, на первый раз младший брат увлек его изображением прелестей пустынной жизни. Вышед из Хотькова монастыря в лес, лежавший от него на [север] и много ходив по нем, чтобы избрать себе место для обитания они наконец возлюбили или облюбовали одно место, находившееся «в чащах леса» и имевшее воду (как сказали мы выше, незначительную, состоявшую в ничтожной реченке), отстоявшее от Хотькова на [10¼] верст, это – место нынешней Троицкой Сергиевой лавры. Сотворив молитву (как необходимо думать по важности и исключительности начинания, к которому было приступаемо, – продолжительную, высоко-торжественную, пламенно-горячую и во многих слезах излившуюся), братья начали рубить лес: сначала устроили временное жилище для себя, состоявшее из одрины или места для спанья и хижины над нею или избушки, шалаша [54], потом срубили одну настоящую келлию и наконец – малую церквицу (Епифаний не говорит, но весьма вероятно предполагать, что келлию и церквицу братья рубили или строили не одни, а под руководством и при помощи настоящего плотника из крестьян, хотя, с другой стороны, как видно из его дальнейшего рассказа о преп. Сергии, этот весьма был знаком с искусством плотничьим (сам себя называет хорошим плотником), так что ему могла быть доверена вместо настоящего плотника пристройка сеней к келлии). Приготовив церквицу, братья отправились к митр. Феогносту за благословением об ее освящении и привезли от митрополита священников, которые и совершили это последнее. Наше событие, предшествовавшее пострижению самого преп. Сергия, но составляющее истинное начало Троицкой Сергиевой лавры, имело место в правление вел. кн. Симеона Ивановича (1340—1353), – «мню, говорит Епифаний, яко в начале княжения его» [55]: за действительный год его должен быть принимаем 6-й год правления – 1346-й (Родился в 1323 г., постригся 23 лет, в этом же 1346 г.). Как мы уже сказали, старший брат Стефан не был человеком, расположенным к пустынножительству, которое воображению всякого человека должно представляться не иначе, как до последней степени устрашающим и смущающим. Должно думать, что Варфоломей приступил к осуществлению своего намерения монашествовать пустынножитно весной или летом, и в благоприятное время года Стефан позволил ему увлечь себя в лес; но когда настала осень и с нею предстала его воображению ужасная перспектива зимы, он не в состоянии был более крепиться и, предоставив брату оставаться в его пустыне, ушел в Москву, чтобы поселиться в одном из ее монастырей [56], – это было спустя немного времени по освящении церкви. Тотчас по удалении брата Варфоломей начал заботиться о том, чтобы действительно воспринять этот ангельский образ, для которого он оставил мир в буквальном смысле слова. Он нашел и привел к себе в пустыньку некоего старца духовного, игумена Митрофана, при чем под игуменом, по всей вероятности, должен быть разумеем не игумен монастыря, а иеромонах, состоявший священником при приходской церкви и вместе имевший право духовничества. Призванный игумен постриг Варфоломея в монашество 7 Октября 1345 или 1346 г., на память святых мучеников Сергия и Вакха, и нарек ему монашеское имя в честь первого из мучеников Сергия [57], – в минуту пострижения Варфоломею-Сергию было 23 года. Своего духовного отца по монашеству Сергий продержал у себя в продолжении семи дней, вероятно, затем, чтобы в течение этих дней он ежедневно совершал для него в его церкви божественную литургию, а сам он во все это время неисходно пробыл в церкви, питаясь одною просфорой. Когда после 7 дней Митрофан удалился, Сергий остался монашествовать в своей пустыне один.
Он сам избрал для себя пустыню, не постригшись в монахи где-нибудь в городе, для того, чтобы монашествовать со всею истиною, как монашествовали древние святые отцы, и он начал это всеистинное монашествование: непрестанное богомыслие, молитвы дневные и нощные и целонощные, прилежное чтение божественных писаний, строгий пост и иными способами умерщвление плоти, – вот в чем состояло его уединенно-пустынное подвизание. Жизнь в пустыне, полная с одной стороны благословенной и Божией прелести (если можно и позволительно так выразиться), с другой стороны – полна страхов и страхований, и преп. Сергий должен был выдерживать борьбу с одними и другими из последних. Лесной бор, в котором он поселился как пустынник, был полон волков, медведей, а также и гадов, т.-е. змей. Волки ночью и днем стадами подходили к его одинокой келье, чтобы, окружая ее, производить свое столько действующее на самые сильные человеческие нервы вытье [58]; иногда выходили к ней и проходили мимо ее, на расчищенную около ее полянку, и медведи; а змеи, по слову Писания, стерегли пяту ее обитателя при всяком его выходе из нее, скрываясь в траве, хворосте, кустах и под кореньями деревьев. Должен был вооружаться преп. Сергий мужеством и молитвою, видя себя окруженным этими врагами человека естественными. Но еще большим мужеством и более прилежною молитвою должен он был вооружаться против врагов невидимых, против мечтаний бесовских. Из многих бесовских на него нахождений или наваждений Епифаний рассказывает о двух. Однажды преподобный вошел в свою церковь для пения заутрени, и вдруг, только что он начал пение, расступилась церковная стена и вошло в церковь множество бесов в одеждах и в шапках литовских островерхих, скрежеща на преподобного зубами, грозясь и изъявляя намерение убить его и крича ему: «иди отсюда прочь и не смей жить на этом месте, ибо не мы пришли на тебя, но ты пришел на нас»… В другой раз преподобный совершал всенощное бдение в своей келье; вдруг поднялся страшный шум и стук и топание, и явилась ему толпа бесов, кричавших с угрозами: «иди прочь с этого места, чего пришел искать в этой пустыне, не дадим тебе жить здесь»… Смущаемый наваждениями бесовскими, как человек, преп. Сергий молитвою одолевал бесов во всех их нападениях, как Давид Голиафа. Дикие звери, населявшие лесной бор, в котором поставил свою пустыньку преп. Сергий, не все только устрашали его, но некоторые составляли и его так сказать нахлебников. Один медведь начал ежедневно выходить к келье преподобного в определенное время; Сергий понял, что зверь выходит не за тем, чтобы вредить ему, а чтобы получать от него пищу, и он начал выдавать ему ежедневную порцию хлеба, кладя ее на пенек или на колоду; когда у него самого не случалось хлеба и медведь приходя не находил выложенной своей порции, то долго не отходил от келлии, но стоял, озираясь во все стороны и ожидая, – говорит Епифаний, – как будто какой злой заимодавец, желающий получить свой долг. Пищу преп. Сергия в его пустыне составляли хлеб и вода. Воду он брал из речки, которая протекала подле его пустыньки, а откуда брал он хлеб, жизнеописатель его этого не говорит; но должно думать, что он получал его от младшего брата, оставшегося в Радонеже, что было или так, что он по временам ходил к брату или что брат по временам доставлял его ему. Так как люди и особенно подвижники, подобные преп. Сергию, не могут долго оставаться без того, чтобы не причащаться святых Таин, то необходимо предполагать, что или сам Сергий ходил для сего в Радонеж или в Хотьков или что он призывал к себе священника для совершения литургии или наконец – что он имел запасные святые дары.
В совершенном одиночестве преп. Сергий прожил лет около двух [59], а затем его пустынька начала превращаться в монастырь. Еще тотчас после того, как он поселился в лесу, его начали посещать жители ближайших мест, и в том числе, вероятно, и монахи [60]. Посещения, как должно думать, продолжались непрерывно, и наконец между монахами начали выискиваться отдельные люди, которых обнимала ревность пустынного, истинно монашеского, жития, и в которых возгоралось желание поселиться в зачатой им – Сергием пустыне. Водитель пустынного жития представлял желавшим поселиться с ним монахам всю трудность этого жития; но настаивавших на своем желании он вовсе не хотел отстранять от себя и начал с радостию принимать их, памятуя слова Спасителя: Грядушего ко Мне не изждену вон, и другие слова: Идеже суть два или трие совокуплении во имя Мое, ту есмь Аз посреде их [61]. Так как желавшие поселиться с преп. Сергием имели жить не общинножитно, как в настоящем благоустроенном монастыре, а особножитно, то каждый сам для себя должен был ставить келлию, как и промышлять потом о своем пропитании; при этом преп. Сергий, как человек молодой, обладавший исключительной крепостью телесною [62] и знакомый с плотничьим искусством усердно помогал строиться [63]. Мало-по-малу собралось к преп. Сергию монахов, желавших подвизаться вместе с ним пустынножитием, 12 человек не считая самого [64]. В числе этих первых собравшихся Епифаний называет [65]:старца Василия, по прозванию Сухого, который пришел из первых «от страны» (из другой области?), с верхней Дубны [66]; Иакова, бывшего известным под именем Якуты, который служил для всех прочих «посольником» в случаях, если нужно было посылать на какую-нибудь необходимо нужную службу, (главным образом, как нужно думать, для приобретения из селений хлеба); диакона Онисима, родом из Ростовских бояр Дюденевых, который, будучи еще мирянином, переселился из Ростова в Радонеж вместе с отцом преп. Сергия [67]. Собравшиеся к последнему 12-ть человек монахов, поставившие для себя столько же отдельных келлий, не образовали из себя настоящего монастыря, но представляли из себя слободку 12-ти особокелейников, из которых каждый был сам, и только все признавали самого основателя за старшего между собою. Однако преп. Сергием дан был слободке и некоторый вид монастыря относительно внешности и относительно внутренних порядков. Келлии обнесены были одним общим тыном, у ворот которого приставлен был нарочитый вратарь; в церкви, поставленной преп. Сергием, заведено было ежедневное общественное богослужение; впрочем, поелику между всеми насельниками слободки не было ни одного иеромонаха, пока не пришел к преп. Сергию постригавший его игумен Митрофан (который, не долго пожив (по лете едином, – л. 94, = стр. 65), и который, может быть, пришел в таком состоянии, что и не мог уже служить, у него и умер), – то ежедневно отпеваемы были полунощница, утреня, часы, вечерня и мефимон (павечерница), а литургия совершаема была только по праздникам и для сего призываем был ими «игумен старец» (иеромонах). В отношении хозяйственном каждый келейник был совершенно сам по себе, исключительно сам обязанный заботиться о своей пище и о своем одеянии и о всех вообще своих потребностях. Но принявший всех других к себе в сожительство преп. Сергий старался, по словам Епифания, служить всем, как раб купленный [68], т.-е., как будто бы он был полным и настоящим холопом всех: он рубил всем дрова, носил воду, толок в ступе толокно и молол в жерновах муку [69], пек для всех хлебы и варил пищу, шил одежду и обувь (видно, что кроме искусства плотничьего он знаком был еще и с искусствами портняжным и сапожным).
Собравшиеся к преп. Сергию для совместного пустынножития с ним монахи были истинные монахи и избранные из числа истинных монахов. А как таковые, они не могли долго оставаться без игумена, одну из главных обязанностей которого, дававшую ему его имя, было духовное руководство братии и очищение и врачевание их совестей чрез таинство исповеди в качестве их общего духовника. Сопустынники преп. Сергия устроили совещание между самими собою и решили просить его о принятии над ними начального начальства, как выражается жизнеописатель. Преп. Сергий, по смиренному сознанию своего недостоинства, долго отказывался от предложения; но наконец братия начали грозить, что в случае его упорства они разойдутся из пустыни и таким образом изменят своему обету неисходно пребывать с ним (который они, вероятно, давали, поселяясь в его пустыни), а что за этот их грех измены обету взыщется от Бога с него; смущаемый угрозами, преп. Сергий покорился воле братии. Это было в то время, как по смерти митр. Феогноста св. Алексей находился в Константинополе, на поставлении в митрополиты, а митрополией в его отсутствие управлял по его поручению епископ Волынский Афанасий, живший в Переяславле [выше первой половины тома стрр. 182—183], т.-е. в 1353—1354 г., когда преп. Сергию было от роду 33 или 34 года, и после того как он прожил в пустыне 9 или 10 лет. Епископом Афанасием в Переяславле и был поставлен преп. Сергий в игумены, быв одновременно с сим удостоен им иерейского сана или посвящен в иеромонахи. Приняв на себя обязанности игумена, преп. Сергий всею душою предался попечениям о своем малом стаде и старался воодушевлять и научать себя примером древних великих игуменов – Пахомия, Евфимия, Феодосия, прозванных именно Великими, и Саввы Освященного. Непосредственно за сим он допустил и то, чтобы монастырь его, ставший теперь из монашеской слободки действительным монастырем. начал превращаться из малого монастыря или монастырька в большой или настоящий монастырь. До сих пор братство преп. Сергия состояло из апостольского числа 12-ти (с ним самим 13-м): если кто-нибудь из числа 12-ти братий умирал или удалялся в пустыни, – ибо и это случалось, как дает знать в нашем случае Епифаний [70], то на место выбывших одними или другим путем он принимал новых, но число в сторону maximum’а удерживал одно и то же. Вскоре после принятия им на себя звания игумена число это было нарушено особенным образом, с тем, чтобы потом уже не быть более наблюдаемым. К новопоставленному игумену пришел для пустынного жития в его монастырьке архимандрит Смоленский Симон, старейший из архимандритов своей области, инок славный и нарочитый: исключительному пришельцу, который от славы стремился к смирению, преп. Сергий не нашел возможным отказать в приеме, и он-то и нарушил число 12-ти. Если бы полагать, что в нашем месте Епифаний рассказывает в совершенно последовательном порядке, то выходило бы, что и непосредственное за тем превращение числа 13-ти в 14-ть совершилось через принятие такого лица, в приеме которого преп. Сергий также не мог отказать. В след за рассказом о прибытии архимандрита Симона у Епифания читается рассказ о том, что старший брат преп. Сергия Стефан привел к нему для пострижения в монахи своего младшего 12-летнего сына Иоанна (который, быв принят и пострижен преп. Сергием, получил от него монашеское имя Феодора [71]). После архимандрита Симона и за ним, как можно думать, сына Стефанова Иоанна преп. Сергий начал принимать всех приходивших к нему, и число братии постепенно начало умножаться. Став игуменом, преп. Сергий перестал иметь время и возможность, чтобы служить всем братиям на подобие купленного раба, ибо ежедневно совершал божественную литургию. Но по крайней мере заботы о снабжении церкви богослужебными принадлежностями он взял исключительно на самого себя: он сам толок и молол муку для просфор, сам пек просфоры, сам катал свечи и приготовлял кануны праздничные. Что касается до игуменского надзора над братией, то читал ли он житие преп. Феодосия Печерского и хотел подражать ему или же подражал ему случайно, но только он поступал совершенно так, как этот последний [72]: спустя довольно долгое время после павечерницы он обходил все келлии и, прислушиваясь у дверей и смотря в окна, старался узнавать, что в каждой делается; если обитатель келлии находился в ней один и занимался молитвою, чтением божественных книг или каким-либо рукоделием, радуясь и воздавая благодарения Богу отходил молча; а если находил, что в какой-нибудь келлии сошлись двое или трое и занимались беседою и смехом, с негодованием ударял в двери или в окно, давая знать о своем посещении; замеченных в неподобающем времяпровождении призывал на другой день к себе и начиная обличения не прямо, но издалека «и аки притчами» смотрел: кто из виноватых какую обнаруживал готовность к покаянию, – раскаивавшихся при первой догадке прощал, а упорных и притворявшихся непонимающими окольных речей облагал эпитимиями. Подобно преп. Феодосию Печерскому поступал преп. Сергий и относительно принятия в монастырь изъявлявших желание постричься у него и относительно сподобления их того, что составляет печать монашества, – святой схимы: он не отревал никого из приходящих к нему, ни старого, ни юного, ни богатого, ни убогого; по принятии не тотчас постригал в монахи, но повелевал одеть принятого в долгую свиту из черного сукна и ходить ему в ней время довольное, пока не навыкнет всему устрою монастырскому; святой схимы сподоблял тех, которые оказывались чернецами совершенными, житием чистыми и искусными [73].
Преп. Сергий хотел быть водителем у нас истинно монашеского пустынного жития; но основанному им монастырь очень недолгое время суждено было оставаться пустынею. Он выбрал место для своего обитания в дикой чаще лесной, удаленное от селений и от проездных дорог; но спустя лет12-13-ть после того, как он пришел на место, и лет 6—7 после того, как образовавшаяся около его келлии монашеская слободка превратилась в настоящий монастырь, окружавшая слободку-монастырь пустыня начала заселяться и быстро заселилась людьми [74]. У Епифания читаем об этом: «Пусто бяше место то (во время прихода на него Сергиева), и не бе тогда окрест места того ни сел близ ни дворов, по многа же времени и пути пространного не бяше к месту тому, но некою узкою и прискорбною, тесною, стезею, аки безпутием, нужахуся приходити к ним, великий же и широкий путь вселюдский отдалече, не приближаяся места того, ведяшеся, окрест же монастыря того все пусто, со вся страны лесове, всюду пустыня, пустыня бо в ресноту нарицашеся; паки же по днех, непщую, яко во днех книяжения князя великаго Ивана, сына Ивана (1353—1359), брата же Симеоня, тогда начаша приходити христиане и обходити сквозь вся лесы оны и возлюбиша жити ту, и множество восхотевшее начаша обаполы места того садитися, и начаша сещи лесы оны, яко никому же возбраняющу им, и сотвориша себе различныя многия починцы, преждереченную исказиша пустыню и не пощадеша, и сотвориша пустыню, яко поля чиста многа, якоже и ныне нами зрима суть, и составиша села и дворы многи, и насеяша села и сотвориша и умножишася зело» [75].
Не знаем, какие были у преп. Сергия идеалы относительно житейских средств содержания монастырей и монахов, ибо жизнеописатель его не говорит об этом. Но период скудости для его монастыря был чрезвычайно непродолжителен, хотя и имел место: он кончился одновременно с тем, как пустыня около монастыря заселилась людьми, ибо, по словам Епифания, населившие пустыню жители «начаша посещати и учащати в монастырь, приносящее многообразная и многоразличная потребования, имже несть числа» [76]. Останавливаясь нарочитым образом на непродолжительном периоде скудости, жизнеописатель, после общих речей о том, что обитатели монастыря не редко терпели недостаток во всем потребном до хлеба и соли, сообщает несколько частных случаев и передает некоторые частности. После того, как преп. Сергий принял на себя звание игумена образовавшаяся в его пустыне монашеская слободка превратилась в настоящий монастырь; но монастырь не стал с самого первого времени общинножитным, о сначала остался, каковою была и слободка, особножитным, так что в нем по прежнему каждый монах исключительно сам должен был заботиться о средствах своего содержания. Один раз не стало хлеба у самого игумена монастыря; три дня он провел без пищи, а на четвертый день рано по утру взял топор и пошел, чтобы приобрести хлеба плотничной работой; он знал, что один из старцев монастыря, по имени Даниил, желает пристроить сени к своей келье и что он может заплатить ему за работу гнилыми хлебами, – к этому старцу он и отправился; «слышал я, старче, – сказал преп. Сергий, – что хочешь поставить сени пред кельей, для этого я и пришел к тебе, – чтобы руки мои не оставались праздными, я поставлю тебе сени»; старец отвечал, что он действительно хочет поставить сени, что у него готов и материал и только ждет плотника из деревни, а что касается до тебя, сказал он игумену, то боюсь, что ты возьмешь слишком дорого; преп. Сергий отвечал, что он не потребует большой платы и удовольствуется гнилыми хлебами, которые он – Даниил имеет, ибо у меня, прибавил он, вовсе нет и таких хлебов; что же касается до работы, сказал он, то где ты найдешь другого такого плотника, как я («и кто есть тебе ин сице древодел, якоже аз» [77]). Старец с радостию согласился на крайне выгодное для него предложение и тотчас же вынес решето желаемых хлебов; но преп. Сергий сказал, что он не берет платы прежде работы, и немедленно, крепко перепоясавшись, со всем усердием принялся своими сильными руками за дело; при помощи Божией сени были готовы к вечеру, а игумен-плотник, получив условленную плату, увидел себя в возможности, после четырех дней поста, пообедать и вместе поужинать заработанными хлебами. Случалось, что подобно игумену оставались и многие или некоторые из братий и что не ели и по два дня; между тем преп. Сергий запрещал братиям выходить из монастыря для сбора милостыни по селам. После нескольких случаев невольного поста один из братий наконец возроптал и с несколькими другими, которые ему сочувствовали, пришел к игумену и начал говорить от лица своего и товарищей, что они не хотят умирать с голода и на другой день уйдут из его монастыря, чтобы где бы то ни было искать себе хлеба. Преп. Сергий созвал всю братию и обратился к ней с пространным поучением о терпении и об уповании на милость Божию, – и не успел он еще кончить поучения, как раздался стук в ворота монастыря, за которыми стоял целый большой воз хлебов пшеничных, утворенных с маслом и с зелием (пирогов с капустой), присланных неизвестным христолюбцем (должно подразумевать, для поминовения кого-либо умершего в дому); на другой день получен был новый обильный присыл не только хлебов, но и всякого ястия и пития; на третий день и еще новый присыл из другой стороны. Если игумен и монахи оставались иногда без хлеба, то церковь монастырская оставалась иногда без вина для совершения литургии, без ладана для каждения на службах и без свеч для ее – церкви освещения. В случае недостатка вина, вероятно, не пелась временно божественная литургия; в случае недостатка ладана, вероятно, обходились без каждения; что же касается до недостатка свеч, то, обходясь без того, чтобы зажигать их пред иконами, при канархании и при чтении книг во время нощных служб светили себе березовою или сосновою лучиной [«овогда же недостало вина, им же обедня служити, и фимиану, им же кадити; иногда же недостало въску, имже свещи скати, и пояху в нощи заутренюю, неимущи свещ, но токмо лучиною березовою или съсновою светяху себе, и тем нужахуся канонархати или по книгам чести, и сице свершаху нощные службы своя»] [78].
Житие особножитное, каковое было в монастыре преп. Сергия, может быть очень строгим; но оно не есть то истинно монашеское житие, которое канонически узаконено церковию и которым должно быть общинножитие (Двукр. соб. пр. 6). Общинножитие вместо особножития и было введено преп. Сергием в его монастыре неизвестно когда после конца 1364 г. [79], но, вероятно, более или менее вскоре после сего. Об этом введении общинножития Епифаний рассказывает следующее. В один от дней неожиданно пришли к преп. Сергию Греки из Константинополя, посланные от патриарха, и сказали ему, что вселенский патриарх Константинограда Кир Филофей благословляет его и посылает ему поминки или дары, состоящие из креста, параманда и схимы, и свою патриаршую грамоту. Преп. Сергий сказал было послам, что может быть они ошибаются и принимают его за другого; но эти отвечали, что они посланы именно к нему – Сергию. Тогда, воздав через послов благодарение патриарху и учредив подобающим образом их самих, преп. Сергий поспешил с грамотой патриаршей к митр. Алексею. Грамота читалась: «Милостию Божиею архиепископ Констянтиня града, вселеньский патриарх, Кир Филофей о Святем Дусе сыну и съслужебнику нашего смирения Сергию, благодать и мир и наше благословение да будет с вами. Слышахом еже по Бозе житие твое добродетелно зело, похвалихом и прославихом Бога; но едина главизна еще не достаточьствует, яко не общежитие стяжасте, понеже веси, преподобне, и самый богоотец пророк Давид, иже вся обсязавый разумом, ничтоже ино тако возможе похвалити, точию: се ныне что добро или что красно, но еже житии братии вкупе; потому и аз совет благ даю вам, яко да составите общее житие. И милость Божия и наше благословение да есть с вами» [80]. Митрополит, прочитав грамоту патриарха, сказал Сергию, что если он, Богу прославляющему славящих Его, сподобился такого блага, что слух об его житии достиг до столь далеких стран и что если вселенский патриарх совещевает на великую зело пользу, то и он советует и благословляет. Преп. Сергий поспешил исполнить волю патриарха и митрополита и тотчас же ввел у себя в монастыре общинножитие. Необходимо думать, что дело было не совсем так, как представляет его Епифаний. Преп. Сергий весьма прославился, как старец святой жизни, в Московской области и во всей Русской земле еще при своей жизни, хотя мы и не знаем, восходит ли эта слава своим началом уже к 1365—66 г., к которому должно быть относимо послание патриарха; но чтобы слава его достигла до Константинополя и чтобы патриарх по собственной инициативе подал ему совет ввести у себя общинножитие, это решительно и совершенно невероятно (а если есть многие люди, которые этому верят, то мы можем только подивиться их легковерию; и если Епифаний представляет дело так, как представляет не по неведению, то он уже очень рассчитывал на легковерие людское, хотя об этом легковерии он и имел истинные представления). Необходимо думать, что патриарх написал преп. Сергию свою грамоту не по своей собственной инициативе, а наоборот по нарочитой просьбе последнего, обращенной к нему через митр. Алексея. Из отеческих аскетических творений преп. Сергий узнал, что истинным местом жительства для монахов должна быть пустыня; но из тех же отеческих аскетических творений он должен был узнать и то, что истинным образом жизни монахов в монастырях должно быть общинножитие, и если, последуя отеческому указанию в первом случае, он удалился для жизни в пустыню, то очевидно, что когда в пустыне образовался около его келлии монастырь, он должен был, последуя второму указанию, возыметь и желание – ввести в монастыре общинножитие. Однако, сделать ему это последнее было вовсе не легко. Первенствующее наше монашество, воспроизводя господствующий пример современных монастырей греческих, явилось как исключительно особножитие; преп. Феодосий Печерский сделал было попытку ввести у нас общинножитие, но попытка его не имела никакого успеха и вскоре после него общинножитие исчезло и в его собственном монастыре; а что касается до времени преп. Сергия, то не только вовсе не было у нас общинножития в монастырях, но вовсе не было у нас о нем и никакой памяти, так что оно было как нечто вовсе им неведомое и нечто вовсе ими не слыханное (Единственное исключение – новый Валаамский монастырь). Таким образом, ввести преп. Сергию общинножитие в своем монастыре значило ничто иное, как начать вводить в наших монастырях новый образ жизни, дотоле у нас небывалый и неслыханный или стать в сем случае радикальным реформатором. Совершенно основательно было ожидать преп. Сергию горячих протестов и сильного ропота против своего нововведения, ибо люди, привыкшие к злоупотреблениям, горячо протестуют и сильно ропщут против нововведений и не таких важных; а поэтому и совершенно естественно было желать ему того, чтобы получить на свое начинание благословение патриарха, дабы таким образом опереться с своим благим нововведением на авторитет высшей церковной власти и стать с ним под ее, имевший заграждать всякие уста, сильный покров. С другой стороны можно отчасти думать и то, что в виду важности дела смущали преп. Сергия сомнения, хорошо ли он поступает, решаясь на свое нововведение и что он в важном деле желал слышать голос вселенского патриарха, ибо хотя он и знал из творений отеческих, что истинный образ жизни монашеской есть общинножитие, но и то обстоятельство что у нас вовсе не было общинножития и исключительно было особножитие, должно было иметь в его глазах значение. Что касается до митр. Алексея, то мы уверены, что он не был только простым посредником между преп. Сергием и патриархом Филофеем, но принимал в деле и личное живое участие. Он был такой же истинный монах, как и Сергий, а следовательно – его столько же, как и последнего, должен был занимать вопрос об истинной монашеской жизни; а что он, после того, как получен был ответ патриарха, стал решительным сторонником общинножития, видно из того, что во всех своих монастырях, которые построены после получения ответа, он вводил это общинножитие. Относительно введения преп. Сергием общинножития в его монастыре Епифаний, к сожалению – не особенно обстоятельный в нашем случае, пишет: «От того времени убо (прихода патриарших послов) составляется во обители святаго общежитие, и устрояет блаженный и премудрый пастырь братию по службам, ового келаря и прочих в поварни и въеже хлебы пещи, ового немощным служити с всяким прилежанием, в церкви же первее еклисиарха, еже потом параеклисиарси, пономархи и прочая; вся убо сия чюдная она глава добре устрои, повеле же твердо блюсти по заповеди святых отец и ничтоже особь стяжевати кому ни своим что звати, но вся обща имети, и прочая чины вся в лепоту чюдне украси благоразумный отец» [81]. С введением общинножития число монахов в монастыре преп. Сергия начало еще более умножаться. Но этот истинно монашеский образ жизни, по обстоятельствам, которые не были во власти преп. Сергия, одной из своих хороших сторон явился для монастыря причиной одного великого зла, которое впрочем обнаружило себя как таковое, не при жизни преп. Сергия, а уже после его смерти. Еще до введения им общинножития в монастыре, пустыня, окружавшая последний, превратилась в населенное место, вместе с чем подле него проложена была большая дорога из Москвы в северные города России. Между тем одну из непременных обязанностей общинножитных монастырей составляет странноприимство, для чего они должны иметь особые странноприимницы. Преп. Сергий, по введении общинножития в монастыре, со всем усердием начал исполнять обязанность странноприимства. Но по большой дороге, соединявшей столицу с целой чеверной частью страны, непрестанно шло и ехало великое множество странников, так что странноприимница преп. Сергия превратилась в станцию (постоялый двор), постоянно битком набитую народом. Нет сомнения, что при самом преп. Сергии странноприимство князей и воевод и безчисленных воев, проезжавших по дороге [82], было именно богорадным странноприимством; но впоследствии эти князья и воеводы, богато одарившие монастырь вотчинами, превратились в его гостей и стало, нисколько не к пользе его монахов, так, что в нем были «гости беспрестанные день и нощь» [83].
Введши в своем монастыре общинножитие, преп. Сергий устроил его совершенно, так что теперь оставались ему [только заботы] о хранении того, что было им введено. Но его ждало тяжкое искушение Божие. Старший брат его Стефан почему-то оставил игуменство в Московском Богоявленском монастыре и пришел в его монастырь [84] (вероятно, испытав в Москве какую-нибудь обиду и, может быть, ту обиду, что по смерти вел. кн. Симеона Ивановича его преемник Иван Иванович взял себе в духовные отцы не его, а кого нибудь другого). Вопреки брату будучи честолюбивым, он хотел заменить для себя оставленное игуменство в его уже начинавшемся славиться, хотя, может быть еще и не совсем прославившемся монастыре, и подобрал себе между монахами монастыря партию, которая расположена была видеть его на месте Сергия [85] (успев в этом, может быть, от того, что между монахами были недовольные преп. Сергием за введение им в монастыре общинножития). Как повел бы Стефан со своей партией дело, чтобы самому стать на месте преп. Сергия, осталось неизвестным, ибо последний не допустил дойти делу до конца. Однажды в субботу пели в церкви монастыря вечерню, – преп. Сергий стоял в олтаре в облачении, быв служащим, а Стефан стоял на левом клиросе. Увидав в руках канонарха книгу, Стефан спросил его, кто дал ему книгу; когда канонарх отвечал, что игумен, он закричал: «а кто игумен в этом монастыре, не я ли первый пришел на это место» и затем кричал и еще что-то бранное («и иная некая изрек, ихже и не лепо бе») [86]. Преп. Сергий, стоя в олтаре, слышал весь крик Стефанов и решился дать место гневу. По окончании службы, не заходя в свою келлию, он тайно вышел из монастыря и направился по Кинельской (нынешней Александровской от Троцы?) дороге к преп. Стефану Махрищскому, который в 30 верстах от его монастыря (к востоку, в 10 верстах от Александрова) основал, подобно ему, свой пустынный монастырь. Сергий просил у Стефана дать ему одного из братьев монастыря, который бы знал окрестные места пустынные и обошед с данным братом многие места нашел хорошее место на реке Киржаче (где теперь стоит заштатный город Владимирской губернии Киржач). Тотчас он поставил на месте келлию себе, а затем, когда было узнано в Троицком монастыре, куда он скрылся и когда пришли к нему некоторые из братий этого последнего, или же когда явились у него ученики из ближайших жителей, приступил к строению церкви, с тем, чтобы создать на месте новый монастырь [87]. Между тем все окрестные жители [узнали] о прибытии к ним знаменитого подвижника для основания у них монастыря, и к преп. Сергию стеклось множество народа, – мирян и монахов, крестьян и бояр, чтобы помогать ему руками и деньгами строить монастырь. Но монахи Троицкого монастыря не долго хотели оставаться под самозваным игуменством Стефана и в ту минуту, как в новом монастыре поспела церковь к освящению (а она могла поспеть весьма скоро, в несколько недель) отправили посольство к митр. Алексею с просьбою о возвращении им преп. Сергия. Митрополит, как необходимо думать – только тут узнавший о печальном удалении Сергия из монастыря, немедленно послал к нему двух архимандритов с убеждением возвратиться в монастырь. Преп. Сергий отвечал митрополиту через архимандритов, что не смеет прекословить ему и готов исполнить его волю. Пред возвращением в монастырь он освятил церковь в новом монастыре во имя Благовещения Богородицы и оставил вместо себя его строителем своего ученика, по имени Романа [88]. Так как св. Алексей, убеждая преп. Сергия чрез архимандритов возвратиться в монастырь, обещал ему: «а иже досаду тебе творящих изведу вон из монастыря, яко да не будет ту никогоже, пакость творящаго ти» [89]: то нужно полагать, так и сделал. Был ли в числе изведенных и сам Стефан, не знаем, но считаем это за весьма вероятное думать (ибо, хотя бы и охотно быв прощен самим Сергием, едва ли он мог быть прощен строгим митрополитом).
Построив два монастыря для самого себя, преп. Сергий еще построил четыре монастыря во исполнение просьб вел. кн. Дмитрия Ивановича Донского и его двоюродного брата Владимира Андреевича, князя Серпуховского и вместе Радонежского, по прозванию также Донского. По просьбе Дмитрия Ивановича преп. Сергий построил монастыри: Голутвин близ Коломны, Дубенский на Стромыни и Дубенский в Шавыкине, – оба не особенно по далеку от Троицкого монастыря (в нынешнем Александровском уезде Владимирской губернии); по просьбе Владимира Андреевича – Высоцкий монастырь близ Серпухова. Во все четыре монастыря по просьбе князей были поставлены преп. Сергием настоятелями его ученики: в первый – Григорий, во второй – Леонтий, в третий – Савва, в четвертый – Афанасий. Благословлял преп. Сергий строить монастыри и самих своих учеников, и этими его учениками было построено монастырей до [11]: Мефодием Песношским, [Иаковом Железноборовским, Сергием Комельским, Саввою Сторожевским и Сильвестром Обнорским] по одному, Павлом Обнорским два, Авраамием Галичским – четыре [90].
Истинный монах совершенно отказывается от мира, но не отказывается вместе с сим от того, чтобы возможными для него способами служить благу отечества. Преп. Сергий с готовностью хотел служить отечеству, когда был призываем к этому представителями государственной власти, и явил себя великим сыном отечества, когда оно само, в минуту страшной опасности, вызывало своих сынов явить их патриотизм. В 1364 г. (Никон. IV,10), как говорили мы выше [первой половины сего тома стр. 206], преп. Сергий ходил, по поручению митр. Алексея, в Нижний Новгород, чтобы преклонить к исполнению воли Москвы одного из Суздальско-Нижегородских князей, ссорившихся тогда между собою. – Когда в 1380 г. пришел в Россию со своими небывало-грозными полчищами Мамай, мужественный дух вел. кн. Дмитрия Ивановича смущался и требовал себе подкрепления; в эти страшные и истинно критические для отечества минуты преп. Сергий, уподобляясь древним Израильским пророкам, явился горячим воодушевителем государя: пришедшего к нему в монастырь Дмитрия Ивановича для вопрошения, «повелит ли (посоветует ли) противу безбожных изыти» [91], он укрепил в решимости, обещав ему именем Божиим победу (Великий князь начал просить у преподобного двух его монахов – Пересвета и Ослябу, которые, принадлежав в миру к сословию воинскому, были ведомые всем ратники и великие богатыри крепкие и люди весьма смысленные к воинскому делу и наряду. Преподобный повелел монахам тотчас же готовиться в путь, а они с своей стороны от всей души изъявили готовность сотворить послушание. Вместо шлемов тленных он возложил на их головы шлемы нетленные – святую схиму, с нашитыми на ней крестами, и заповедал им крепко поборать по Христе на врагов его [92]. Когда уже на самом поле Куликовском смутилось сердце великого князя от видения бесчисленного множества врагов, приспело к нему послание преп. Сергия, в котором последний писал ему: «без всякого съмнения, господине, со дерзновением поиди противу свирепства их, никакоже ужасатися, всяко поможет ти Бог». – В 1385 г., по молению вел. кн. Дмитрия Ивановича, преп. Сергий ездил в Рязань к заклятому врагу Москвы вел. кн. Олегу Ивановичу «посольством о вечном мире и любви», и старания святого мужа, после многих прежних совершенно безуспешных посольств, имели полный желавшийся успех [93].
(Св. митрополит Алексей желал было видеть преп. Сергия своим преемником на кафедре Русской митрополии. У вел. князя Дмитрия Ивановича Донского был предъизбран в преемники св. Алексею архимандрит его придворного Спасского монастыря (что ныне дворцовый собор Спаса на Бору) Михаил, по прозванию Митяй, которого он любил столько же, сколько царь Алексей Михайлович любил Никона, и который, представляя собою человека необыкновенного, был исполнен стольких же достоинства, как и последний, если даже не больших, не имев при том крупных недостатков последнего. Но он не совсем нравился святому Алексею и этот предпочитал ему Сергия. Митрополит призвал Сергия из его монастыря в Москву. Когда преподобный явился к нему, он начал свою беседу с ним тем, что приказал принести митрополичий параманд с золотым крестом и сказал, что хочет одарить его этим парамандом [94]. Не понимая значения дара и отказываясь от него, преподобный со смиренным поклоном сказал: «прости меня, владыка, – от юности моей не был златоносцем, тем более хочу пребывать в нищете в лета старости». Тогда святой Алексей уже прямо сказал Сергию, что дает ему параманд, как некоторое обручение святительству и что желает оставить его по себе своим преемником. Для смиренного преподобного Сергия, которому и в помысл никогда не приходило архиерейство, предложение святого Алексея было крайне неожиданным и он приведен был им в величайшее смущение. Пришедши в себя, он отвечал на него сколько смиренным, столько же и решительным отказом. А когда святой Алексей хотел было настаивать, он отвечал, что принужден будет бежать куда-либо в пустыню. Святой Алексей прекратил настояния и отпустил преподобного с миром в его монастырь).
Преп. Сергий Радонежский бесспорно есть знаменитейший представитель нашего монашества после преп. Феодосия Печерского или вместе с сим последним. Но нравственный облик его созерцается у его жизнеописателя Епифания еще более тускло, чем облик Феодосия у Нестора. Нет сомнения, что преп. Сергий был великий подвижник, но с какими индивидуальными чертами нравственной физиономии представлять его себе, как представлять его себе живым лицом и живым человеком, дать некоторое удовлетворение читателю относительно сего риторствующий жизнеописатель его заботится в общих фразах. Как кажется, должно быть принимаемо за наиболее соответствующее реальной действительности то общее изображение преп. Сергия, делаемое Епифанием, в котором он представляет его как отрока-юношу; это изображение читается: «како имам поведати (об его – Сергиевых добродетелях): тихость, кротость, словамолчание, смирение, безгневие, простота без пестроты, любовь равну имея ко всем человеком, никогда же к ярости себе (подвиже, – Ник. лет.) ни на претыкание, ни на обиду ни на слабость ни на смех, но аще и усклаблятися хотящу ему, – нужа бо и сему бытии приключается, но и то с целомудрием зело и со воздержанием, повсегда же сетуя хождаше, аки дряхловати сообразуя» [95]. Что касается до проявления преп. Сергием его духа во внешнем образе жизни и поведения, то в сем случае Епифаний, во первых, указывает на то, что и став знаменитым игуменом ставшего знаменитым монастыря он носил одежду самую худую. «Риза нова, – пишет Епифаний, – никогда же взыде на тело его ниже от сукон немецких, красновидных, цветотворных,… гладостно и мягко; но токмо от сукна проста, иже от сермяги, от влас и от волны овчая спрядено и исткано, и тоже просто и не цветно и не светло и не щапливо, но токмо видну шерстку, иже (еже) от сукна (но только по шерсти видно, что из сукна) ризу ношаше, ветошну же и многошвену и неомовену и уруднену и многа пота исполнену, иногда другойцы яко и заплаты имуще» [96]. Во-вторых, Епифаний сообщает, что во все время своей жизни, и незнаменитой и знаменитой, преп. Сергий (может быть, знавший о заповеди преп. Феодора Студита игумену: «да не ездиши верхом на лошадях или мулах без нужды, но христоподражательно да путешествуешь пешком», – I т. 2-я полов., стр. 682/788, §6) всегда совершал свои путешествия, близкие и далекие, пеше ходя [97] (за исключением того случая, когда путешествовал в Рязань посольством от великого князя с старейшими боярами последнего).
Еще во время своей жизни, и еще в раннюю пору этой последней, преп. Сергий удостоился от Бога дара чудотворений, а также удостоился чудесных знамений или проявлений Божия к себе благоволения. Мы передадим все, что читается относительно того и другого у Епифания и так как не знаем действительного хронологического порядка, в котором совершены были преп. Сергием чудеса и в котором совершились знамения, то одни и другие вместе передадим в том порядке, в каком читается о них у Епифания.
Когда преп. Сергий заработал у старца Даниила чрез пристроение к его келлии сеней гнилые хлебы и когда после четырехдневного поста он начал этими хлебами вместе обедать и ужинать: то некоторые из братий видели «от уст его яко дым мал исходящ» [98].
Мы сказали, что преп. Сергий поставил свою келлию в пустыне близ маленькой речки. Было ли уже в его время так, что речка была по летам скудна водой и даже совсем пересыхала, так что монахи явившегося около келлии монастыря принуждены были ходить за водой на другую речку, в которую впадает наша подмонастырная и которая течет от монастыря в значительном отдалении, или же их затрудняло то обстоятельство, что речка течет в крутых и довольно высоких берегах: только некоторые из братий очень роптали на преп. Сергия, что он без рассуждения выбрал место для монастыря, не позаботившись о воде. Преподобный оправдывался, что он один было хотел безмолвствовать в пустыне и что Бог восхотел, в прославление Его имени, воздвигнуть толикую обитель. Но, чтобы прекратить ропот недовольных, он взял один раз некоего брата, вышел с ним из монастыря в дебрь или низину за стеной последнего, нашел один ров с небольшим количеством дождевой воды, сотворил над ним молитву и знаменал крестным знамением, – «и се внезапу источник (воды) велий явися» [99]. По словам Епифания, лет около 10—15 источник назывался Сергиевым, но потом преп. Сергий с негодованием запретил так называть его, сказав что [не] он дал воду, а Бог даровал [100].
Один христолюбец, живший в окрестности монастыря и имевший великую веру к преп. Сергию, раз подвергся опасности лишиться своего единственного сына, малого отрока, который заболел тяжкою болезнию. Надеясь на молитвы преп. Сергия, христолюбец поспешил с больным к нему в монастырь; но еще пока преподобный совершал над отроком моление (пел молебен), он скончался. Обманутый в своей надежде и убитый горем отец, оставив мертвеца у преподобного, пошел приготовлять гроб; но по уходе отца преподобный простерся у тела отрока с горячей молитвой к Богу и он ожил. Когда возвратился отец, чтобы взять тело для погребения, преподобный отдал ему живого сына, сказав, что отрок не умирал, а только от сильного холода, – дело, как видно, было зимой, – обмирал [101].
Один вельможа, имевший жительство вдали от монастыря преп. Сергия, где-то на Волге, подвергся болезни самого яростного беснования, так что для ухода за ним требовались десятки людей. Родные вельможи, слыша о чудесах, творимых Богом руками преподобного, решились повезти его в монастырь последнего. Привезенный к монастырю, бесноватый начал вырываться из рук своих стражей и поднял страшный вопль: «не хочу туда, не хочу». Преподобный велел ударить в било и, собрав братию, стал петь молебен о болящем, и бесноватый начал мало-по-малу кротеть. Когда после сего он введен был в монастырь и преподобный, вышед к нему из церкви, знаменовал его святым крестом, от отскочил от креста (и, почувствовав себя как бы объятого пламенем изшедшим из преподобного, ввергся в находившуюся по близости яму с водой), и в след за тем получил совершенное здравие [102].
Однажды преп. Сергий по совершении своего обычного келейного правила на ночь бодрствовал и молился о братии. Вдруг он слышит зовущий его голос: «Сергие!» Удивившись необычному званию в глубокую ночь, он, сотворив молитву, открыл оконце келлии, чтобы видеть: кто зовет, и вдруг он увидел чудное видение: явился с неба великий свет, который превосходил светлостию дневной свет, и за сим он услышал второе возглашение: «Сергие! молишися о своих чадех, и Господь моление твое прият, смотри же опасно и виждь множество иноков, во имя святыя и живоначальныя Троицы сшедшихся в твою паству, тобою наставляеми». Воззрев по сделанному приказанию, преп. Сергий увидел множество птиц, «зело красных» (прекрасных), которые летали не только в монастыре, но и вокруг него, а голос говорил: «имже образом видел еси птицы сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеют, аще восхотят стопам твоим последовати». Дивясь неизреченному видению, преподобный хотел, чтобы был у него сообщник и свидетель в созерцании видения и поспешил позвать екклесиарха Симона, который жил по близости. Симон с поспешностию пришел на зов, но сподобился видеть [не] все видение, а только некоторую его часть. Преподобный рассказал ему все по ряду и они вместе возрадовались, трепеща душою от неизреченного видения [103].
Друг преп. Сергия св. Стефан, епископ Пермский, один раз ехал из своей епархии в Москву. Ехав не той дорогой, которая вела мимо монастыря, а другой, которая отстояла верст на десять или несколько более (которая была, вероятно, более прямой, «прямушкой», как говорят в деревнях) и имев нужду спешить в Москву, он не заехал к преп. Сергию и решил сделать это на возвратном пути. Но когда он поровнялся с монастырем друга, то встал в санях, проговорил Достойно и обычную молитву и поклонился по направлению к монастырю, сказав: «мир тебе, духовный брате». Случилось, что преп. Сергий находился в это время на трапезе; разумев духом приветствие Стефаново, он встал на трапезе, мало постояв сотворил молитву, поклонился по направлению к тому месту, где находился епископ Стефан, и сказал: «радуйся и ты, пастуше Христова стада, и мир Божий да пребывает с тобою». Когда удивленные поведением преподобного и подозревавшие некое видение братья, спрашивали его после трапезы, что значило его вставание, от отвечал, что епископ Стефан, едущий к Москве, быв против монастыря, поклонился святой Троице и его смиренного благословил, и указал место, на котором останавливался епископ. Некоторые из братий тотчас же решились догнать епископа, чтобы удостовериться в словах преподобного («хотящее известно уведети»), и догнав, узнали от свиты епископа, что действительно так было [104].
Однажды во время пребывания в монастыре князя Владимира Андреевича преп. Сергий служил божественную литургию с братом Стефаном и племянником Феодором. Вдруг Исаак молчальник, один из подвижников монастыря [105], видит, что служащих не трое, а четверо и что четвертый есть «муж чуден зело, имеющий видение странно и несказанно в светлости велицей, образом сияющий и ризами блистающийся». Исаак спросил об увиденном им четвертом служащем стоявшего рядом с ним «отца» Макария, и этот, также сподобленный зреть видение, высказал догадку, что то, вероятно, священник, пришедший с князем. Но от свиты последнего они узнали, что с ним не было священника, и тогда они догадались, что видели ангела Божия, сослужившего преп. Сергию. Когда после окончания литургии Исаак и Макарий начали наедине крепко молить преподобного разрешить их сомнения, он отвечал: «аще Господь Бог вам открыл, аз не могу се утаити: его же видесте, ангел Господень есть, и не токмо ныне днесь, но и всегда, посещением Божием, служащу ми недостойному с ним», и крепко наказал им никому не поведывать тайны до его смерти [106].
Один раз, совершая свое обычное келейное правило, преп. Сергий молился пред иконою Божией Матери, да будет Она Богоматерь – ходатайцею к Сыну своему за устроенный им недостойным монастырь, и пел благодарный канон Пречистой, т.-е. акафист. По совершении правила он сел мало отдохнуть и сказал ученику своему (келейнику), по имени Михею: «чадо, трезвися и бодрствуй, понеже посещение чюдно хощет нам быти и ужасно в сий час». Когда он еще говорил это, услышан был голос: «се Пречистая грядет». Преподобный с поспешностию вышел в сени кельи, и вдруг осенил его великий свет, превосходящий сияющее солнце, и увидел он Пречистую с двумя апостолами Петром и Иоанном, в неизреченной светлости блистающихся. Не в состоянии будучи выносить блистания света, преподобный упал на землю, а Пречистая прикоснулась его своими руками, говоря: «не ужасайся, избранниче мой, приидох бо посетити тебе; се услышана бысть молитва твоя о ученицех своих, о нихже молишися, и о обители твоей; да не скорбиши прочее, ибо отныне всем изобильствует, и не токмо дондеже в житии еси, но и по твоем еже к Богу отхожении неотступна буду от обители твоея, потребная подавающи нескудно и снабдящи и покрывающи». Сказав это, Пречистая стала невидима, а преподобный был как бы в исступлении ума, объятый великим страхом и трепетом. Мало-по-малу пришед в себя, он увидел ученика своего лежащим на земле и от страха как бы мертвым и поднял его. Михей упал на ноги старцу и молил его: «извести ми, отче, Господа ради что бысть чюдное се видение, понеже дух мой вмале не разлучися от плотскаго ми союза блистающася видения». Но преподобный как бы весь горел радостию и от радости ничего не мог отвечать, кроме того, что «потерпи, чадо, понеже и во мне дух мой трепещет от чюднаго видения», – и таким образом они стояли оба, «дивящееся в себе». Спустя немного преподобный велел ученику позвать Исаака (молчальника) и Симона (экклесиарха) и, рассказав им все по ряду о посещении Божией Матери, исполнил их радости неизреченныя. Все вместе отпели они молебен Богоматери и прославили Бога, а преподобный провел без сна всю ночь, «внимая умом о неизреченном видении» [107].
В некоторое время пришел в царствующий град Москву епископ из Константинополя и слышав многое о святом, «слуху бо велику о нем прстранившуся повсюду, даже и до самого Цариграда», был одержим о нем неверием, говоря: «како может в сих странах таков светильник явитися, паче же в последняя сия времена»: он решился сам пойдти в монастырь и своими глазами видеть блаженного. Но когда он был близ монастыря, начал он смущаться страхом, а когда вошел в монастырь и увидел святого напала на него слепота. Преподобный же взял его за руку и ввел в свою келлию и, после того, как он исповедал грех своего неверия и начал просить о возвращении зрения, прикоснулся к его ослепленным зеницам, исполнил его прошение и возвратил ему зрение, в след за чем преподал ему наставление о том, что они – епископы, премудрые учители, не должны высокомудрствовать и возноситься над ними – смиренными и ненаученными невеждами и не искать того, чтобы искушать их безумие [108]. Епископ превратился из неверующего в горячо верующего и всем начал громогласно проповедывать, что преподобный есть святой и истинный Божий человек и что Бог сподобил его видеть небесного человека и земного ангела [109]. Этот рассказ Епифания мы должны сопроводить тем замечанием, что, как уже говорили выше, совершенно невероятно, чтобы слух о святой жизни преп. Сергия достиг даже до Константинополя (и наоборот вовсе неизвестно ни одного примера, что до России достиг слух о святой жизни какого-либо из позднейших греческих подвижников) и что епископ наслышался и наслушался рассказов о нем, уже быв в самой Москве, в которую, вероятно, пришел в качестве посла от патриарха к митрополиту.
Один из окрестных жителей монастыря впал в тяжкую болезнь, так что в продолжение 20 дней не вкушал пищи и не предавался сну. Родственники больного, веруя в чудодейственную силу молитв преп. Сергия и зная о многих совершенных им чудесах, решились повезти к нему больного, чтобы просить его молитв о нем. Преподобный взял священную воду и, сотворив молитву, покропил водою больного, после чего тотчас же он почувствовал облегчение от болезни. Затем он впал в крепкий и продолжительный сон и пробудился от сна совсем здоровым [110].
Князь Владимир Андреевич, в области которого находился монастырь преп. Сергия и который, имея великую в него веру и великую к нему любовь, часто приходил к нему в монастырь для посещения, а иногда посылал ему «яже на потребу», послал один раз с одним из своих служащих различные брашна и пития «в потешение старцу с братиями». Но посланный, по действу сатанину, посягнул дорогой на везенные им брашна и пития. Преподобный своим прозорливым духом узнал об этом прегрешении посланного и отечески обличил его в том, что он дозволил себе быть искушенным от врага [111].
Один богатый лихоимец, живший близ монастыря преп. Сергия, взял у одного бедного человека откормленную свинью и, заколов ее на пищу, не хотел платить денег. Обиженный пришел к преподобному и со слезами просил его о заступлении. Преподобный призвал к себе лихоимца и своим обличением привел его в чувство и раскаяние, так что он обещал заплатить долг. Однако, возвратившись домой, он снова «расслабился помыслом», чтобы не платить долга. Но когда вошел он в кладовую, чтобы посмотреть тушу свиньи, то с ужасом увидел, что, несмотря на зимнее, бывшее тогда, время, она кишела червями: это заставило его поспешить отдачею долга, и после он не смел явиться на лицо святому срама ради [112].
Однажды во время совершения преп. Сергием божественной литургии видел чудное видение Симон екклесиарх, совершенный во многой добродетели и о котором сам святый старец свидетельствовал как о муже совершенного жития. Симон видел огнь, ходящий по жертвеннику, осеняющий олтарь и окружающий вокруг святую трапезу, а когда преп. Сергий хотел причаститься, огнь свился как некая плащаница и вошел во святый потир. По окончании литургии, узнав по лицу Симона, на котором изображался страх, что он видел некое видение, он строго запретил ему не разглашать о видении, которого он удостоился, до его – Сергиевой смерти [113].
Своих угодников Бог прославляет свойственною им святою славою, дабы чрез них славилось Его имя, еще во время их земной жизни. Преп. Сергий еще при своей жизни пользовался этою святою славою в такой степени, в какой не пользовался ею никто из наших подвижников ни прежде, ни после, за исключением, может быть, только преп. Феодосия Печерского. Истинное монашество должно быть пустынножитием; но наша Россия вовсе не видала этого истинного монашества. И вот воздвизаемый Богом находится в Московской области юноша, который действительно уходит монашествовать в пустыню, как это делали древние святые отцы: быстро должна была потечи слава об этом воскресителе у нас истинного монашества сначала по Московской области, а потом и по всем пределам страны. Истинное монашество должно быть общинножитием, чего также вовсе не видела тогдашняя Россия; и вот этот юноша, ставший мужем, когда составился около его пустынной келлии монастырь, вводит в монастыре общинножитие: должна были потечи сначала по Московской области, а потом и по всей стране так сказать сугубая волна славы о преп. Сергии. Но этот насадитель в России истинного монашества, этот начальный русский пустынножитель и начальный русский общежитель (как выражается Епифаний, – л. 351 об.= стр. 148) был воздвигнут Богом не только для того, чтобы быть вождем полка монашествующих, желающих истинно монашествовать, но и для того, чтобы быть неумолкающим вещателем слова душеспасительного ко всем, кто желал слышать это слово: и Московская область, а за нею население и всей России, видя в нем своего пророка и «яко единаго от (древних) пророк» [114] устремилось к нему толпами и вереницами, чтобы слышать его душеспасительное слово [115]. Что не известно с какого времени ранее 1375 г. если не вся Россия, то Московская область, стала видеть в нем свое общее богодарованное достояние, видно из того, что под сим годом у Московского летописца записано: «тогоже лета болезнь бысть тяжка преподобному Сергию игумену святому, но Бог помилова, – разболелся в великое говение, и пакы здрав бысть и вста к Семенову дни» [116].
Скончался преп. Сергий на 69-м году своей жизни и на 46-м году своего монашества 25 Сентября 1392 г.. Пред смертью он не приказал было класть себя в церкви, а просто погрести на общем кладбище, но братии весьма прискорбно было такое завещание преподобного и она испросила у митр. Киприана благословения погрести его в церкви, в которой он и положен был у правой стены, не далеко от олтаря.
Мощи преп. Сергия были открыты спустя 30 лет после его смерти, в следствие особого видения. Одному благочестивому человеку, жившему близ монастыря, который имел великую веру к преподобному и часто приходил молиться к месту его гроба, в одну ночь явился в тонком послемолитвенном сне и сказал: «да возвестиши игумену обители сея, вскую мя остависте толико время во гробе землею покровенна, воде утесняюще (й) тело мое». Видевший видение возвестил о нем игумену Никону (преемнику Сергиеву), а игумен возвестил всей братии, и общим советом братства и положено было изнести мощи из земли. На торжестве их открытия, которое имело место 5 Июля, присутствовал многочисленный собор духовенства и великий князь Василий Дмитриевич с братом своим Юрием Дмитриевичем, крестным сыном преп. Сергия [117] и усердным попечителем монастыря [118].
Троицкий монастырь возник таким образом, что преп. Сергий поставил себе келлию и церковь в расчищенной им лесной чаще и что по мере прибытия к нему монахов для сожительства поставлено было около его келлии 12-ть других келий. Этот первоначальный монастырек не должен быть однако представляем находившимся на лесной поляне совершенно расчищенной и настоящей или на голом месте, которое окружено было лесом: преп. Сергий и первые его сожители не расчистили леса в собственном смысле этого слова, а настолько вырубили или разредили его, чтобы между деревьями могли быть поставлены келлии, так что он стоял не на поляне, а как бы в роще, при чем кельи стояли под деревьями, быв ими осеняемы, как говорит Епифаний, и скрываясь между ними. Вместе с этим первое время оставались кругом церкви и келий не выкорчеванными или невырубленными и пни от срубленных деревьев, так что вид первоначального монастырька представлял соединение привлекательнейшей поэзии с святою простотой. Пока не введено было в монастыре общежитие, все или некоторые из монахов имели у своих келий огородцы для произращения для себя овощей [119]. Смоленский архимандрит Симон, который разрушил своим приходом апостольское число сожителей преп. Сергия и с которого началось быстрое постепенное умножение последних, доставил вместе с тем преп. Сергию и средства перестроить и вообще благоустроить свой монастырь: он принес с собою и отдал в руки святому «многа имения», а этот употребил вданное ему на то, чтобы построить новую, обширнейшую первоначальной, церковь и чтобы поставить келлии вокруг новой церкви правильным четвероугольником [120]. Когда было введено в монастыре общежитие, имели быть построены преп. Сергием в монастыре требовавшиеся этим последним здания: трапеза для братии с поварнею и всякими кладовыми, и составлявшими как бы особые отделения поварни: пивною, квасною, мастерские (для приготовления одежды и обуви) и помянутая нами выше странноприимница. Так как во вторую и вероятно – большую половину жизни преп. Сергий располагал самыми обильными средствами, в следствие величайшего усердия к нему его многочисленных почитателей, о чем Епифаний ясно говорит несколько раз [121], то должно думать, что к концу своей жизни он благоустроил свой монастырь со внешней стороны или в отношении к зданиям в возможной степени хорошо, хотя этот последний и оставался при нем еще весь деревянный со включением и церкви. Позднейшее свидетельство говорит о древней церкви монастыря во имя св. Димитрия Солунского, который был ангелом вел. кн. Дмитрия Ивановича Донского: и со весьма большою вероятностию можно думать, что эта церковь была построена самим преп. Сергием для молитвы о первом державном покровителе монастыря; а принимая это, мы получим, что церквей в монастыре при самом преп. Сергии было две. Епифаний, говоря о монастыре за время преп. Сергия, не один раз называет его лаврою [122]. Употребляя слово не в греческом его значении, а в каком-то другом [123], он употребляет его, по всей вероятности, в значении монастыря обширного, чем дает знать, что монастырь преп. Сергия был таковым уже в его собственное время. Центр или середину монастыря при преп. Сергии, по свидетельству его второго жизнеописателя Пахомия Сербина, составляла церковь; а она стояла на том самом месте, на котором стоит нынешний Троицкий собор лавры [124]. В конце 1408 г., во время игуменства в монастыре преемника Сергиева преп. Никона имело место страшное нашествие на Москву Едигея. Самая столица не была взята им, но ужасно и на огромное пространство была опустошена разосланными от него полчищами окрестность последней. Одним из полчищ (отрядов), именно посланным для опустошения Переяславля и Ростова, был превращен в пепел и Троицкий монастырь, который заранее оставлен был монахами по чудесному извещению преп. Сергия. А таким образом преп. Никон после 1408 г. должен был построить монастырь совершенно вновь. Как он построил его, не имеем сведений; знаем только, что вновь построенная им церковь монастыря освящена была 25 Сентября 1411 г.. [125] По открытии мощей преп. Сергия, совершенном 5 Июля 1422 г., преп. Никон решился воздвигнуть над ними каменный храм, каковой и построен был им при содействии Звенигородского князя Юрия Дмитриевича. Храм этот, складенный как все тогдашние каменные Московской Руси храмы, именно из камня (местного, белого и мягкого), очень небольшой пространством (одноглавый), но, вероятно, принадлежавший к лучшим храмам своего времени, существует до настоящего времени в качестве главной церкви или главного собора лавры. Для совершения служб в монастыре на время стройки каменной церкви, имевшей заменить собою разрушенную деревянную, преп. Никон не далеко от строившейся церкви поставил другую деревянную церковь св. Троицы (в которую, как это необходимо думать, были вынесены на время стройки и мощи преп. Сергия). Эта последняя церковь не была разобрана, а осталась стоять и по окончании каменной и в 1476 г. также была заменена каменною (а в 1559 г. построена на ее месте новая каменная церковь в честь Сошествия Св. Духа). В 1512 г. были построены в монастырской ограде каменные святые врата с церковию над ними во имя преп. Сергия. В малолетство Ивана Васильевича Грозного, в продолжение 1540—1550 годов, построены были нынешние стены монастыря, имеющие в окружности более версты (по описи монастыря времен царя Михаила Федоровича – 551 ½ сажен) и для своего времени составлявшие знаменитое крепостное сооружение [126]. После того как на соборе 1547 г. был торжественно причислен к лику святых преемник преп. Сергия на игуменстве преп. Никон, была построена каменная церковь над его мощами (положенными и находящимися у самой южной стены Троицкого собора, прямо против мощей преп. Сергия в самом соборе; нынешняя церковь преп. Никона есть вновь построенная при царе Михаиле Федоровиче). До 1557 г. келлии монашеские, – все еще деревянные [127], продолжали стоять, как это было и при преп. Сергии, кругом – вместо одной бывшей при нем церкви – трех тогда существовавших церквей и более или менее близко к ним: в нашем году они отнесены были от церквей ко вновь построенным монастырским стенам.
Преп. Сергий был первым водителем у нас общежития, но еще не совсем строгого (в монастыре его племянника монахи владеют собственностию). Он не находил возможности объявить войну закоренелым привычкам людей и сразу их перевернуть. Преп. Кирилл был совершеннейшим представителем монашества (строгого общежития), на которого люди избранные взирали как на образ.
Преп. Кирилл Белозерский [128] родился в Москве, в 1337 г. или около него [129], от неизвестного по имени служилого великокняжеского человека, не особенно, как кажется, большого [130], но находившегося в родстве с весьма знатными боярскими семействами; при крещении он получил имя Космы. Достигнув двадцати-двадцатипятлетней юности, Косма лишился родителей и поступил в дом к боярину Тимофею Васильевичу Вельяминову, одному из знатнейших бояр Дмитрия Ивановича Донского [131], которому родители его пред своей смертью отдали в опеку, как своему родственнику. За добрый нрав, безукоризненное поведение и усердную набожность боярин весьма полюбил взятого им к себе в дом сироту-родственника и когда он – Косма достиг возраста совершенного мужества приблизил его к себе, как равного, сподобил его «и седания на трапезе с собою», а потом сделал его и казначеем своего имения, т.-е. своим вотчинным управляющим или дворецким. Жизнеописатель преп. Кирилла представляет дело так, что первую мысль о пострижении в монашество подала ему смерть родителей. Но должно думать, что такое представление дела несогласно с действительностью. Еще при жизни родителей и за несколько лет до их смерти Косма достиг юношеского возраста, который в XIV веке был времен для вступления [в] брак юношей и того «благородного» сословия, к которому он принадлежал: и однако он не вступил в брак. А это показывает, что еще при жизни родителей, если не принял он положительного намерения постричься в монашество, то колебался над решением вопроса: какую ему жизнь избрать, – семейную ли мирскую или же монашескую. Вообще, необходимо думать, что Косма, наделенный природным расположением к монашеству и природными монашескими наклонностями, начал помышлять о первом тотчас же, как достиг возраста, в котором стал в состоянии помышлять о чем бы то ни было. Что касается до смерти родителей, то она была причиною, что весьма долгое время он не мог привести в исполнение своего намерения постричься в монашество. Боярин Тимофей Васильевич Вельяминов, к которому Косма поступил в дом, лишившись родителей, потому ли, что весьма полюбил его или по чему-либо другому, решительно не хотел дать ему свое согласие на принятие монашества, а что касается до того, чтобы быть пострижену без согласия боярина, то Косма не находил монаха, который бы отважился сделать это. Таким образом, в продолжение очень многих лет после смерти родителей, не менее как пятнадцати, Косма принужден был оставаться мирским человекам, быв монахом только в своих мыслях и стараясь быть им только в своем поведении [132]. Наконец, после очень многих лет иночествования тайного, в одежде мирянина, Косма дождался монаха, который имел мужество сделать увенчавшуюся успехом попытку сотворить его иноком явным и настоящим. Однажды пришел к Тимофею Васильевичу преп. Стефан Махрищский, весьма уважавшийся им, как и всеми. Косма, вероятно – хорошо по слухам знавший Стефана и имевший основания предполагать в нем особое мужество, припал к нему с слезною и неотступною просьбою постричь его в монашество. Видя горячую искренность желания Космы и провидя в нем избранный сосуд Божий, Стефан решился сделать попытку исполнить его желание. Если сказать о желании Космы боярину, рассуждал Стефан, то он не попустит, чтобы желание было исполнено; если просить его, то он не послушает, – и он (Стефан) «умыслил» поступить иначе, а именно – дать Косме новое имя Кирилл и, не постригая его в монахи, только возложить на него монашеские одежды, с тем, чтобы возвестить боярину о совершенном будто бы пострижении и чтобы в случае его непротиворечия сделанному будто бы делу тотчас же действительно постричь, а в случае его крайнего гнева и требования расстрижения просто снять с мнимо постриженного монашеские одежды. Поступив таким образом, Стефан пошел к боярину; когда боярин, поклонившись ему, просил у него благословения, от отвечал: «благословляет вас богомолец ваш Кирилл»; на вопрос боярина: «кто такой Кирилл», он отвечал: «Косма, бывший ваш слуга, а ныне ставший монахом»; когда вспыхнувший от гнева боярин начал говорить ему «некая досадительная», т.-е. вероятно – ругать этих вербовщиков в монашество, к которым он причислил его – Стефана, последний, объяснявшийся с боярином стоя, сослался на повеление Спасителя: «идеже аще приемлют вас и послушают, ту пребывайте, а идеже не приемлют вас, ниже послушают, исходящее оттуду и прах их, прилепший ног ваших отрясете пред ними в свидетельство им», и поспешил оставить его – боярина дом; но жена боярина, по имени Ирина, женщина благочестивая и богобоязненная, устрашаясь произнесенных Стефаном слов Спасителя, начала увещевать мужа относительно того, что он оскорбил такого святого мужа и скоро успела достигнуть того, чтобы боярин пожелал примириться с Стефаном: последний был призван; боярин испросил у него прощения, а он в свою очередь испросил прощения у боярина, и Косме предоставлено было исполнить его желание – постричься в монахи. Со страхом и нетерпением ожидавший исхода дела и бесконечно обрадованный благополучным его исходом, Козьма поспешил раздать убогим совершенно все свое имение и остался наг, после чего отведен был Стефаном в Симонов монастырь к его основателю – игумену Феодору, которым и пострижен был в монахи с прежде данным ему именем Кирилла. Пострижение Козьмы-Кирилла имело место не ранее 1380 г., когда ему было не менее 43-х лет от роду [133]. Хотя Кирилл принял монашество в возрасте не юношеском, а зрелом мужеском, но в то время было у нас, в след за Грециею, если не всеобщим, то весьма распространенным обычаем, чтобы новопостригаемые монахи были отдаваемы в духовное руководство, как ученики старцам, пожилым и опытным монахам, – и Кирилл отдан был игуменом Феодором в духовное руководство монаху Михаилу, который потом поставлен был в епископы Смоленские.
Старец Кирилла был муж, проходивший великое по Боге житие, упражнявшийся в молитвах, посте, бдениях и всяком воздержании, – и Кирилл, предавший себя в полное ему повиновение и возревновавший его доброму житию: смотря на его протяженные молитвы, на безгневие и любомудрие и на безмерные труды, вознаграждая за потерянное время, старался все то исправить сам; и таким образом во всем повиновался (и подражал) старцу: пост вменял в пресыщение, зимний холод, от которого не хотел защищаться одеждой вменял себе в теплоту, томил плоть свою всяким воздержанием, а сна принимал только мало нечто, и то не лежа, а сидя. Он просил было у старца дозволения есть не каждый день, а принимать пищу через два и через три дня; но старец не дозволил ему этого и повелел есть хлеб с братиями, только не до сытости. Читая по ночам псалтырь, старец приказывал Кириллу класть поклоны и очень не редка это чтение псалтыри одним и полагание поклонов другим продолжалось (через всю ночь?) до самого ударения к заутрене. На все церковные службы Кирилл старался приходить в церковь первым. Во время своих первых монашеских подвигов под руководством старца Кирилл подвергался искушениям от бесов: когда во время исправления или обоими ночного правила Михаил выходил из кельи, то бесы являлись Кириллу в разных странных и страшных образах и пытались ужасать его; а иногда и во время нахождения в келье Михаила, производили вне ее как бы некоторый гром (тутец) и ударяли в ее стену. От всех искушений бесовских Кирилл ограждал себя и освобождался призыванием имени Иисусова, знамением креста и молитвою. Пробыв в научении великого подвижника время немалое, он постоянно вел себя так, что как будто во все время старался вовсе не иметь своей воли, а только одно безрассудительное послушание. После начального учения в подвигах монашеских под руководством старца, каковое учение, вероятно, окончилось вместе с тем, как Михаил был избран в епископы Смоленские, что имело место в конце 1383 – начале 1384 г., Кирилл, по приказанию игумена Феодора, назначен был на послушание служить в хлебной (сам захотел на такое низкое и трудное послушание; если бы не захотел, то не был бы послан). Здесь он носил воду для квашен, рубил дрова и приносил хлебы из хлебной в трапезу. В то же время со всею ревностию упражнялся и в подвигах монашеских: нередко простаивал на молитве по целым ночам, пищи принимал не более того, что совсем не упасть («не свалиться») от голода, а иногда ел лишь столько, чтобы не дать заметить своего поста братиям; пил исключительно одну [воду], и ту не более, как для утоления жажды; вообще старался быть врагом немилостивым своей плоти, поминая апостольское слов, что егда телом немощствую, тогда духом силен есмь [2 Коринф. XII, 10].
Своими ревностнейшими и суровейшими подвигами, начатыми с первой минуты пострижения, преп. Кирилл успел в весьма непродолжительное время столько прославиться, что успел приобрести исключительное уважение такого светильника между монахами, как преп. Сергий Радонежский. Приходя в Симонов монастырь, для посещения своего племянника с его братией, преп. Сергий делал так, что не идя к игумену, прямо отправлялся в хлебную к преп. Кириллу, дыбы вести с ним продолжительную беседу о пользе душевной, так что игумен с братией должны были приходить сюда – в хлебную для первого приветствия своего высокого посетителя. Проведши на послушании в хлебной не малое время, преп. Кирилл послан был игуменом на новое послушание в поварню. Продолжая с исполнением нового послушания упражнение в прежних подвигах, преп. Кирилл достиг теперь состояния слезной сокрушенности (если можно так выразиться): жарясь огнем поварни, он говорил себе: «терпи, Кирилл, этот огонь, чтобы сим огнем мог избежать тамошнего огня», – и получил от Бога такое умиление, что не мог вкушать без слез самого хлеба и сказать одного слова. Слава преп. Кирилла, как подвижника, до того наконец возросла, что он решился сокрыть добродетель, которую имел под видом юродства и начал творить «некая, подобна глумлению и смеху». За это подобное глумлению и смеху игумен начал наказывать его эпитимией поста о хлебе и воде, – иногда сорокадневного, иногда более продолжительного. Преп. Кирилл с радостию исполнял возлагавшиеся на него эпитимии, так как они составляли то, чего он именно желал, и вел себя так, чтобы получать все более и более продолжительные, дабы об его добровольном посте думали как о посте невольном; это продолжалось до тех пор, пока игумен не узнал, с какою целию он ищет эпитимий. В поварне преп. Кирилл должен был подвизаться на людях, и ему пришел помысл уйти в келью, чтобы подвизаться уединенно и стяжать большее умиление. С просьбой об этом он не обратился к игумену, а к Божией Матери, на которую возлагал все свое упование и которой вверял себя со всеми своими помыслами, – и Божия Матерь устроила так, как он желал: игумен захотел написать одну книгу и возложил это дело на Кирилла, для чего он должен был пойти в келлию. В келлии он проводил дни в писании книги, а большую часть ночей в коленопреклоненных молитвах. Против своего ожидания преподобный не имел в келье такого умиления, как в поварне; поэтому, он снова начал просить Божию Матерь, чтобы она возвратила его в поварню, что она и сделала, внушив мысль об этом игумену. На послушании в поварне, считая и с хлебной, преп. Кирилл провел 9-ть лет, и все это продолжительное время было времен злого добровольного страдания, ибо в то время он вовсе не хотел надевать овчинной одежи (носить шубного), в следствие чего было так, что днем он жарился у огня, а ночью мерз от холода. После [13] -летнего приблизительно монашествования преп. Кирилл посвящен был во священники или иеромонахи. Исправляя недельную череду служения вместе с прочими священниками или иеромонахами монастыря, в свободные от службы недели он по прежнему исполнял послушание в поварне. Проведши так довольно значительное время, он начал было безмолвствовать в келье, но основатель и архимандрит (в позденейшее время настоятельства) Симонова монастыря Феодор поставлен был в епископы Ростовские, – это было [в 1387-м году] и на место Феодора был поставлен в архимандриты монастыря он – Кирилл. Не оставляя своих подвигов, со всем усердием начал было проходить преп. Кирилл должность архимандрита: старательно управлял дела монастырские, ко всем братиям – большим и малым относился с одинаковой любовию, всем показывал собою пример смирения; но из весьма близкой к монастырю Москвы топами устремились к прославленному подвигами архимандриту, ища у него душевной пользы, князья и вельможи. Преп. Кирилл увидел, что в сане архимандрита невозможно соблюдать безмолвия и решил отказаться от настоятельства и удалиться в келью. Но пробыв [не] сколько времени в келье, он вовсе не избавился от многочисленных не только из Москвы, но и из всех мест, посетителей, искавших у него душевной пользы; между тем назначенный на его место в архимандриты Симоновские некий Сергий Азаков, видя, как к нему – преподобному стекаются отовсюду толпы посетителей, а он – архимандрит остается как бы в презрении, воспылал против него сильною ненавистию. Тогда преподобный, {не} давая место злу, оставил Феодоров Симоновский монастырь, в котором постригся и столь продолжительное время подвизался, и перешел в другой монастырь, находившийся на Симоновом, который построен был ранее Феодорова и который назывался по отношению к нему древним или старым. Но так как и здесь безмолвствовать было так же неудобно, как и в монастыре Феодоровом, то, выселившись сюда на время, преподобный начал помышлять о таком месте, где бы он действительно мог уединиться от мира для своего подвига. Мысли его привлекал к себе пустынный Белозерский край. Божия Матерь, водительству которой он во всем вверял себя, действительно указала ему в чудесном видении на этот край, как на страну, в которую он должен идти. В то время, как он занимался разведываниями о желаемом для него месте, возвратился из Белозерья сопостриженник его в Феодоровом монастыре монах Ферапонт и на его вопрос: есть ли в Белозерьи места, удобные для уединенного безмолвия, отвечал, что есть весьма многие. Тогда преп. Кирилл, после многолетних подвигов в Москве и имея 60 лет от роду, решился идти в Белозерье, при чем изъявил желание быть его спутником сейчас помянутый Ферапонт [134]. Пришед в Белозерье, Кирилл с Ферапонтом начали искать места, какое им было желательно. Долго их поиски были напрасны, ибо ни в одном из многих, виденных мест Кирилл не узнавал того места, которое было показано ему в чудесном видении. Наконец пришли на то место, на котором был поставлен преп. Кириллом его монастырь; увидав его, он тотчас узнал в нем место, показанное ему в видении, и с словами: «зде покой мой в век века, зде вселюся, яко Пречистая изволи его», остановился в нем. Место это находилось в 37 верстах на юговосток от города Белозерска (нынешнего), на северном берегу озера Сиверского, при впадении в него речки Копани или Свияги, и не в дальнем расстоянии от других двух озер – Долгого и Лунского или Бабьего (в настоящее время монастырь находится в городе Кириллове, – уездном Новгородской губернии, который в 1776 г. был образован из подмонастырной слободы). Поставив на месте сень или палатку, Кирилл и Ферапонт начали копать келью в земле; но так как они были несогласны обычаями и Ферапонт не чувствовал в себе готовности к тому тесному и жестокому житию, которого искал Кирилл, то прежде чем было приготовлено постоянное жилище, первый оставил последнего, чтобы не в дальнем расстоянии от него поселиться отдельно (основанный преп. Ферапонтом монастырь, называвшийся по его имени Ферапонтовым, находился в 15 верстах к северу от Кириллова, при озере Бородавском, – по Пахомию – Паском; монастырь закрыт в 1798 г. и в настоящее время остается на его месте его бывшая подмонастырная слобода, известная под именем Ферапонтовой слободы). Поселившись в выкопанной в земле келье, преп. Кирилл начал упражняться в том подвиге, для которого пришел в Белозерскую пустыню. Но диавол, увидевший, что он будет прогнан от места, делал было попытки заставить удалиться самого преподобного. Один раз последний обходил с двумя жившими не в дальнем расстоянии от его кельи и посещавшими его крестьянами окружавшую его жилище местность; вдруг напала на него такая сонливость, что он не мог стоять на ногах и тотчас же должен был прилечь; во сне он услышал громкий голос: «беги, Кирилл», и едва он пробудившись отскочил от места, как на него, и именно – как раз поперек его, упало огромное дерево: познав наветование вражие, преподобный начал молиться Божией Матери, чтобы она отняла от него сон, и молитва его настолько была услышана, что он стал в состоянии проводить без сна многие дни и ночи. Место, выбранное Кириллом для жительства, представляло большой бор и чащу, так что он должен был расчищать его; когда, расчистив его, он собрал сучки от срубленных деревьев (хворост) в кучи и когда он зажег последние, то диавол вдруг напустил такой ветер, что он очутился среди огня; но ему явился некто в образе его опекуна боярина Тимофея Васильевича и с словами: «иди за мной» вывел его из огня невредимым. В непродолжительном времени, после того как преп. Кирилл поселился на своем месте жительства пришли к нему из Симонова монастыря два брата (один по имени Зеведей, другой Дионисий), которые, быв единомыслены ему, желали сожительствовать с ним и по мере сил подражать его высокому примеру: преподобный, весьма обрадовавшись их прибытию, принял их с великою любовию. Вскоре начали приходить к нему и другие, желавшие постричься в монашество и быть его учениками, а также пришло и еще несколько братий из Симонова монастыря, и таким образом около его (Кирилла) кельи в непродолжительном времени после его поселения на месте составилась монашеская община. Появление в известных местностях монастырей и монашеских общин весьма не редко возбуждало в местных жителях чувство вражды к ним, ибо у последних являлось опасение, что монастыри постараются захватить в свою власть окрестные земли. Чувство подобной вражды возбудил и преп. Кирилл в одном из местных жителей, (по имени Андрее, – вероятно помещике, который опасался как бы его поместные земли не были отданы в собственность Кириллу) и он решился было сжечь преподобного в его келье; но его многократные попытки сделать это постоянно оканчивались неудачей, при чем ясно было непосредственное вмешательство промысла Божия, бдевшего над преподобным, и злоумыслитель пришел наконец в сознание и очистил свою совесть искренним раскаянием перед последним (спустя некоторое время он принял монашество в монастыре Кирилловом). Собравшееся около преп. Кирилла братство имело нужду в церкви для молитвы, и братия обратилась к нему с просьбой о построении церкви; но место удалено было от человеческих жилищ и трудно было достать плотников; тогда преп. Кирилл обратился с усердной молитвой к Божией Матери, на которую возлагал свое упование, и Она – нарочитая покровительница (патронесса) преподобного устроила так, что плотники пришил и незваные: они построили церковь во имя Успения Божией Матери. Когда пронеслась в окрестной стране весть, что Кирилл строит монастырь, то между жителями ее распространилось убеждение, что он принес с собой из Москвы многое богатство, каковое убеждение еще более утвердилось, когда узнали, что в Москве он был архимандритом Симонова монастыря. Один из местных жителей, некий боярин, по имени Феодор, желая овладеть мнимым богатством преп. Кирилла, наслал на него разбойников (как должно подразумевать, вошед с последними в сделку относительно дележа добычи); но разбойники, приходив под монастырь по одну ночь и по другую, в оба раза видели кругом его множество людей, часть которых была вооружена луками; думая, что приехал в монастырь какой-нибудь вельможа для молитвы (и что разбойниками была видена его свита), боярин послал в него справиться; но ему принесено было известие, что в монастыре никого не было уже более недели; тогда он пришел в чувство (поняв, что разбойниками были видены охранители монастыря не обыкновенные) и, страшась казни Божией за свой умысел на святого мужа, поспешил к преподобному, чтобы принести ему искреннее покаяние; а преподобный, простив и поучив его, сказал ему: «уверяю тебя, чадо Феодор, что я ничего не имею, кроме этой одежды, которую видишь на мен, и небольшого количества книг»; с тех пор Феодор начал иметь великую веру к преподобному, почитая его не столько как человека, сколько за ангела Божия.
Собравшаяся около кельи преп. Кирилла монашеская община, после того, как была построена для нее церковь, превратилась в настоящий монастырь. И преп. Кирилл немедленно озаботился тем, чтобы благоустроить свой монастырь посредством введения в нем определенного, имевшего быть строго соблюдаемым, монастырского или монашеского устава. Он не начертал своего устава письменно, а прямо ввел его на практике или на деле, и мы знаем его (устава) подробности лишь настолько, насколько сообщает их его (Кирилла) жизнеописатель [135]. У последнего читаем об этих подробностях устава отчасти как передачу предписаний, отчасти как передачу бывшей действительности: «Было узаконение блаженного Кирилла, чтобы в церкви (на службах) никому ни с кем не разговаривать и никому не исходить из церкви прежде окончания (служб), но всякому пребывать на (церковных) славословиях в своем установленном чине (при отправлении своих, назначенных, обязанностей); также чтобы к евангелию и святым иконам (для целования) подходили соблюдая старшинство, дабы не происходило (при сем) беспорядка. Также и в трапезу исходили (из церкви) по старшинству и по местам (какие занимали за ее столами); в трапезе все сидели по своим местам и молчали, так что никого (из них) не было слышно, кроме одного чтеца; братиям всегда бывали три кушанья (а сам два кушанья), кроме постных дней, когда (поется) аллилуйя (и когда полагалось по два кушанья?); вставая от трапезы, отходили в свои кельи, в молчании благодаря Бога и не уклоняясь на какие-нибудь беседы и не заходя по дороге из трапезы в чужие кельи, кроме великой какой-нибудь нужды. Однажды случилось одному из учеников преподобного, по имени Мартиниану, зайти от трапезы к одному брату некоторой ради нужды; когда увидел его святой, что он уклонился к чужой кельи, призвал его к себе и спросил: куда он шел; когда этот отвечал, что имел дело до брата и потому хотел идти к нему, то святой, как бы укоряя его, сказал: «так ли сохраняешь ты чин монастыря, не мог ли ты пойти сначала в свою келью и совершить должное молитвословие, а потом, если было нужно тебе, пойти к брату»; когда Мартиниан улыбаясь сказал: «если бы я пришел в келью, то не мог бы выйти из ней (потому что, – как должно подразумевать, – это было запрещено), то святой сказал: «так делай всегда, – сперва (прямо) иди в келью, келья (уединенное размышление в келье о монашеских обязанностях) всему научит тебя (т.-е. научит между прочим и тому, чтобы не иметь дел до братьев и поэтому не видеть нужды ходить к ним в кельи). – Был же такой обычай: если кто-нибудь присылал к какому-нибудь брату письмо или гостинец («поминок»), то письмо, не распечатывая, приносили к святому, также и гостинец; равным образом, если кто-нибудь из братий хотел написать куда нибудь письмо, то без отчего разрешения не смел посылать. Монахам не дозволял иметь по кельям ничего собственного и ничего не звать своим, но все иметь, по апостолу, общее, «яко да сего ради не раби будем тем, ихже нарицаем» (? – отрицаемся при пострижении), а серебро и золото совершенно в братии и не именовалось, кроме монастырской казны, из которой получали все, что было потребно. Если кто чувствовал жажду, то шел в трапезу и там с благословением утолял ее; хлеба же или воды или другого чего такового (ни у кого) в келье ни под каким видом не обреталось, за исключением воды для умывания рук, и если случалось, что кто-нибудь приходил в келью к кому-нибудь из братий, то ничего не видел в кельи кроме икон и книг. Таким образом (братия) свободны были от всего (от всяких забот), имея одно только попечение, чтобы превосходить друг друга любовию и смирением и как можно ранее приходить (в церковь) на пение. Также и на работы монастырские, если какие когда случались, отходили со страхом Божиим и совершали их, работая не как человекам, но как Богу или как бы стоя пред Богом, и не было между ними празднословия или разузнавания и пересказывания мирских вестей, но каждый из них в молчании соблюдал свое любомудрие, а если кто хотел и говорить, то ничего иного, как (что либо) от Писания на пользу прочим братиям, в особенности не знающим Писания. Что касается до уряжения («устроения») их жизни (относительно монашеских подвигов), то оно было весьма различно, ибо блаженный каждому из братий (смотря по его нравственным силам и душевным расположениям) давал «образ и меру правилом». Те из братий, которые умели какое-нибудь рукоделье, делая что-нибудь, относили в казну, себе же никто ничего не делал без благословения, ибо, как мы сказали выше, все имели из казны, – одежду и обувь и прочее, что относится к телесной потребности. Сам преподобный отнюдь не терпел видеть на себе какую-нибудь красоту одежную (в одеже), но ходил просто в одеянии разодранном и многошвенном (многозаплатанном). Молил всех и запрещал всем, отнюдь не иметь своего мудрования и быть готовым ко всякому послушанию, дабы таким образом плод приносился Богу, а не своей воле последовали. – Был у блаженного Кирилла и такой обычай: по окончании утреннего славословия и по совершении своего обычного правила приходил в поварню, чтобы посмотреть, какое будет утешение братии, и молил блаженный служителей, чтобы сколько возможно старались делать к братскому упокоению, иногда же и сам помогал им своими руками к учреждению братий, и таким образом всячески старался об упокоении братии. Что касается до меду или другого (хмельного) пития, от которых пьянство (которые производят опьянение), то отнюдь не повелевал быть в монастыре, и таким образом посредством этого устава блаженный отрезал Змиеву главу пьянства и совершенно исторг его корень, и уставил, чтобы не только при его жизни не было в монастыре меду или другого пьянственного питья, но и особенно по его преставлении. Когда случались в монастыре какие-нибудь недостатки, а братия просили святого послать к каким-нибудь христолюбцам, чтобы просить у них нужного братиям: то он не допускал этого, говоря: если Бог и Пречистая забудут нас на месте сем, то напрасно мы и живем (потому, очевидно, живем недостойным образом), и таким образом утешал братий и учил их не просить милостыни у мирских. – Был у святого ученик по имени Антоний, великий по Боге житием и рассуждением в иноческих и в мирских: его посылал блаженный Кирилл однажды в году купить, что было нужно к телесной потребе братиям, т.-е. одежу, обувь, масло и прочее, и потом уже из монастыря не исходили, если только не случалось какой-нибудь нужды; если же кто из мирских присылал милостыню, то принимали ее, как посланное от Бога, благодаря Бога и пречистую Его Матерь. – Однажды пришла (в монастырь) княгиня благочестивого князя Андрея (Дмитриевича), по имени Аграфена, в области супруга которой было то место, где теперь монастырь; будучи весьма благочестива и милостива и имея великую веру к иноческому чину, а в особенности к блаженному Кириллу, она хотела учредить братию рыбным столом; но святой не повелел есть рыбы, потому что был великий пост; княгиня, как благочестивая, молила его, чтобы позволил братии есть рыбу, но он никак не дозволил этого, говоря: если я сделаю это сам, то буду разоритель монастырского устава, по сказанному: еже созидаю, сия сам и разоряю; начнут и после моей смерти говорить: сам Кирилл повелел в пост есть рыбы; это делал святой, – прибавляет от себя жизнеописатель, – чтобы никоим образом не разорился монастырский обычай, а особенно уставленное святыми отцами [136].
Устав общежительный, требующий для своего введения многих так сказать приспособлений: постройки зданий (поварни, хлебной, трапезы, келарской, рухлядной, житницы) и устроения способов снабжения братии пищей, одеждой и обувью, не мог быть введен вдруг, а только в течение более или менее продолжительного [времени]. А поэтому и историю введения этого устава преп. Кириллом в его монастыре должно представлять так, что он немедленно по образовании монастыря приступил к введению в последнем нашего устава лишь настолько, насколько это он (устав) позволял (заведение ежедневного богослужения, предписание правил относительно поведения братии) и что совершенно ввел он его не скорее, как в продолжение лет пяти-шести.
Мы видели выше, что говорит жизнеописатель преп. Кирилла о способе приобретения им необходимых для братии жизненных потребностей, именно – что один раз в году он посылал одного из братий закупать одежду, обувь, масло и прочее. Странно, что жизнеописатель не говорит прямо о хлебе, который составлял главную жизненную потребность. Это как будто заставляет предполагать, что для получения хлеба преп. Кирилл вел с своей братией собственное хлебопашество (если только не предполагать, что хлеб доставляем был ему натурою его окрестными почитателями). Преп. Кирилл вовсе не имел собственных денег, и поэтому в том или другом размере приобретал он жизненные потребности посредством покупки, он покупал их на деньги, которые получал от своих почитателей и вообще от благотворителей или иначе, – что денежная милостыня почитателей и благотворителей была одним из главных средств содержания преп. Кирилла с его братией. Составляет весьма недоуменный и весьма не легко разрешимый вопрос то, что читается у жизнеописателя преп. Кирилла о нехотении последнего приобретать монастырю села или вотчины. «Один боярин, по имени Роман Иванович, – рассказывает жизнеописатель, – имея великую [веру] к пречистой Богоматери и Ее угоднику Кириллу, давал в монастырь всякий год по 50 мер хлеба; потом он надумал совсем отдать монастырю в полное владение то село, хлеб с которого доставлял ему, и послал святому грамоту на село; святой, получив грамоту, начал размышлять в себе: если захочем владеть селами, то будут у нас заботы, могущие нарушить безмолвие братии и из нас самих должны будут быть посельские и распорядители («рядники»: нарядчики), но лучше жить так, без сел, ибо душа одного брата дороже всякого имения; поэтому отослал грамоту назад к боярину и с нею отправил к нему свое послание, в котором писал: «изволилось тебе, человече Божий, дать село к монастырю – дому Пречистыя для пропитания братии; но – теперь даешь ты по 50 мер хлеба, давай, если хочешь, по 100 мер братиям, и этим мы будем довольны; селами же своими владей сам, ибо оне ни потребны ни полезны братии» [137]. – «Один боярин, по имени Даниил Андреевич, – еще рассказывает жизнеописатель, – имея великую веру к пречистой Божией Матери и к блаженному Кириллу, захотел по своей смерти придать село монастырю Пречистой, и пришел некий брат монастыря, по имени Феодосий, и известил святого, что боярин предает по смерти своей село их монастырю, говорил преподобному, чтобы он, если хочет, послал осмотреть, что есть в том селе; но святой не захотел принять села и сказал: я не желаю сел при моей жизни, а после моей смерти, как хотите, так и делаете» [138]. – Таким образом, в сейчас приведенных нами рассказах жизнеописателя положительно утверждается, что преп. Кирилл не принимал сел и что при его жизни монастырь не владел ими. Между тем мы положительным образом и несомненно, из официальных свидетельств, знаем, что преп. Кирилл приобретал села и даже приобрел их значительное количество [139]. Трудность составляет то, как примирить жизнеописателя с опровергающими его и не подлежащими никакому сомнению свидетельствами. Пахомий писал житие преп. Кирилла в самом его монастыре и со слов монахов, которые еще застали его в живых и следовательно которые хорошо должны были знать, приобретал или не приобретал он села; да если бы и не со слов подобных монахов, то в монастыре всегда долженствовало быть известным всем и каждому на основании дарственных и крепостных грамот (купчих крепостей), что преп. Кирилл приобретал села: с какой же стати монахи Кириллова монастыря положительно уверяли Пахомия, что он – преп. Кирилл не приобретал и не принимал сел? В ответ на этот вопрос могут быть сделаны два предположения: или что монахи Кириллова монастыря умышленно, т.е. заведомо ложно или лживо хотели создать преп. Кириллу славу нестяжателя, или что они говорили Пахомию о нестяжательности преп. Кирилла настоящую правду, только эта нестяжательность представлена у последнего, по умышлению ли (так сказать) монахов или его собственному, в форме не совсем соответствующей действительности. Предполагать первое о монахах Кириллова монастыря и именно – еще бывших учениках самого преп. Кирилла мы совершенно не находим возможным и поэтому считаем единственно вероятным второе [140]. Что касается, до этого второго, то должно думать, что преп. Кирилл по своим убеждениям и мыслям был нестяжатель или противник вотчинновладения монастырей, – что если он приобретал монастырю села, то уступая только настоятельным желаниям в сем отношении большинства своей братии и что меньшинство братии Кириллова монастыря, современное Пахомию и державшееся убеждений преп. Кирилла и хотело представить его (Кирилла) в житии на самом деле тем, чем быть он только хотел бы (т.е. нестяжателем). Сомнение в том, действительно ли прилично и полезно и вообще надлежит монастырям {владеть} вотчинами, возбуждено было у нас несколько ранее преп. Кирилла, а в разрешение сомнений даваемы были людьми авторитетными ответы, что совершенно не прилично, не полезно и не надлежит. Преп. Афанасий Высотский, ученик преп. Сергия Радонежского и основатель Серпуховского Высотского монастыря (по просьбе Серпуховского князя Владимира Андреевича Донского) спрашивал митр. Киприана (в [1390—1405 гг.]: как ему быть с селом, которое князь (сейчас помянутый) дал его монастырю, и получил от митрополита [ответ], что крайне хорошо было бы, если бы он, имея твердое упование на Бога относительно пропитания, нашел возможным отказаться от села, ибо пагуба для чернецов владеть селами [141]. Мог быть утвержден преп. Кирилл в своих убеждениях именно ответом Киприана Афанасию; мог он быть утвержден в них помимо Киприана писаниями отеческими; а мог наконец он дойти до них и сам собою, ибо для человека, который способен мыслить самостоятельно, возвышаясь над примерами и данной действительностью, не особенно трудно увидеть и понять, что совершенное отрицание от всего, что в мире, каково есть монашество, и притяжение от мира, наиболее так сказать мирского, его сел и имений, составляет непримиримое противоречие. Если преп. Кирилл поступал не так, как мыслил, то вероятно, что он видел себя к этому вынужденным, – что оставаясь и оставляя свой монастырь при одном средстве содержания – уповании на Бога и на Матерь Божию он опасался иметь слишком ограниченное число учеников и что таким образом он решался как бы пожертвовать собою другим, не возвышавшимся до его убеждений и мыслей. Для чего те современные Пахомию монахи Кириллова монастыря, которые диктовали ему житие преп. Кирилла, хотели представлять последнего нестяжателем не только по убеждениям, но и на самом деле, это не совсем понятно. Во втором из приведенных нами рассказов преп. Кирилл говорит монаху Феодосию: «я при моей жизни не ищу сел, а после моей смерти, делайте, как хотите», и можно было бы подумать, что монахи, диктовавшие Пахомию житие преп. Кирилла, хотели преподать этими словами (как и вообще обоими рассказами) наставление современным себе монастырским властям, слишком усердно заботившимся о приобретении сел: но монастырским властям, которые имели у себя в руках и хранили дарственные грамоты и купчие крепости на села, принятые от дарствователей и приобретенные посредством купли преп. Кириллом, напрасно было бы преподавать наставления. Вероятнее поэтому думать, что представлять дело так, как оно действительно было, т.е. что преп. Кирилл был противником вотчиновладения только по своим убеждениям и мыслям, но не в своем поведении, они считали предосудительным для его памяти, так как в этом случае они могли опасаться, что он будет признан читателями жития за человека слабого, не имевшего сил противиться наклонностям большинства своих монахов. Когда монахи устами Пахомия рассказывают два действительные случая неприятия преп. Кириллом предлагавшихся ему сел, то в виду положительной и несомненной известности нам того, что преп. Кирилл не отказывался от принятия сел, по видимому, надлежит думать, что эти два случая сочинены монахами. Но нам решительно не представляется вероятным думать этого, и мы полагаем, что случаи действительно имели место и только были случаями исключительными: преп. Кирилл мог уклониться от принятия сел именно от упомянутых двух бояр или потому, что опасался стать чрез это в нежелаемую для себя зависимость от них или потому, что считал их дарствователями недостойными.
Итак относительно средств содержания основанного преп. Кириллом монастыря надлежит думать, что в первое время средствами этими были добровольные приношения (милостыни) почитателей преп. Кирилла и вообще благотворителей, усердствовавших к монашеству, а потом вместе с ними и на первом перед ними месте доходы с собственных недвижимых имений. Так как число братий в монастыре у преп. Кирилла было не особенно велико – по вероятной причине, о которой скажем ниже: то надлежит думать, что монастырь не испытывал никакой нужды и в первое время и что потом его средства были более, чем достаточны.
В Белозерской пустыне и в своем Белозерском пустынном монастыре преп. Кирилл прожил 30 лет, пришед в пустыню 60-летним старцем и дожив в ней до глубокой старости 90-летней. В весьма непродолжительное время после его прибытия в пустыню собралась к нему община людей, желавших с ним и под его руководством монашествовать и подвизаться. Эта община скоро превращена была им в настоящий монастырь, а в монастыре он тотчас же начал вводить общежительный [устав]. Таким образом, лет пять-шесть прошло в устроении монастыря, а за тем в продолжение 25-ти он игуменствовал в благоустроенном монастыре.
Игуменство преп. Кирилла должно быть представляемо как ревностнейшее и вседушнейшее руковождение людей по избранному ими исключительному пути в царство небесное. Жизнеописатель преподобного со слов его бывших учеников говорит об его игуменстве: «Общему житию совершитель и всем всяк, по апостолу, быв (-л), да всех приобрящет, да всех спасет, да всех Богови приведет, да со дерзновением речет к Владыце своему: се аз и дети, еже (sic) ми дал еси; всех бо яко отец любяше, о всех печашеся, о всех полезная промышляше и всех яко свой уд миловаше; всех душевныя струпы обязоваше, всех (от) телесных недуг исцеляше, всем от злоб согнитие очищаше, всем любовный пластырь тех вередом прилагаше, всех маслом милования помазоваше; не бяше тогда (в игуменство Кирилла) скорбяща или оскорбляема, аще бо некто и малодушен или ленив, но той собою исправляше, собою образ даяше, и иже нань всуе гневающемуся благоуветлив беяше, и аще кто тому пререковаше, долготерпением и молчанием того к любви привлачаше» [142]
