Мёд для убожества. Бехровия. Том 1
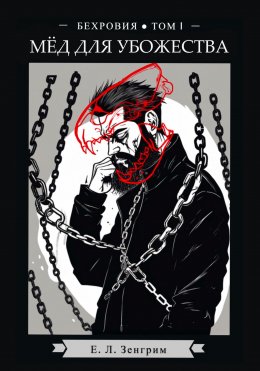
ГЛАВА 1. Маслорельс
Торгаш сказал мне, мол, все дороги ведут в Бехровию. А жрец в храме – что все пути сходятся в преисподней. Тогда-то в головушке сложилось: это не совпадение; Бехровия есть ад на земле!.. И в тот же день я начала убивать.
Хильда «Хлеборезка», осужденная на казнь. Последние слова
Банально прозвучит, но любовь нужна всякому – и всякий ее жаждет. Пусть придется врать и идти по головам, она стоит того. Даже впустить беса в свою черную душу – и то будет малой платой за капельку любви.
Бес уже дремлет внутри, но Бруг пойдет дальше. Особенно Бруг.
Он не станет скрести по сусекам, обхаживая случайных девиц. Он вернет старую любовь – ту, что причиталась ему по праву силы. И наконец-то отомстит.
Потому-то я здесь. Сижу на скамье, пока меня покачивает из стороны в сторону в такт движению вагона. На груди звякают друг о друга звенья цепи, а любимая куртка, вороная и чуть хрустящая, второй кожей обнимает плечи. Она будто сроднилась с телом и подходит ему не хуже, чем смолисто-черная борода – моему лицу.
Говорят, то лицо преступника… но всё куда страшнее.
То лицо Бруга.
– И как, говоришь, эта штука называется? – я прищуриваюсь по-кошачьи, разглядывая плафон, что дрыгается под потолком туда-сюда. – Масло… рельс?
Этот вагон чуточку отличается от остальных. Здесь нет узких полок для спанья, а по коридору не кочуют масел-проводники со скрипучими тележками, нагруженными съестным до отвала. Здесь даже не глушат лампы по ночам. Хоть время и позднее, блики плафона и теперь скачут по лакированным столам и скамейкам. А иногда шаловливо перебегают в сторону и слепят масел-кельнера. Тот чертыхается, с секунду свирепо глядит на плафон – и вот уже снова трет чашки из-под гешира и кавы, лениво-лениво.
– А? Ну да, ну да, маслорельс, – сбивчиво бубнит сосед по столику, отвлекшись от очередной пинты «Светлого республиканского». Вроде, четвертой или пятой? – Говорят, чудо масел-техники, ходит только обратно и туда… Ну, куда мы едем собстно.
Это средних лет мужчинка, одетый прилично. Узкие клетчатые брюки с замявшимися стрелками, не первой свежести рубашка, перехваченная подтяжками крест-накрест. А еще растянутый платок на красной, блестящей от пота шее.
– А построили его кто? – сосед шумно втягивает пену ртом, уставившись на меня поверх кружки. И, почмокав влажными мясистыми губами, отвечает сам. – Гремлины, етить их. Чудо техники, чудо техники… Тьфу, вонючие недолюды! Уж если б не фирма папаши, ноги моей не было в этой, етить, Бехровии… Слышь, Бе-хрен-ровии! Хрен, понял? А-ха!
Он громко хохочет и для весомости хлопает ладонью по столу. Он ожидает бурной реакции и от меня, но я лишь расплываюсь в хитрой ухмылке.
– Не любишь гремлинов, да? – подначиваю его, выплескивая в стакан еще каплю бурбона «Хроки-Доки». Граненое стекло вмиг потеет, как и холодная, из ведра со льдом бутылка. – И почему же?
– А чего их любить, этих земляных червяков? У нас в фирме никогда недолюдий не работало! Ни свинушей, ни гремлинов. Про упырей вонючих вообще молчу! Я, Вильхельм Кибельпотт, презираю всех, етить, до одного! Хвала Двуединому, что тут их садят в отдельный вагон.
– Ха! Вилли-Вилли… Вот ты сидишь со мной за одним столом, платишь за мой бурбон. Мы с тобой болтаем, весело проводим время, – кожаная куртка трещит, когда я склоняюсь над столом. – Да, Вилли, весело же, черт подери?
Вильхельм, помедлив, утвердительно кивает – и еще ослабляет платок на шее.
– Отлично, отлично, Вилли, – треплю его по плечу. – Не забывай: меня зовут Бруг, я – твой друг. Но что если… Что если Бруг – тоже недолюд?
На отекшем лице Вилли – мимолетное замешательство, внутри меня – тайное удовлетворение. Недоверчивый, исподлобья взгляд Кибельпотта раздувает в груди огонек превосходства: есть в его тупом непонимании что-то от жертвы.
Мои губы непроизвольно растягиваются, обнажая крупные зубы.
– Да не заморачивайся, дружище. Я же пошутил!
– Ты, етить, так больше не шути, друг! – по красному виску спадает капля пота. – Я ж это, презираю всех этих упырей.
– Не ты один. Не ты один, Вилли! – одним глотком укладываю стакан бурбона, чуть морщусь от горечи. Бурбон никогда не был мне по вкусу – уж слишком он отдает бочкой. Будто жуешь проспиртованную кору…
Но я не отказываюсь от бурбона, ведь по себе знаю, как легко обидеть собутыльника. А обижать Вилли – последнее, что мне нужно. По крайней мере, пока.
– А пойдем прикончим по папироске, м? – предлагаю. – В этот раз угощает старина Бруг!
Вильхельм облегченно хохочет, подскакаивает с места, спешно собирается. Нетвердыми пальцами пробует развязать узел нашейного платка, но только сильнее его затягивает. В конце концов он раздраженно машет пятерней, допив остатки «Светлого республиканского», и направляется к выходу из вагона-ресторана. А я сую за пазуху недопитый «Хроки-Доки». Бурда, конечно, но кто знает, когда еще мне подвернется питейная?
Свободный нужник находится в конце другого вагона. Это коморка с низким потолком и тесная настолько, что мы с Вилли едва помещаемся. Всему виной умывальник, выпирающий слева, и дыра в полу у дальней стены. Ее металлический обод заляпан человеческой неловкостью, а изнутри оглушительно грохочут колеса маслорельса. Над нужником качается веревка, и рядом с ней табличка: «Дернуть для смыва». Вполне себе миленько, если забыть, что от дыры нещадно несет – нечистотами и кислым, ни на что не похожим запахом масла.
Зато глянешь внутрь – и увидишь проносящиеся мимо булыжники, устилающие дорогу меж рельсами. Я подталкиваю Вилли к нужнику – двигай, мол. А сам задвигаю щеколду на двери.
Так, и где папиросы? В кармане только угловатая бутылка бурбона… Как же она меня раздражает! На, побудь пока в умывальнике.
– Да где…
А вот и картонная пачка – в том же кармане, мятая и расплющенная. Когда я распрямляю ее, на пол сыпется курительный дымлист. Несколько папирос не пережили соседства с «Хроки-Доки».
– Эти две, кажется, еще ничего, – я довольно щурюсь, зажав одну длинную серую папиросу между зубами, а другую протягивая Вилли. – Выменял у какой-то шалавы под Стоцком… Да не бойся, Вилли! Та шалава была не чумная, – почти кричу, чтобы перекрыть лязганье колес под полом. – Видишь красную полоску на бумаге? Полоска, говорю. Да. Такая есть только на стоцких папиросах. А пахнут они… – захожусь кашлем, – дерьмом. Черт, да как же тут пасет!
Кибельпотт долго трет нос, прежде чем ответить. Голос его изменился, стал гнусавым. Видно, он старается больше дышать через рот и теперь говорит с паузами:
– Это еще чего, не сильно-то и воняет… – вдох. – Вот мы с братьями моими, Билли и Гелли, как-то бывали во Мражецкой кумунне… – еще вдох. – Это на границе с Рысарством, где дамба проходит. Там, етить, во-о-от такенный квартал у свинушей… Прям-таки свинарник!
Вилли глуповато гогочет, но тут же кривится, глотнув воздуха с избытком.
– Кхэ, так вот… Ночью мы с братьями, ну, Гелли и Билли, прокрались на двор одной свинушки… И знаешь чего? Ха, да мы сперли у нее свинушонка! Они все спят в бараке, по десять штук, в штанах брезентовых, чтобы грязью и говешками не засрались… – он брезгливо сплевывает в отхожую дыру. – Так мы схватили его – и давай бежать. А он визжит, дрянь, как молочный поросенок! Да и выглядит, и воняет, как простой поросенок – только в штанах, етить.
Вилли передержал папиросу во рту и теперь сдавленно кашляет. Я не перебиваю его. Только выпускаю облачко дыма сквозь недобрую усмешку.
Грудь приятно холодит там, где Цепь скользит под воротом куртки.
– И на костре он тоже визжал как поросенок! Не хотел жариться – дык перебили ноги камнем. И даже пахло от него шкварками, прикидываешь, Бруг? – он уже не в силах остановиться. В глазах Вильхельма Кибельпотта вспыхивает огонек. Я вдруг ясно вижу в нем дряблого пацана, мучающего слепых котят. Ребенка, которого смешивают с грязью даже старшие братья. Который сам потом топит в грязи пищащего звереныша.
А Цепь продолжает ползти – ползет сама по себе – огибая под мышкой плечо; спускаясь в туннель рукава.
Наверное, поначалу Вилли топил котят из чистого любопытства. Мол, а что станет с блохастиком, если вот так? А дольше он может? Ой, как смешно он фыркает, отплевываясь от воды! Но он всё не тонет, не тонет. И чего это он не тонет?!
– Гелли его попробовал на вкус, но тут же стошнился, етить… Так мы запихнули поросе яблоко в рот и бросили во дворе у той же свинушки. Ну, через забор киданули, как стемнело…
Я почему-то вспоминаю отца. Нет, мой отец не из тех, на ком срывались в детстве. Он сам на всех срывался – с младенчества, как хвастал дед, и до сих дней… Последние годы дед уже не хвастал – отец зарубил его в поединке, чтоб занять место барона. Зато все остальные и ныне ползали перед отцом как битые собаки.
А я ползал усерднее всех, ведь и прилетало мне в разы сильнее. Нагайкой. По спине, ребрам и плечам – пуская кровь и сдирая лоскуты кожи. Отец останавливался только в двух случаях. Во-первых, когда уставало запястье – а уж оно у него было натренировано. Да и устань правая – всегда можно поработать левой. А во-вторых… Иной раз он откладывал нагайку от скуки: в чем интерес хлестать кого-то в отключке? Мальчишку, что не стонет, не скулит, не царапает лбом половицы?
Уже и не знаю, сколько раз превращался в половую тряпку. Неживую, скучную. Пропитанную потом и мочой, кровью и отцовским презрением.
– Если б ты только знал, как выла мамка-свиноматка! Вой стоял, етить, на весь свинушник!
Я перехватываю папиросу левой рукой – почти как отец нагайку – и затягиваюсь до отказа. Папироса обжигает пальцы, позади языка стоит горечь. От дыма в горле уже не продохнуть, но я не чувствую облегчения. Курево не отдает в мозг, не слабит колени, как бывает обычно.
А вот колотит меня, будто выгнали голым на мороз. Отец выгнал однажды. И мне не понравилось. Мои губы сжаты, легкие горят, моля о капле свежего воздуха…
Цепь змеей вьется ниже локтя, и первое звено уж гладит ладонь.
И я наконец выдыхаю:
– Обними.
Цепь делает рывок. В глазах меркнет – и сквозь белесую пелену гнева я различаю, как металл стягивает красную шею Вилли Кибельпотта. Мои руки помогают Цепи закончить. Хрипы кажутся мне не громче голоса собственной совести, а она очень молчалива. Шепчет что-то неразборчивое, еле-еле – даже когда тот, кто оплачивал мне выпивку, падает на колени. Он царапает ногтями Цепь, но металлу наплевать. Металл – не нашейный платок.
Во мне нет удивления или сострадания – я, кажется, давно не ощущал ни того, ни другого. Зато ощущаю гнев и боль – и знаком с ними прекрасно. А еще знаком с жаждой любви. Раз меня не полюбят по-хорошему, я возьму своё насильно. И если для того нужно «обнять» пару человек…
Разве кто-нибудь заслуживает любви больше меня? Разве мне хватало объятий? Так думаю я, Бруг, упираясь коленом в спину своего попутчика, пока шея его не хрустит.
И хруст этот звучит… окончательно.
Однажды я услышал от старого безногого контрабандиста занимательную вещь: если смог пролезть куда-то по таз – пролезут и плечи. Дальше, мол, дело техники. Сегодня я узнал вторую половину этой житейской мудрости.
Оказывается, если пинать кого-то достаточно долго – в дыру клозета пролезет даже такой жирдяй, как Вилли Кибельпотт. Хотя вначале его таз упорно не помещался в отверстии, я оказал ему последнюю услугу.
Ведь «Бруг – твой друг» – помнишь, сучий потрох?
Тот безногий контрабандист не поделился, как стал калекой. Но рассказали его дружки: старик застрял в лазе лишь единожды, зато наверняка. Хороший контрабандист – тот, которого сложно найти. А он-то был профессионалом! И когда его тайный ход наконец отыскали, крабы уже обглодали бедолагу до колен.
Вилли тоже совершает свою последнюю вылазку – падение вниз. Сочный шмяк о камни перевала. Хрупанье костей, перемолотых бездушными деталями вагона. Всего мгновение – и последние звуки Кибельпоттова тела тонут в грохоте масел-колес.
«Дерни для смыва!» – напоминает мне табличка. И я послушно подмываю за попутчиком, что вышел по ходу движения.
Но Вилли высадился не в полном порядке. Помимо пары шейных позвонков и содержимого карманов, я лишил его указательного пальца – с безвкусным колечком из фальшивого золота. Такой пухлый палец было трудно откусить, но я справился. И теперь этот трофей отдыхает в пачке из-под стоцких папирос.
Осталось только рот прополоскать… Бурбон подойдет.
Ведь вкус Кибельпотта соответствует его душонке.
– Документы, пожалуйста.
Шинель констебля так же сера, как и его небритое лицо. Глаз не видно под шлемом с кокардой в виде пустой птичьей клетки. У легавых здесь, как погляжу, это любимый символ – он везде: и на касках, и на воротниках с рукавами. Только материал разный. У хмурого, например, клетка из желтой латуни.
– Проходите. Добро пожаловать в Бехровию.
Но в голосе – ни намека на гостеприимство. Выпуская очередного пассажира из вагона, констебль задает шаблонные вопросы и проверяет документы на въезд. Наклоняет по-разному и изламывает страницы, чтобы по буквам прошел блик, потом дотошно трет печати и ищет ошибки в заполнении полей.
Вот у какой-то женщины нашлась опечатка в титуле. Тотчас два других констебля, с клетками поменьше и уже из стали, оттаскивают хнычущую «гфафиню» под руки, гулко стуча сапогами. И я очень сомневаюсь, что они просто выпьют по чашке гешира и посадят дамочку на обратный маслорельс…
Но я – другое дело, так? Всё будет в порядке, Бруг.
А пока просто возьми себя за то самое и надень эти дурацкие перчатки без пальцев…
Успокойся. Не торопись.
– Документы, пожалуйста.
О, вот и моя очередь.
– Держи, дружище, – послушно протягиваю документы в красной обложке – с выдавленным на коже гербом Республики, косым крестом в форме буквы «Х». Констебль неприязненно выпячивает подбородок. Под шлемом не разглядишь, но я-то знаю: он сверлит взглядом скандальный республиканский крест.
– «Вильхельм Хорцетц Кибельпотт», – цедит сквозь зубы «латунный», пробегая по строкам. – Цель визита?
– По работе, кум, – пародирую республиканскую манеру говорить. – Надо уладить пару делишек, етить, в фирме моего папаши.
Констебль проверяет порядок печатей, особые защитные чернила и делает это много дольше, чем прежде… Мне даже кажется, что еще немного – и он нарочно отколупает какую-нибудь букву, а свалит всё на фальшивый документ. И, хотя я не сомневаюсь, что мой пропуск – вернее, пропуск Вилли – подлинный до последней странички, беспокойство не покидает.
И вот констебль закрывает документы. Но возвращать не спешит.
– Последняя формальность, господин Кибельпотт, – он достает из кармана маленькую неброскую шкатулку. – Предъявите отпечаток.
Вилли говорил об этом, и Бруг подготовился. Но под сердцем всё равно тянет от тревоги.
– Чего отпечаток? – я сглатываю, в то время как Цепь подрагивает вокруг моих ребер. Она очень чувствительна к психической энергии, а эта шкатулка, похоже, прямо кишит психикой.
– Отпечаток пальца, господин Кибельпотт. Вас уже считывали в посольстве, когда выдавали этот пропуск, – он трясет красной корочкой у уха.
Ухмыляется, скот. А я-то думал, его хмурую мину ничем не проймешь.
Хочется плюнуть ему на латунную клетку. О да, это будет жутко приятно… но и рискованно. Может, в другой раз.
– А, это… – натягиваю улыбку. – Ну давай, верти уже свою шарманку.
Констебль подкручивает заводное устройство на дне шкатулки, и та раскрывается с подозрительным тарахтением. Внутри – тканая подушечка, пропитанная синей краской, и крошечное зеркальце. Малюсенькое – со спичечный коробок. И такое… мутное, что ли. Как озерная гладь у берега, где ил взбаламутили чьи-то шаги.
Это зеркальце отлито из менталя. Металла, что реагирует на нелюдей.
– Не задерживайте очередь, господин Кибельпотт. Опустите палец на штемпельный валик, потом – на психо-диск.
Честно, я в душе не чаю, что такое «штемпель», но суть понял. Не дурак. Облизываю губы и разминаю руку – ту, которой сейчас потянусь к валику-подушечке.
– Не смажьте чернила, – отзывается констебль. – Если отпечаток не будет похож на тот, что в документах, то…
Сам знаю, что. А вот тебе лучше не знать.
Подушечка должна быть прохладной на ощупь, но я ее не чувствую. А вот палец, напротив, руку холодит. Быстро остывает, зараза. Ну и что там? Кажется, окрасился. Хотя как тут быть уверенным, раз не ощущаешь прикосновения?
Было бы странно, ощущай я им что-то. Палец-то мертвый – ничуть не живее самого Кибельпотта, которому принадлежал. Стараюсь двигаться естественно, как если бы не удерживал обрубок внутри исцарапанной перчатки.
Кусочек настоящего Вилли оставляет на зеркальце темно-синий след. Для меня это просто овальное пятно, но для подошедшего «стального» констебля всё иначе. Под правой бровью у него – странная конструкция из кучи линз и рычажков, и он, зажмурившись невооруженным глазом, суетливо склоняется над шкатулкой.
Дергает рычажки – и линзы тасуются, как игральные карты. Наверное, у их порядка есть смысл, но для меня это сродни колдовству. «Стальной» упорно крутится над запачканным зеркальцем, а потом, вздохнув – над страницей в документе, где тоже есть отпечаток.
Его при жизни делал сам Вилли.
– Совпадают, господин главный инспектор.
Я расплываюсь в довольной улыбке. А ты чего ожидал, господин главный хмурый чёрт?
– Уверен? Проверь еще на психику, а вы, – понижает голос тот, обращаясь ко мне, – еще раз положите палец на психо-диск!
– Это мне снова пачкаться, кум? – скрещиваю руки на груди, суя их под полы куртки. – Сколько можно?
В очереди уже недовольно бухтят. Слышу за спиной цоканье языка, нервное топтание… Кто-то, набравшись смелости, даже повторяет мой вопрос – уже более возмущенно:
– Да сколько можно, господаре?!
Умничка. Эти люди нравятся мне не больше прочих…
– Нет, сразу на психо-диск. Побыстрее!
…но их шумная толкотня бывает полезна. Например, можно успеть спрятать какую-нибудь мелочь.
Скажем, обрубок пальца.
Зеркальце на ощупь – что лёд. Кажется, самую малость передержишь палец, и он прилипнет, как язык к дверной ручке в лютый мороз. Говорят, менталь раскаляется, тронь его упырь или одержимый – и тут уж даже самый крепкий поморщится. А пусть и не подаст виду… Всё равно напрасно. Легаши, может, не самые умные товарищи, но уж запах паленой кожи ни с чем не спутаешь.
Я, к счастью, не упырь. Да и бес надо мной не властен… вроде. Однако и человеком меня назвать с уверенностью нельзя. И как узнать заранее, расплавит тебе кожу или нет, когда даже спросить не у кого? Сложно предсказывать будущее, когда даже решить не можешь окончательно – исключение ты или ошибка.
Я держусь невозмутимо. Разве что щека подрагивает предательски. Чешу ее без желания – но с таким мстительным усилием, словно это она во всем виновата. Она, а не мои расшатанные нервы.
– Ну что, кум, – щека горит в том месте, где ноготь был особенно груб, – теперь-то могу идти?
Латунный констебль не отвечает. Только захлопывает шкатулку досадливо и сует в карман.
Впереди – морёно-деревянный проем, ярко-плафонный и теплый. За ним – бесцветная улица, где пропадают за ограждением редкие пассажиры. Пропадали, пока я не устроил затор… Прибехровье пахнет влажными сумерками. С примесью угольной пыли и кислятины масла. Казалось бы – вот оно, дерзай! Но какое-то трусливое сомнение держит меня за пятки, не давая сойти с места. Будто окоченевшие руки Вилли Кибельпотта проросли сквозь пол, желая вернуть откушенный от них кусочек. У меня нет выбора – маслорельс обратно не пойдет, только дальше и дальше к центральному вокзалу, людному и яркому. Но я должен побыть в тишине. Собрать половинки себя воедино.
В грудь тыкается документ на въезд. Красный, с косым крестом. Это подстегивает – и я срываюсь с места, пропадая в незнакомом городе. Вдогонку мне летят слова констебля, но мысли мои слишком зациклены, чтобы уловить еще и чужие. Последнее, что я помню – низко надвинутый шлем с желтой кокардой и губы, шевелящиеся вслед.
ГЛАВА 2. Прибехровское радушие
Банды – бич любого крупного города, салаги. Но нигде и никогда преступность не была так годно организована, как в Бехровии – великане средь всех людских поселений. Впрочем, и констебли не лыком шиты! Покуда жив наш народ, мы будем рубить и дознавать. Не устанем сажать сволочей в птичьи клетки.
Штепан Хламмель, главный констебль Бехровии.
Речь перед рекрутами
Прибехровье – густое нагромождение безликих зданий. Серые и одинаковые, они коптят небо сотнями труб и кажутся еще серее этим странным вечером, когда у меня окончательно сдают нервы. Башмаки рушат барханы из пыли при каждом шаге – а пыль черна от жженого угля. Чем дальше шагаешь, тем плотнее эта душная дымка облепляет: от клепаных подошв до воротника куртки. Еще крошечка – и ты уже весь состоишь из пыли.
Я вспоминаю других, сошедших здесь – людей рабочего толка. Нескладных мужчин в простой мещанской одежде, мужчин с грубыми лицами; потертых и местами пропитых. И обязательно – с гигантскими тюками вещей откуда-то из Республики. Товары, сырье для артели*, пшено на месяц вперед. Я вспоминаю и женщин, уставших и тусклых. Женщин в сдержанных бурых платьях, скрывающих всё, что есть у них ниже подбородка, – кроме сломанных ногтей и туфель, истертых ходьбой. Волосы в пучок, гостинцы, ладони в мозолях.
Прибехровье – унылое царство смога, где обитают мужчины, похожие на больших жуков, и женщины-мотыльки, что научились сливаться со стенами, грязными от сажи. Они возникают из темноты – всего на секунду – и вмиг рассыпаются в дым и гарь. Прибехровье чадит как отсыревший факел и пахнет не лучше – разве что с факелом отсырели еще и пропотевшие мужицкие тряпки, десяток крыс и старый масел-котел.
Цепь сдавливает ребра – она недовольна. Что не так?
Тут я понимаю, что целую прорву времени просто брожу. Хожу в случайных переулках как неприкаянный, сворачивая по наитию. На плечи налип слой угольной пыли, а ноги увязли в ней же по щиколотки.
Постоялый двор бы. Или пивнушку. Да хоть какую дыру – лишь бы нашелся там свободный угол. Нам с Цепью много не надо: расспросить местных, прикорнуть до утра, – а дальше искать. Искать, рыскать, отыскивать. Ух, клянусь Пра, я переверну этот город вверх дном…
Но найду тебя, мелкая дрянь. Найду, накажу и заберу обратно. И хочешь не хочешь, а будешь со мной.
Пса крев, как же путано в голове, когда делишь ее с бесом! Уймись, грязное отродье.
Итак, нужна крыша над головой. Но как тут разберешь, когда ни вывесок, ни зазывал? Вернее, таблички качаются, но покрыты толстым слоем нагара. И в окнах темно. Кажется, свет умер даже за мутными стеклами уличных фонарей.
Решаю идти по запаху. Останавливаюсь, где шел, и закрываю глаза. Теперь я один большой нос, что решительно старается не замечать ароматов отсыревших крыс и старых масел-котлов. И этот нос чует шлейф чего-то хорошо знакомого.
Спирт!
Мой сосед по черепной коробке довольно гудит. Он – кровожадная тварь, с которой я не желаю иметь ничего общего, но имею общее тело. Впрочем, некоторыми вещами мы грешим оба – например, выпивкой.
Что, отродье, Кибельпоттов бурбон раззадорил твою порочную душонку?
Лицо начинает жечь – пока только в верху лба. Но без спиртного это ненадолго. Чем дальше я крадусь по вязкому следу, тем сильнее жжется. И тем отчетливее становится запах: он утекает в узкую улочку впереди, и я бросаюсь за ним, чтобы поймать за хвост. Но вместо хвоста нащупываю разочарование: спирт пахнет не совсем спиртом, – а чьей-то пьяной глоткой.
Эта глотка хотя бы знает, где надраться. А еще закусывает вяленой пелядью.
Я попадаю в неухоженный дворик. Его убранство – груды скарба, несколько кадок с мутной водой и два скромных птичника – пустующих, но загаженных вусмерть. А посреди всего этого богатства трое мужиков зажимают женщину, настолько уже перемазанную в пыли и саже, что возраст ее можно лишь угадать. Пока я достаю папиросу, мужики заняты своими делами: один заламывает бабе руки за спиной, другой – чертыхаясь, борется с бляшкой на ремне. А третий визгливо хохочет в тени птичника, обнимая крупный металлический цилиндр. Женщина неясных лет лягается бойко – но тот, что с ремнем, и не пытается увернуться. Слишком пьян.
Цепь настороженно елозит под мышкой.
Я чиркаю спичкой, и пламя бьет по глазам – непривычно ярко для Прибехровья. Подкуриваю папиросу с другого конца, затягиваюсь… И лоб потихоньку остывает.
Жаль только, что курева надолго не хватает – облегчение приходит и уходит, как легкая слабость в ногах. А вот боль, раскалывающая лицо напополам, остается. Черт, поторопить их, что ли?
– Ау, насильники, – мой голос чуть ниже от дыма во рту, – вы скоро там? Дело есть.
Меня встречает немая сцена: все трое обернулись ко мне, на их лицах – недоумение, разве что разной степени насыщенности. Меньше всего удивлен тот, что боролся с ремнем – его бритое лицо с перекошенным носом прямо-таки брызжет агрессией:
– А ты чого, херойствовать собрался?
Жертва его пьяного желания даже перестала сопротивляться. Теперь она сверлит меня взглядом, посылая мысленный крик о помощи. Но Бругу плевать.
– Ха, – прыскаю, прежде чем затянуться снова, – я что, похож на доброго рысаря?
– Дык, значица, ты тоже отодрать евойную хочешь? – подхватывает тот, что с цилиндром.
– Вы не поняли, – закатываю глаза. – У меня к вам вопрос, только и всего.
Запыленная женщина пытается закричать, но с губ ее срывается невнятный скулеж.
– И чого ты баклуши бьешь? – бритый подтягивает портки, брякая ремнем, – Чого тебе, показать, в какую тут сторону «к черту»?
– Почти, дружище. Ты скажи-ка мне, где вы так надрались.
– Кто, сука, надрался?!
– А-а-а! – протянул хранитель цилиндра. После папиросы мои зрачки не меняются, как губу ни кусай – вот и лица его не разглядеть. Но голос звучит вполне дружелюбно. – Дык ты успокойся, Яйцо! Молодчик тоже евойного бухла хочет!
– А то, – киваю я.
– Шпала, – обращается тот к высокому парнише, держащему скулящую женщину, – ты помнишь, как рюмочную звать?
– А, ох… А! – видно, нечасто ему дают высказаться. – Рюмочную звать, э-э, «Усы бедного Генриха». Как говорил мой папуля, «лучший самогон по низким ценам». Вот так вот говорил…
А зря не дают. Рожа у него туповата, но память – ничего.
– Пойдете отсюда вдоль тех вот бочек и на выходе свернете направо. А там уже… – Шпала запинается. Глуповато улыбаясь, он тычет длинной, как жердь, рукой в сторону кадок – и совершает роковую ошибку. Женщина, которую, казалось, уже раздавила тяжесть ее положения, бодает Шпалу затылком, угодив под ребра. Шпала задыхается, а баба шмыгает под ним – и давай бежать.
– Шпала, мать твою… – доносится из-за птичника.
– Чого?! – ахает Яйцо. – Лови ее!
Шпала было метнулся вперед – да переходит на шаг, схватившись за брюхо. Яйцо, пошатываясь, добегает аж до поворота, но у конца стены тормозит, кроя сам проулок и ту, кто в нем скрылся, бранью. Только третий так и остался в тени, безучастно сжимая цилиндр.
Я же, затушив папиросу, двигаюсь через двор к «Усам бедного Генриха». Вальяжно проходя мимо Шпалы, хлопаю его по плечу: бывает, мол, не последний раз.
– А ты куда это, евойный ты сын? – дружелюбный малый уже не так дружелюбен.
Яйцо словно протрезвел от этого вопроса:
– Ты! – идет на меня, шаря на поясе. – Это из-за тебя шконка ушла!
– Как говорил мой папуля, – слова долетают откуда-то сверху-сзади, – «съел пирожок – плати должок».
Цепь настырно лезет в рукав куртки.
– Что же, господа насильники, накосячили вы, а виноват дружище Бруг?
– Кто «бруг»? Я «бруг»? – мычит Шпала. – Папуля говорил, «надо в харю бить»!
– Мне по боку, кто виноват. – Яйцо сплевывает под ноги. – Гони грошики, хиба на ремни порежу.
Вспоминаю сцену несостоявшегося надругательства, и меня пробирает хохот.
– Зачем тебе еще ремни? Ты и с одним-то не сладил!
– Ах ты ж погань! – уф, как рассвирепел. Прямо лопнет сейчас.
– Вы бы уносили ноги, дружочки, – выдыхаю я.
Цепь обеспокоенно дрожит. Однако волноваться – не ей. Ведь действие папироски кончается.
– Шпала, держи его!
А жжение возвращается стократно. И это жжение слепит. Лицо горит прямо посередине – тонкой полоской, как это бывает всегда. От темени до подбородка меня пробир-р-рает боль… Которую не описать словами. Как плавится кожа, растекаются кости, а зубы вонзаются в самое мясо головы – не рассказать. Я бы пожелал каждому пройти через это.
Говорят, к боли можно привыкнуть. Хотел бы я улыбнуться своим порванным черепом! Улыбнуться и сказать, что и вправду привык. Но полоса пылает так, будто я сунул башку в циркулярную пилу, а кто-то нажал на рубильник. Жжение теперь не где-то снаружи – оно и под кожей, и везде. Оно уходит вглубь, обжигая гортань и – можно подумать – царапая мозг.
Но потом боль уходит, а зрение возвращается. Я вижу иначе – не только спереди, но и с боков. Мои глаза – два блестящих шара. Ими я вижу испуганную харю Яйца. Теперь я выше – мои позвонки набухли и вытянулись так, что даже Шпала дышит мне в грудь. Но я не высок, а длинен.
Яйцо разевает рот, отчаянно крича. В ладони сверкнуло. Ножик.
– Чого?!
Он делает замах – и я наконец улыбаюсь. Я – чудовище со смолисто-черной шерстью. В р-р-растянутой кожаной куртке на изгибающемся теле, в штанах, обтянувших лапы… Цепь ласково трется о когти, издавая слабое «ценьк-ценьк».
Теперь пасть моя вертикальна, полна кусачих кинжалов и сочится аппетитом.
– Бес!
И тотчас бритый человечек делает замах – отскакиваю к стене. Я быстрее, чем смолисто-черные волоски, срезанные ножом. Я быстрее, чем поднятые в удивлении брови. Быстрее загнанного пульса. Быстрее ж-ж-жизни, которая проносится перед глазами того, кто видит мою потустороннюю грацию.
Изогнут пр-р-ружиной и, упершись в стену, – стреляю собой в человека. Кусок железа втыкается мне в живот, кровь моя серебрится. Но плевать, плевать, плевать! Ведь я вертикально улыбнулся! И проглотил в улыбке бритую харю. Ну же, Яйцо, мы улыбаемся вместе! Ты – костями и плотью меж моих зубов, а я – жадно жуя.
В спине чешутся удары, отвлекая от трапезы. Невеж-ж- жливо.
– Брось! Брось Яйцо! – Шпала прикладывает меня доской по хребту.
Зачем грубить? Это Бруг – груб. А я не он. Я-то могу быть послушным – бросаю Яйцо. Мне не нужен огрызок, этот пустой безголовый футляр из-под насильника.
Разгибаюсь в полный рост – выбиваю доску. Вывихнул? Прости. Цепь – вяжи.
Пока Цепь крутит Шпалу, мне хочется поболтать. Я прошу его напомнить, как пройти к «Усам бедного Генриха». Спр-р-рашиваю, сколько лет той женщине. Интересуюсь, почему он никогда не вспоминает мамулю… Шучу: с недавнего времени у меня нет губ, чтобы говорить.
Поэтому я просто мажу его слюной и кровью, издавая гортанный клекот.
– Папуля! – причитает он. – Папуля, помоги! Папуля!
Приказ Цепи – вязать туже. Так, чтобы захрустели хрящи, а глаза повылазили из орбит… Он похож на колбасу, перетянутую бечевкой.
Я выжму тебя, как половую тряпку. Так выжимал Бруга отец за любую провинность. А когда тебя я выжму, то займусь вашим скромным приятелем… Кстати, а где третий?
– Ну же, ну же, давай…
Всё там же. Копошится в тени птичника. Прячется от большого и страшного.
Я смотрю на Шпалу, но он сделался скучным: больше не трепыхается. Даю знак Цепи, что наигрался, и слышу хруст сломанной шеи.
Третий насильник совсем не обращает внимания. Только дергает свою трубку-железяку. Неуваж-ж-жительно. Может, он молится. Бруг бы молился Пра. Вилли – Двуединому. А я не признаю кумиров и вождей!
Сейчас, хищно крадучись к последней жертве, понимаю, что есть лишь одно божество, которому можно приносить зверье на заклание! И это божество – смолисто-черное.
Одни меня обзывают Нечистым. Богохульный скот. Другие кричат, надрываясь: Хорь Ночи, Хорь Ночи! Но для тебя, пищ-щ-ща, я скоро стану всем! Ну же, повернись ко мн…
«Сплит-сп-ш-ш-ш», – отвечает металлический цилиндр. И последнее, что я вижу перед тем, как валюсь с лап – лицо, освещенное вспышкой.
А после – закольцованное жжение. Жжется, жжется опять! Но не так, как прежде – а будто разъедает бок до пустого места! Впивается в шерсть и плоть, как гигантский спрут, рожденный из кислоты и чистого страдания. Оно бежит по кишкам – и я уже не владею телом. Только мотает меня из стороны в сторону, как змею, укусившую по ошибке собственный хвост. Я чувствую себя гвоздем, а агонию – молотком, что вбивает и вбивает в угольную крошку.
– Жри масло, гадость евонная!
Я замираю. Невыносимо несет паленым мехом и кровью. А еще чем-то очень кислым. Смертью, что ли. Неужели у нее есть запах?
– За парней и Калеку сдохни!
Цепь свернулась под курткой и слабо звенит. Ничего, и не такое проходили.
Хотя каждый раз «умирать» – всё равно что в первый.
ГЛАВА 3. Шенна
Масло есть едкая субстанция, извлекаемая из горных пород в Бехровии и Центварской империи. И, хотя природа масла неизвестна и богопротивна, нельзя забывать, какие возможности оно открывает нашим соперникам. Движущиеся масел-механизмы, запретные орудия – со всем этим придется столкнуться колдунам Республики в случае войны на востоке. Именно потому масло необходимо изучать. Только тогда, после многих месяцев (или даже лет) подготовки, мы сможем гарантировать успех Революции за Бехровскими горами.
Клаус Шпульвиски, доклад на XI Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции
А потом было ничего – сплошное неописуемое ничего, из которого Нечистый не выбрался.
Всё, что осталось от самозваного «божества» – неподвижное тело с прожженной в брюхе дырой. Вполне человеческое, вполне мертвое. Сквозь дыру попыхивает безобразная бурая клякса – волдыри, сварившаяся кровь и кожа узлами. А меж них сочится янтарная жидкость. Красивый цвет. Мой любимый.
– Бр-р, уже сколько раз видел раны от масла, а всё не привыкну… – парнишка ежится, и фонарь в его руке согласно скрипит. – Не, ну ты глянь, какая дырища!
Он не успевает договорить – острый девичий локоть под ребро умеет затыкать. Фонарь ругается несмазанным кольцом.
– Болван! Это всё, что ты заметил? – голос кажется слишком высоким даже для его ровесницы, а тон – чрезмерно презрительным. – И тебя не волнует, что у него череп раскрыт?
Удивленный присвист.
– Иди ты… А я говорил, что с маслом играть – как срать в окно: до добра не доводит!
Смачный шлепок.
– Ай! Да за что, курва!
– За то, что ты такой кретин, Лих! Разве его голова изжарена? И ты не видишь, какой разрез ровный? – она понижает голос до шипения. – Мне стыдно за твоё убожество.
– А мне типа… А мне стыдно, что моя сестра такая стерва!
Глухой тычок – будто ударили по мешку с мукой.
– Эй, стой! Это же лампа мастера Таби!
– И знаешь, где мастер ее найдет сегодня?
– Э-э…
– В твоей заднице, Лих!
Срываясь на металлический крик, фонарь умоляет не драться.
– Эй, вы двое, – прокуренный женский контральто*. – Вы закончили с этим?
– Заканчиваем, мастер, – синхронный запыхавшийся ответ.
– Ну-ну, – вздыхает женщина. – Да уж, интересный случай. Те двое тоже обварены маслом – только полностью. И у одного головы не хватает, ага.
– Ого, а можно глянуть?
– Лучше держи лампу ровно, Лих. Сломаешь – нос откушу.
– Есть, мастер… – фонарь вскрипывает с облегчением, а девчонка довольно улыбается. Наверняка улыбается – и ехиднейше притом.
– А ты, Вилка, записывай, раз твой братец не умеет. Так… – мастер кашляет, вдохнув кислых паров, – тело номер три. Человек, мужчина средних лет: от двадцати пяти до тридцати. Лежит в четырех саженях н-а-а… – щелчок крышки компаса. – На юго-восток от тела номер два, – захлопнулся. – Откуда надо начинать, балбесы?
– Что, Лих, не знаешь, да? Убожество. С ног, мастер Табита!
– В точку. Обувь растянута, окована по подошве. Штаны… Обычные, западного кроя, но не по размеру – больше. Куртка темного цвета… Странная. Никогда не видела, чтобы такое носили: толстая, как военная стеганка; шнуровка лопнула. В нижней левой части живота спиралевидное отверстие. Очевидно, ожог от этой новой запрещенки – маслобоя. Странно, что куртка цела…
– А я говорил: с маслом играть – как…
– Заткнись! – Вилка шипит, открываясь от протокола.
– Да, сынок, заткнись. Сбил, зараза. О чем это я? А, масло еще пузырится – значит, прошло не больше четверти часа. И кровь, чертова куча крови…
– Это из него столько вытекло, мастер?
– У него такое гузно вместо башки, что всё возможно… – хриплый смешок. – Это не записывай, ага? Не знаю, тут под курткой еще ошметки, похоже, потроха и-и-и… Да, кусочек уха. Запиши лучше: «ушной раковины», – так будет по-умному. Но это не от него. Его уши на месте.
Табита недовольно вздыхает, шаркает сапогами по угольной крошке, перебираясь к раздвоенной голове.
– Тип лица – западный. Глаза черные, разрез век нормальный, волосы и борода тоже черные…
– Мастер, я бы сказала, эм, – неуверенно вставляет Вилка, – волосы смолистые.
– Вилка, мать твою, и чем это отличается от черного?
– Ну, это не просто черный, а прямо черный-черный! – заминка, как если бы она кусала губу. – Такой черный, что будто бы блестит… Коты такие еще есть.
– Пф-ф, коты! – вставляет Лих. – Разве типа черный – он не везде черный?
Злобное тихое «заткнись» не пришлось долго ждать.
– Ладно, пиши как хочешь – только б в переводе на табитский это означало «черный», ага? Хм, рана на лице от чего-то режуще-рубящего. Топор или тесак? Не пойму. Края ровные, но почему-то не вижу кости на срезе. Как будто…
Пару секунд слышно лишь скрипы – фонаря на ветру и пера по листу протокола.
– Как будто что? – напоминает девчонка, бросив жевать кончик пера.
– Если у меня еще не поехала крыша, – аккуратно говорит мастер, – рана точно заросла.
Остается только один скрип – волнующий и монотонный – от фонаря. А вот перо не скрипит: Вилка, оторопев, не спешит записывать слова Табиты. Только заносит острие над строчкой для «травм и увечий» – и замирает, не обращая внимания на мелкие капли чернил, марающие протокол.
– Эй, – нарушает молчание Лих, – а вы не слышите? Звук типа. Как будто цепочка какая звенит?
***
Пространство – пульсирующий зал. Он постоянно меняется и не имеет стазиса. Стены – если уместно так их назвать – сокращаются сердечной мышцей. Но делают это неровно, случайно – как орган смертельно больного. И всюду клубится дым. Сочного такого мясного цвета, с вкраплениями то рубиновых пятен, то темных, что гагат. Рубин пробегает всполохами, непослушными крошечными молниями, а гагат – сгущается в клубах, словно силясь задушить всё остальное.
Здесь я не ощущаю себя – никакого чувства «самости». Зажат в этом беспокойном пузыре, а за ним – ничего. Но мы это уже проходили – не раз, не два и даже не… Сколько? Плевать. Я давно перестал считать число наших встреч…
– А ты, Цепь?
Из ниоткуда возникает курульное* кресло. Возникает вдруг – и кажется, было здесь всегда. Кованое потускневшее золото, подпаленный бархат обивки, а на бархате – полуобнаженная дева. Я бы сказал «обнаженная», но грудь и бедра утянуты неброскими стальными звеньями – точь-в-точь такими я душил Вилли. Звенья скрывают ровно столько, чтобы создавать легкую интригу, но не более. Поэтому я говорю «полу», хотя на деле это то еще лукавство.
– Ах, как это на тебя похоже, дорогой! – дева звонко смеется, закидывая ногу на ногу. – Ты никогда не придавал значения нашим рандеву. Как обидно!
Я поднимаю руку и щелкаю пальцами. Меж них появляется сигарета.
– Ты забываешься, Цепь. Ты здесь не гость, и у нас не свиданка двух подростков с потными ладошками.
Дева печально вздыхает и распадается на алый дым. Чтобы в ту же секунду беззвучно появиться у самого моего лица.
– Ах, ты чудовищно неисправим, – когда она машет головой, бронзовые кудри рассыпаются по плечам – таким хрупким, что должны трещать под тяжестью груди. – Давай помогу.
Она прикладывается губами к концу сигареты, томно прикрывает веки – и бумага начинает тлеть. Цепь игриво прыскает, и я вспоминаю, какая у нее нечеловечески идеальная улыбка. Становится немного жаль, что я знаю ее так хорошо.
– Благодарности не жди, бес, – затягиваюсь и выдыхаю горечь прямо в эти безупречные зубы.
Она не закашливается, но в глазах ее – рубиновый пожар.
– И все-таки ты чудовищный невежа! – снова растворилась в клубах. Секунда, и бронза волос проливается на золото кресла. – «Бес», «Цепь», снова «бес», потом опять «Цепь»! Разве это так тяготит тебя – обращаться ко мне по имени?
– По какому еще имени? – стряхиваю пепел, но тот просто пропадает в воздухе. – Ты про ту кличку, что дал тебе барон Надав? Его табор и сейчас плюется, вспоминая о тебе.
– Не делай вид, что не понимаешь!
– Там было что-то вроде… – ухмыляюсь. – «Багровая Курва»?
– Не это!
– Или там словцо потяжелее? Может, «Шельма»?
– Перестань.
– А-а-а, точно… «Красная Блудня».
Она обозленно шипит, выгибается в кресле кошкой, готовой к прыжку. Моя сигарета взрывается снопом искр, но пальцев не обжигает – как, впрочем, и не расслабляла до этого.
– Мое. Имя. Шенна, – будь у нее хвост, то хлестал бы сейчас из стороны в сторону.
– Думаешь, мне есть до него дело? Как беса ни назови, котенком он не станет.
– Ты просто… – царапает видавший виды бархат. – Чудовищен.
На самом деле, меня давно не беспокоит ее прошлое. Ни то, как она по десертной ложке выела психику слабоумной Надавской дочери, ни то, как перегрызла половину его спящих таборян… Наших бойцов она калечила тоже, притом немало. Ну и что с того? Дела таборов далеко позади, как и сами таборы с их ходячими твердынями. А мы остались. Не сказать, что оба в восторге от нашей связи. Цепь бы с наслаждением умылась моей кровью и вернулась к старым бесчинствам, а я… А я не откажусь от пары лет молчания с ее стороны: не выслушивать дурацкие женские капризы каждый пятый сон.
Однако в этом вся суть запечатывания: никто не владеет положением. Просто один чуть больше хозяин, а другой – пленник.
– Эй, – она изучает ногти, лежа в кресле. Изо всех сил разыгрывает безразличие, но мы-то знакомы давно. – Можешь проваливать, раз так не желаешь быть со мной вежлив. Твоё мужланское тело начинает отходить.
– И правда, – чуть не сказал ей машинальное «спасибо».
Что? Машинальное? Когда это я был машинально учтивым? Последний раз ты был учтив с той, кого поклялся отыскать. Отыскать, наказать, приволочь обратно. Но сейчас-то с тобой что, дружище? Только не говори, что привязался и к ней, Бруг.
Привязанности делают тебя слабым, а высокие чувства ставят рамки. Жить на кратких эмоциях, двигаться порывами – вот что твоё! Без разбора ломать всё подряд, забивая на тонкие материи – вот что легко. Тебе могло быть легко, но вот незадача! Ты привязался к другой. Размяк! Всего разочек ошибся и теперь волочишься за ней как собачонка с тоскливыми зенками.
Но ты не какая-то шавка, а ищейка. И ищейка идет по следу. Наказывать непослушных и покорять непокорившихся. Привязываться – всё равно что обвешаться цепями, а делать цепью Цепь – вовсе какой-то вульгар. Сердце у тебя одно, Бруг. И второго предательства оно не переживет.
– Если вдруг занятно узнать, – она прерывает молчание так вовремя, будто читает мои мысли, – то твоя поломанная шкурка собрала зрителей.
Хотя, Цепь ведь мне дорога. Не настолько, чтобы потакать ее капризам, конечно… Но в чем причина отвергать единственное разумное существо, чьи мысли волнуешь?
– Возьму на заметку, – отвечаю сухо.
– Так уж и быть, придержу для тебя одного, – выдавливает из себя зевок. – Но только оттого, что обитание здесь – чудовищно однообразное занятие.
В моей голове – бодрящее покалывание. Как если бы рядом ударила молния.
Двойственное ощущение: я, вроде, хочу наружу, но вместе с тем и нет.
– До встречи…
Стоит добавить «Шенна».
Точно, скажу «Шенна». Пора сказать…
– Увидимся, Цепь.
Слово «перевертыш» вызывает у люда разные ассоциации. К востоку от Бехровии, где кончаются горы и начинается Империя, оно сродни ругательству. Прямые, как самострельные болты, Центварцы считают всё непредсказуемое злом. Бесы, перевертыши и даже чужеземные божества – всё едино и призвано поколебать веру в прогресс и Императора.
И никого не волнует, что самого Императора никто не видел. Не имеющий лица или даже имени, он постоянен и правит уже больше века. Его надежность, верят центварцы, и есть главное.
Забавно будет, окажись он одержимым, как я.
На западе человечество чуть более… Романтично. Там считают, что перевыртыши давно вымерли – сами, или же им помогли лозунги Комитета. Но в легендах они живы. В байках их рядят в балахоны ведьм и еретиков, еще чаще – пихают по пещерам и заставляют красть девственниц, пока какой-нибудь особенно отважный рысарь не выпотрошит фламбергом*… Перевертыша, не девственницу.
К девственницам-то у рысарей особенный подход.
Но самый популярный сюжет – про княжича с Предгорий, что проклят бесом. Днем он красавец, каких поискать – ну вылитый я – а ночью воет зверем. И вот он спасает республиканскую красотку, сам становится преданным кумом Республики… Ну и счастливый конец: все рады, упиваются кавой, выкуривают по папиросе, славят Комитет.
Больше всего бесит, как мало в таких байках говорят о самом «переворачивании». Чудовищно мало – так бы сказала Цепь. Если повезет, пояснят, мол, лоб покрылся шерстью, или даже добавят, как горят глаза в ночи.
Но утром ужасное отродье Эфира – всё тот же княжич с багряными губками и ровно постриженными ногтями, как у самой дорогой шельмы. И абсолютный предел беспорядка – сверкающий локон, выпавший из-под венца.
А ты, поднимая опухшие веки, упираешь взгляд в свое избитое тело. Растянутые бриджи и лопнувшая шнуровка косухи – вот твой наряд с иголочки. Потные волосы и липкая от крови борода – твой непослушный локон. А вместо губок бантиком – безобразный рубец через все лицо.
Мои отекшие глаза снова открыты. Широко и изумленно, как у убитого животного. Старый добрый человеческий рот с шумом глотает воздух – прямиком в пустые легкие.
– Какого…
Лязг цепи, вскрик от боли и неожиданности. Истерический щебет фонаря.
– Мастер!
Я механично вскакиваю, пытаюсь подняться – и тотчас валюсь на колени. Хватаюсь за бок – крутит и жжет, точно в брюхо зашили горящее полено. Я не из слабаков, но тут любой покроется испариной.
– Шевельнетесь – убью.
Меня лихорадит. Не пойму, почему.
В ушах будто маслорельс гремит, а сквозь грохот невидимых колес доносится высокий девичий крик:
– Пусти ее!
Он режет слух, и я вымученно шарю взглядом по земле.
Передо мной немолодая женщина. Сидя в самой грязи, она пытается разжать стальные звенья, но Цепь накрепко свела ей ногу – от сапожного каблука и вверх по голенищу. Лица женщины не разобрать, зато нагрудник, надетый поверх жилета, тускло бликует от фонаря.
Глядя, как Цепь впивается ей в незащищенное колено, я скалю зубы: дура! Надо было о ногах заботиться, не о сиськах.
Боковым зрением замечаю еще двоих: парня и девку, но быстро теряю к ним интерес. С виду – вчерашние подростки. Справлюсь легко.
– Я сказала, пусти, – шипит девчонка.
– Рыпнется – и кости станут крошевом, – отвечаю я.
Слышу звук натягиваемой пружины.
– Брось самострел! – шикает на нее парнишка. – Ты нормальная?!
– Заткнись, Лих! Если это убож…
Щелкаю пальцами, и женщина не сдерживает стона. Голенище ее сапога всё больше напоминает дерево, задушенное лианой.
– Мастер Табита, – самострел чуть не подпрыгивает в руках девчонки, – вы…
– Вилка, успокойся, ага? – кривится женщина, названная мастером. – Или ты хочешь, чтоб я ходила на костылях?!
В животе у меня что-то чавкает, и внутренности будто обдает кипятком. Какого черта так болит?! И почему не проходит, если мои раны всегда заживали после отключки?..
– Давайте так… – языком мне ворочать не легче, чем этой стреноженной кобыле – ногой. – Я пойду своей дорогой, а вы – своей. Иначе ходулю вашей мастерши ни один костоправ не соберет.
– Эй! – вмешивается парень. – Ты всё-таки на прицеле, бес сраный!
Сплевываю в ответ красный сгусток.
– Дипломатично, ха! С такой дыркой ты не доживешь и до утра, – хрипит мастер, кивая на мой живот. – Это же масло, да? Оно не заживет само по себе. А кончишь меня – получишь болт промеж лопаток. Мы из цеха. А цеховикам при исполнении разрешается убивать.
Так вот оно что. Масло.
Будет идиотски смешно, загуби меня та же дрянь, на которой я сюда добрался. Жаль, посмеяться будет некому. Если только Кибельпоттова неупокоенная психика не глядит на меня откуда-то сверху.
– Не вижу другого выхода, – теперь жжет еще и ладонь, на которую капнуло из брюха. Не обманула? Эта кислятина и впрямь просто так не пройдет? – Или предлагаешь нам обняться и выпить за мое здоровье?
– С безносой выпьешь, идиот, – уверен, палец девчонки и сейчас на спусковом рычажке самострела.
– Вилка, не мешай! – мастер было срывается, но тут же берет себя в руки. – А что, выпить – это можно, ага?
Я не успеваю возразить. Когда я приказываю Цепи напомнить Табите о ее неудобном положении, женщина уже срывает с пояса флягу. Звяк металла – новый стон. Фляга падает в пыль и катится в мою сторону, пока мастер качается взад-вперед, обнимая колено.
– Я предупредил…
– Да водка это! – не выдерживает Лих. – Сам проверь!
Я откручиваю крышку, и в нос ударяет знакомый запах: что-то среднее между прелым сеном и квашеными яблоками. Почти что силос, только режет ноздри и горло саднит. Да, действительно водка. Но не простая.
– На кой черт тебе помбей? – ослабляю кольца Цепи. – Твой желудок свинцовый?
В питейных бутылки с помбеем пылятся на полках по нескольку лет, ведь редко найдется человек, что рискнет купить это пойло. Еще реже – попробовать на вкус. Помбей – из разряда забав, о которых лучше сто раз услышать, чем один раз глотнуть. И наконец, помбей – твой выбор, если не боишься наутро выблевать печень.
– Не только у тебя есть секреты, одержимый, – хмыкает мастер.
Да что с ней не так? Думает заглушить боль в ноге, упившись в сопли? Соблазнительно, я бы и сам не прочь унять жжение… Но нужно сохранять трезвость ума – так что и ей хрен! Замахнувшись, отправляю флягу в полет. Где-то в потемках двора раздается сдавленный булькающий грохот.
– Ты погано разбираешься в бесах, раз видишь тут одержимого, мастерша.
– Да ну? Половинчатая мордашка тебя выдает, сынок. Или навешаешь тётеньке Табите лапшу, что эта штука у нее на ноге – просто побрякушка? – женщина хочет хмыкнуть, но стискивает зубы. – Больно, гамон! И помбей-то за что?
От всей этой болтовни начинает мутить. Только не говори, что ты сдаешься, тупое человеческое тело! Так, сначала выровняй дыхание, Бруг. Глубокий вдох…
Плохая идея. Очень плохая!
Из брюха с новой силой валит нечто, обжигая как тот самый помбей. А не стоило ли глотнуть из фляги? Раз все лекарства по определению отвратны на вкус, то почему неверно обратное? Тогда бы помбей быстро перекочевал из баров в аптеки…
– Переходи к сути, мастерша! – мучимый раной, я складываюсь пополам. – Не тяни ты время. Зуб даю, что узнавать Бруга ближе тебе не захочется!
Моя голова – как колокол с трещиной: не может работать чисто. Что тут, что там – бессвязный гул вместо ясного звона. Никакой конкретики. Зато вот бредовых идей, болезненных видений – этого в избытке.
«Ну давай, сука, соображай!» – молю я колокол.
«Дум-дум», – отвечает он.
Мне чудятся тени и шорохи за спиной. Шорохи и поросячий визг.
– Хорошо. Хочешь валить – вали. Вилка, разряди игрушку.
– Но мастер! – шипит вслед.
«Дум-дум», – кровь капает с подбородка в уголь.
«Ск-кряб», – вздыхает скоба самострела.
– Вали, говорю!
Я неловок, будто сбитая птаха, но не обречен. Чьи злоключения оборвутся так быстро, а? Уж точно не мои. Моя песня еще не спета, ведь я только взялся выдумывать первые ноты. Только бы подняться, а дальше дело за малым…
«Дум-дум», – задают ритм виски. И этот ритм глушит все прочие звуки Прибехровья.
Зажимая прохудившийся живот, шатаясь на нетвердых ногах, я ковыляю в сторону проулка. Долго ли смогу бежать, если напрягусь? Не-а. Да и Цепь не успеет за мной… А ведь мне нужна фора. Если отзову Цепь прямо сейчас, гадючная девка раз – и шкрябнет стрелялкой. Два – и проделает во мне дополнительное отверстие… А дырок в Бруге и без нее теперь больше, чем хотелось бы.
И вот я уж почти у поворота. Ай, да что тут валяется?!
А, это я оставил. Труп оставил. Только не такой он какой-то…
Как рана моя: жженый и дымящийся. Поднять ногу, перешагнуть. Так, почти дошаркал…
Я уже вижу теплые отблески на шершавой стене. Приятно так мелькает свет – и даже боль на мгновение позабылась, уступила место голодному кручению в желудке. Но не могу я уйти просто так: не в моём это стиле.
И иногда стиль берет надо мной верх.
Неловко крутанувшись на пятках, тычу назад кулаком. Хоба – и кулак становится неприличным жестом.
– Надеюсь, не свидимся! – в башке стучит, а я давлюсь слюной, почти себя не слыша. – Идите вы все к…
Удар таков, будто в спину врезалась телега. Я кубарем качусь обратно в темень двора и пролетел бы еще дальше, не уткнись лицом в что-то липкое.
Нос и рот заполняет кислый смрад масла, исходящий от мертвеца. В горле встает ком, когда я понимаю, что руками уперся прямо в раскисшую, еще дымящуюся плоть.
– Пса крев…
Пытаюсь отдернуть ладонь, и вязкий лоскут кожи тянется вслед за ней.
Но вдруг нечеловеческая мощь отрывает меня от земли, и я чую душную вонь животного. Животного такого большого, что приближающиеся цеховики кажутся детьми. Я пытаюсь вырваться, но только барахтаюсь, как схваченный за надкрылья жук. Пальцы нащупывают нечто ороговевшее, бугристое; их колет жесткий волос. Хочу оглянуться, но замечаю бегущих цеховиков. Это те двое со странными именами: Лих и Вилка, – но какого черта? Какого черта не боятся?
В крошке внизу – металлический блеск, что сверкает прямо у ног цеховиков. Змеино струится ко мне, а цеховики… Пса крев, они загоняют Цепь! У Лиха невесть откуда – шпага, и он выводит самым острием зигзаги на земле. Клинок вздымает клубы смуглой пыли, а Вилка так и норовит носком сапога отбросить Цепь вбок. Промедли моя питомица – и шпага пригвоздит ее на месте, войдя прямехонько в стальное кольцо.
Я задыхаюсь от возмущения. А может, от удара в спину задыхаюсь.
Цепь уже рядом, и я мысленно молю о помощи. Но мольбы никогда не помогают. Божества молчаливы, как старики, разбитые параличом. И со слухом, думаю, у них тоже не всё в порядке.
Потому я упираюсь в щетинистые лапы неведомого зверя и отчаянно, из последних потуг отталкиваюсь. Еще одно крошечное усилие – и мое тело выкрутится из хватки разболтавшимся винт. И-и-и…
Никак, черт побери!
Мои выкрутасы только укрепили сжатие лапищ, и жесткий ворс – что собачья щетка – вгрызается в рану на животе. Шею сзади обдает жарким облаком – это гневно дышит тварь, пропитывая меня духом скисших яблок и мозглой соломы… Помбей?
Цепь пружиной летит мне навстречу – но я понимаю, что положение моё ошеломляюще безнадежно. Понимание приходит за секунду до того, как грубая, вся в трещинах рука-копыто прихлопывает Цепь легче, чем назойливую муху. И та продолжает трепыхаться в копыте, оплетая звеньями то один палец, то другой.
Я испытываю щемящее чувство разочарования. Такое, что не хочется даже хрипеть.
– Белое братство! – чей-то старческий голос. Он звучит неисправно, словно говорит на языке подплавленных приборов и психо-замыканий.
– Улепетываем!
Мир приходит в движение, проулок трясется, а горячие силосные облака обдают всё чаще. Мы несемся через неухоженный дворик. То есть меня несут через него. А вот и узкая улочка, где больше не пахнет водкой и похотью.
Я был здесь! И больше мне сюда не нужно, тупая ты морда! Но зловонная махина закидывает меня на плечо и влачит теперь как тряпичную куклу: перед самым лицом мелькают закопченные окна и пыльные свесы первого этажа. Цеховики спешат следом – трое, четверо, десять? В тряске не разобрать.
– Хорха, айда ювелирней-то! – опять поломано шумит. – Пробьешь бесу лобешник!
Кишка водосточной трубы появляется из ниоткуда. Я успеваю лишь судорожно сжать челюсти, прежде чем висок пробивает тупой болью.
– Глянь, как беса приложило! Убожество.
Хочу огрызнуться в ответ, но новый удар настигает старину Бруга быстрее. Фонарный столб прилетает мне промеж глаз, и невысказанные слова тонут в металлическом звоне.
– Хорха, ну ёкарный хрок!
Вместо мыслей мелькают белые пятна.
ГЛАВА 4. Бругожеле
Город содрогается от жуткой трагедии! В минувшую ночь найдена мертвой глава церкви Упавшего – иерофантесса Гретхен фон Блау. Как сообщается, тело госп. фон Блау страшно изувечено, налицо насильственная смерть. Что это: очередной произвол т.н. «калековцев» или некое «бехровское лихо», поселившееся на наших улицах? Некролог и официальное заключение констеблей ожидайте в следующем выпуске.
Внимание, розыск! Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, 30 лет. Прибыл вчера на маслорельсе из Преждер. Приземист, дороден, волосом рус и коротко стрижен, на лицо брит; всегда носит при себе нашейный платок и документ республиканского образца. За любые вести полагается щедрое вознаграждение! Обращаться к господинам Билхарту или Гелберту Кибельпоттам.
Вырезки из свежего номера еженедельной газеты
«Бехровский вестник»
Я сплю – но сплю без сновидений.
Раньше было иначе. Каждую ночь я выпадал в пульсирующий зал: гагатово-рубиновый, дымящийся, не имеющий стазиса. Порой там поджидала Шенна. Иногда ласковая, иногда донимающая, но чаще – просто скучающая Шенна встречает меня на своем подпаленном кресле, нетерпеливо покачивая ногой. Хмыкнув, она исчезает всполохом пламени – и появляется совсем близко, чтобы запалить иллюзорную папиросу.
Она поджигает, а я затягиваюсь. Так бывает порой. Но сегодня – не так.
Сегодня я в Глушоте, на своей проклятой родине. Снова помню ее запахи, серые краски, злые нравы.
А еще я помню, как убить тухляка. Хитрости тут никакой – нужно пробить сердце. Склизкое, вонючее, это сердце величиной с подгнивший кочан – да и сам тухляк не мал. Старики молвят, рост у него медвежий, но проверить никак: косолапые стали редки в Глушоте, когда еще отец мой сопел в люльке.
Оттого для меня тухляк – чудище больше жалобницы, но меньше гузнаря.
Тухляк жутко неуклюжий, еле перебирает ногами, пухлыми от гангрены. Часто валится наземь, сдирает кору с вековых стволов, а деревца помладше и вовсе выворачивает жирным пузом. Где он прошел – всюду сукровицей забрызгано. А уж пахнет она – хоть нос законопать.
Оттого разыскать тухляка несложно. Труднее, чем грыжича, но легче, чем псыжку.
Я приметил тухляка еще у берега. Отец часто говорил мне: «Глаза – бесовские стёкла, к смерти тебя приведут. А вот уши – это да! Уши таборян не подводят». Но больно уж шумна река Закланка: стылая вода топочет по камням, как целое стадо зобров; ничего не слышно. Зато пойма там голая, ржавая от жертвенной крови, что приносит вода с таборянского капища. Гиблое место: один жалкий кустик пробился, да и тот ниже пояса.
Всё от ворожбы полегло. Река теперь ядовита, зато чудищ отворачивает лучше любого частокола. Вот и тухляк мялся у самой воды, увязая по колено в красноватом иле. Что-то тянуло его на дальний, крутой берег, словно не все мозги еще размокли и пошли плесенью.
Инстинкты ли, воспоминания ли… Но однажды тухляк вдруг замер, обратившись к той стороне, и протяжно замычал. Зоб тухляка надувался и опадал, пузо колыхалось, но мычание его неслось куда-то далеко вперед – безнадежно и тоскливо, как последняя отчаянная песня. Уродливый плач по человеку, которым он сам когда-то был.
По человеку, который спутался с бесом. С ним спутаешься – себя потеряешь. А потерявши, не найдешь: станешь вечным скитальцем Глушотских чащоб. Таких прозвали заложными – узниками собственной плоти и бесовской прихоти.
Я присел поодаль. Работая рогатиной* как посохом, взобрался выше по берегу – там, где две мертвые сосны легли друг на дружку, обнявшись куцыми ветвями. За тухляка я не переживал: покуда так мычит, потерять его сложно, – но сам час встречи с ним ох как хотелось отложить.
Вот только отец смотрел на меня. Мерещилось, что он всегда приглядывает, когда хожу на дело – на охоту ли, проверить скотину или башмаки подковать… И сегодня отец смотрел во все глаза, чуял во все ноздри, слышал во все уши. Сегодня он сама чуткость. Ведь сегодня его сын станет разлучником – тем, кто разлучит тухляка с Глушотой.
Это раньше заложных можно было по пальцам пересчитать – мало их бродило по лесам. Тогда разлука считалась просто древним обрядом, и каждый таборёнок был должен разлучить по заложному. Без этого настоящим таборянином не стать. Порой заложных даже не хватало, и таборята грызлись меж собой за право стать разлучником – тем единственным, кто добьет страдающую тварь.
Раньше, если заложного не разлучишь или разлучишь погано, таборёнка сам родитель и кончал – шорным ножичком да по горлу. А если медлишь или повернешь назад, из зарослей прилетит батина сулица*. Увернулся – молодец. Значит, это сигнал тебе: «будь расторопнее».
А поймал сулицу спиной – поделом.
«Таборянам слабаки без надобности», – часто говорил отец. Теперь заложных плодилось всё больше с каждым годом, а таборян – нет. Глушота стала скудна на дичь, а таборы бесконечно рубились – с южаками или друг с другом, кто под руку подвернется. Наконец, таборы поголовно плюнули и на разлуку, и на разлучников. Принесет таборёнок сердце заложного или кудрявую башку южака – не всё ли равно? Но отец верен традициям. Иная шавка, беззубая от старости, за всё свое житье не знала такой верности.
И вот отец приказал, чтоб я разлучил тухляка.
Он не предупреждал, что пойдет по пятам, – но он ни о чем никогда не предупреждал. Это у других батьки. А у меня отец. Его-то сулица хорошенько заточена.
Я примял под соснами сухую хвою, вытряхнул пожитки из долгой сумы. Средь скарба: полупустых склянок, тряпья и мотков шпагата, – нащупал оселок*. Хоть я и заточил рогатину еще в таборе, тревога не отпускала до сих пор. «Доведи лезвие», – твердила она накуренным голосом отца, – «вставь рожон». И я был послушен, тихонько шкрябал перо рогатины, лавролистное и холодное. А после ввинтил рожон – узкую железную поперечину – в ушко под самым наконечником.
Потом сгреб пожитки в кучу да так и оставил между сосенок. Разлучу – тогда вернусь. Только прихватил мано́к на шнурке и рогатину. Тяжесть ясеневого древка, длиной с меня самого, была знакома рукам. Мои ладони дружны с рогатиной: не счесть, сколько раз на них выступали мозоли; сколько рвались и кровили – тоже. Мясо под содранной кожей было красноватое и жглось, стоило только что-нибудь задеть. Но отец снова и снова всучивал мне рогатину.
И вот спустя годы ладони зарубцевались. Пожелтели как старый пергамент. Кажется, они приняли форму древка – будто какой-то кожевник насилу их подогнал как чехол.
Проворно взбежав на бровку холма, я осмотрелся. Выцепил глазом тухляка – далеко он не ушел, только взбаламутил воду у края Закланки. Я вдохнул глубоко, забрав в легкие запах чащи, горьковатый от смолы и чуточку сладкий от тухлячьих ран. Зажал манок меж губ…
И густо выдохнул. Мой выдох преобразился в манке и истошным женским визгом прокатился по берегу. Разбередил стайку птиц в верхушках мертвых деревьев, вспугнул одинокого зайца… Но главное – никакого больше мычания.
Сердце мое заколотилось. А сердце тухляка, склизкое и вонючее, радостно ухнуло.
Заложный обернулся резко, будто его позвали по имени. И, готов поклясться всем своим жестоким родом, наши взгляды встретились. Мои черные таборянские глаза и его – мертвецки белесые. С полминуты он пялился на меня, не мигая, а после подался брюхом вперед – и кинулся навстречу.
С рогатиной наперевес я рванул обратно. Бежал что есть мочи сквозь лес, отбиваясь от веток и получая сдачу в лицо. Паутина лезла в рот, а сверху сыпалась труха, от которой чесалось под воротником. Я отплевывался, ежился, но шага не сбавил. Ведь слышал, чуял, видел тяжелую поступь тухляка.
За худобу и юркость отец прозвал меня хорьком. Не из ласки, а в пренебрежении.
Что ж, ноги у меня и правда быстрые. Но тухляк быстрее.
Сапоги слегка утопали в мокрой земле. Почва здесь сплошь гниль да песок. Сверху вязко от дождей и тумана, а снизу рыхло. Догонит прямо здесь – и мне несдобровать. Закрепиться негде, сметет и не заметит. Втопчет в песок, раздавит, обглодает лицо, а кишки с перегноем смешает.
Затормозил я так скоро, что полетели комья земли. На пути серой стеной пролег ветровал, ощерившись острогами переломанных сучьев. Я ругнулся на родном наречии. Грязно ругнулся – совсем как отец, когда отчитывал меня перед печью.
Я весь покрылся холодным потом, мысли судорожно метались. Тухляк неотвратимо пер ко мне, потрясая тучным животом. Приближаясь, тухляк всё рос и рос, и когда его туша заслонила тусклое глушотское солнце, я понял – шанс у меня всего один. Тогда я закусил губу, крепче перехватил древко и встал в позу. Левое плечо вперед, острие рогатины – к носку сапога.
Тухляк же остановился в трех копьях от меня и выжидающе захрипел. Поглядел на меня выпученными глазками, а опухшей пятерней почесал брюхо – совсем по-человечески, как бы неуверенно.
В складках шеи, сливовой от застоявшейся крови, что-то железно блеснуло. Двузубая вилочка на ремне. Южаков оберег.
Я тряхнул рогатиной, присвистнул, вынуждая тухляка пойти ко мне. Он послушно заковылял… И вновь замер – теперь в двух копьях.
– Дош-ш-ш-кх!
Утробный звук, от которого немели пальцы, прошел через его брюхо и с гноем вытек из пасти. Тухляк переступил с ноги на ногу, почесался опять.
– Дош-шка!
Широко расставив руки, как для объятия, заложный подался вперед. Меня замутило.
– Пхапа до-о-ома…
Тухляк припустил ко мне, но мертвые руки захлопнулись, так и не найдя добычи – я вовремя отпрыгнул вправо. Я быстро, коротко ткнул рогатиной, целясь ему под лопатку. Ладони ощутили, как наконечник чиркнул по кости, мягко вошел в плоть до самого рожна. Потянул на себя – и сталь вновь обнажилась, липкая от порченой крови.
Тухляк обернулся, непонимающе сунул пальцы под мышку. Оттуда сгустками валила гниль. Я опять встал в позу. С опущенного острия капало.
– Ну! – не выдержал я. – Давай, пса крев!
А он припал на четвереньки и завыл – как тогда у берега Закланки, тоскливо и безнадежно. Гной, сочившийся из глазниц, напомнил слезы, хотя я точно знал: заложные не плачут. Мне всё же стало жаль тухляка: появилось чувство, что убивать его не за что… Он был обманут бесом, он страдал, он не хотел драки. За что его разлучать?
– До-о-о-о-ощка…
Бедная тварь, перестань же выть. Рычи как гузнарь! Смейся как грыжич!
Только не вой ты. Не так по-человечески.
Тухляк гнил заживо, давился собственным гнильем, когда выл, и гнильём же разило из его пасти. От вони у меня заслезились глаза, и я сменил хват, чтоб утереть веки.
И тухляк увидел это. Рванул на меня в упор – прытко как дикая свинья, норовя протаранить склизким рылом. Хватился я скоро, но недостаточно. От удара было не уйти – хватит времени лишь вскинуть оружие, упереться пяткой в поваленный ствол…
Раздутой грудью тухляк налетел на рогатину, и что-то хрустнуло у него внутри, надломилось на самом острие. Он заметался, но не повис на рожне, как повис бы волк или рысь, а стал теснить назад.
Почва поползла подо мной, предательски слетела кора, и ноги потеряли опору. Я рухнул в самую гущу бурелома, колючего от сучьев. Обрубки веток полоснули одежду, воткнулись в кожу и где-то вошли еще глубже. От боли в глазах стало по-настоящему мокро, и я только и мог, что из последних сил сжимать рогатину.
Черная кровь текла по древку, смазкой пачкала руки так, что натертое дерево скользило меж пальцев, выкручиваясь угрём. Повезло, что древко застряло намертво – между стволов где-то подо мной. Но тухляк не унимался: слепо молотил лапами по сторонам, с треском сминал ветки там, где могла бы быть моя голова. Темные человеческие зубы клацали наверху, будто уже нашли мягкие хрящики моего лица. Заложный напирал, нанизанный на рогатину, и бурелом скрипел под нашим весом.
– Пхапа пишов, – булькнул тухляк и надавил сильнее.
Рогатина застонала, рискуя сломаться пополам. Я испугался. Так испугался, что оцепенел, не в силах предпринять хоть малость. Вдруг грудина твари хрустнула, ребра разошлись на месте раны, и рожон исчез в ее внутренностях. Рогатина прошла насквозь.
Дутая туша придавила меня, впечатала в дерево, обняв холодным мясным мешком. Она упала сверху. Мертвая. Теперь-то мертвая окончательно. Из хребта чудища торчал конец рогатины – с вонючим, больше кочана сердцем, оставшимся на рожне. Оно отстучало еще дважды, тюк-тюк, пока не остановилось совсем… И последним, что я увидел, была печальная харя тухляка.
Я с трудом повернул к ней лицо. Не знаю зачем – лицо повернулось само, будто так положено. Поймал на себе взгляд белесых зрачков, покрытых чем-то вроде молочной пенки. И к ужасу своему понял, что лицо мне знакомо.
Пышная коса на макушке, высокий лоб с насупленными бровями. Жестокие губы в рамке вислых усов и бороды, росшей диким кустом. Волосы у тухляка чернющие, как ночь. Даже смолистые.
Такой окрас еще бывает у котов – шерсть словно блестит. У котов и у меня. А еще – у моего отца.
Тухляк разлепил жестокие губы, накурено пробасил:
– Погано разлучил, правда?
Я почувствовал, как к горлу прижался шорный нож. Меня парализовало – от тяжести трупа, от вязкой крови, от жути происходящего. Но больше всего – от встречи с отцом.
– Скажи по секрету, хорёк…
Отец тихо рассмеялся – как если б не хотел, чтобы нас подслушали.
– Скучаешь по папке?
Ответом ему стал крик, на куски разорвавший Глушоту. Мой крик – что выцепил Бруга из узилища сна.
Здесь почти не пахнет. Казалось бы, лучше уж так, чем какой-нибудь противный душок… Но тут просто обязано пахнуть, притом не лучшим образом.
Ведь мое убежище – сырой кирпичный ящик.
Окон в нем не найдешь, а масел-лампа над головой – единственный источник света. Абажур, бестолковый стеклянный шар, знавал и лучшие времена. И теперь он весь, кроме небольшого островка, покрыт жирным слоем нагара. Боюсь, на очистку уйдет обильно спирта и не одна тряпка – а может, одна уже и ушла: чтобы отмыть тот прозрачный ныне кусочек… После чего, видать, уборщик это дело бросил.
Зато лампа вертится. Ее свет, ускользая сквозь чистую форточку абажура, выхватывает из темноты то один клок моего убежища, то другой.
Когда-то я вижу корыто в углу, вросшее в глинобитный пол, когда-то еще – трубу под самым потолком. От нее по кирпичам – грибок, такой густой, что даже темный. Крадется вниз липким тихим пауком, раскинув лапки между кирпичей.
Если особенно везет, можно разглядеть дверь напротив моей койки. Дверь дверью – простая, деревянная, подернута ржавчиной там, где кто-то наспех простучал ее гвоздями. Но широкая, как амбарные ворота.
Ладно, хватит на сегодня наблюдений. По-моему, я и так неприлично наблюдателен для того, кто проснулся в сыром подвальчике, лежа на несвежем соломенном тюфяке… Но вот абажур хорош. Если выберусь отсюда, заберу себе.
Кстати, здесь ничем не пахнет.
А ведь от корыта должно нести стоячей водой, равно как затхло, землисто пахнет плесень. Тюфяк же – сочетание подгнившей соломы с ноткой мышиных экскрементов. Но вот беда – не чую. Нос дышит исправно, а воздух безвкусен.
Зато цепь со мной. Только это не Цепь, а цепь! Только-то размер буквы, а сколько смысла. Цепь с маленькой буквы начинается в моем ошейнике, а заканчивается в стене. У цепи с маленькой буквы там вколочен здоровенный штырь, что никак не вырвать из кладки голыми руками.
Правда, есть одна хорошая новость: меня подлатали.
Где раньше дымился безобразный узел плоти, теперь желтеют бинты. Тонкие и протертые, их кипятили не раз – и не единожды пользовали.
С каких пор меня нужно бинтовать? Пьяные переломы, бесовы укусы, рваный поцелуй клевца, небрежный росчерк ножа – на мне всегда всё заживало, как на самой вредной дворняге. Но этот город удивил в самый день приезда, харкнув жижей, которую я ожидал лишь услышать – бурлящей в котлах маслорельса. Теперь, когда я думаю о ней, в горле встает ком – и я впервые не хочу приподнять бинты и поглядеть на свои болячки. Раньше мне нравилось корябать запекшуюся кровь, а прилипшую к ранам одежду я отдирал с возбуждением юного натуралиста. Порезы, не успевшие зажить, сминал пальцами, пока не становилось липко. Это казалось… Занятным?
Я словно говорил себе: Бруг, тебе не страшен никакой недуг! И новая боль напоминала о боли старой – той, что давно зарубцевалась, но не скоро пройдет.
Но масла нужно сторониться. Я стану аккуратнее, не буду бросаться напролом. Превращусь в тварь такую хитрую, какую этот город еще не видел. А главное – достану ублюдка, который сделал это со мной. Я запомнил твой голос, «гадость евонная». И в следующую встречу масло будешь жрать уже ты. Будешь лакать его, пока язык не прикипит к нёбу, а потом…
– Доброе утро, убожество!
От удивления чуть не кувыркаюсь с тюфяка. Упасть не дает ошейник, больно сдавивший кадык. Кое-как мне удается сохранить равновесие, но эти потуги выстрелом отдаются под бинтами. В глазах на секунду меркнет.
– Что, очнулся? – неприлично высокий голос. Бряк захлопнутой двери.
Опершись о влажную стену, я жду благосклонности абажура – и, о Пра, он балует меня. В свете масел-лампы я вижу девчонку. Ту самую, из Прибехровья. Ростом пять футов с половиной, сложена тонко, но атлетично – как степная лисица. Тембр – тоже от нее, да и взгляд такой же въедливый. Того и гляди цапнет за палец, только сунь.
– А что, – скалюсь я, – это твоя койка? Прости, что занял, да меня как-то не спросили.
Девчонка подходит ближе, и я бегло изучаю ее с ног до головы. Простецкие сапожки, а выше – бриджи, прикрытые домотканой рубахой. Шнуровка на груди – ха, было б что скрывать! Рубаха сидит свободно, будто слегка велика, и справа задрана небрежно – там, где к поясу приторочен плотный круг кнута. Плетеный из кожи, с узким блестящим хлыстом, он не похож на нагайку моего отца. Но сам вид его навевает воспоминания.
– Какое разговорчивое убожество, – фыркает девка, собирая волосы на затылке в узел. Они у нее цвета пшеницы в инее. – Что, мало получил? Еще хочешь?
Длинная шея, злое бледное личико в россыпи веснушек. Косая челка, спадающая на один глаз, добавляет ее виду дерзости.
– Нет, это точно твоя койка, – закидываю руки за голову, смотря на нее снизу-вверх. – Иначе на кой здесь цепь, если не держать такую маленькую дрянь?
– Я бы плюнула тебе в лицо, но не хочу запачкать матрас Хорхи, – она морщит нос. – Хотя и так и так его придется менять: уж насквозь провонял твоей грязной, немытой…
– Давай-ка без оскорблений, подруга? Мы же только начинаем дружить!
– Завались, убожество.
– Ого.
– Съел? Ничего больше не ответишь? – ее серо-голубые глаза превращаются в щелки.
– Не-а. Просто заносил тебя в список.
– Что за список? – склоняет голову на бок, и я замечаю, как из пшеничного узла выбивается локон.
– Мой список недотраханных сук.
Разворот, щелчок. Я еле успеваю вскинуть руку – и кнут обжигает предплечье ядовитой многоножкой. Кожаный кончик пролетает у самого уха – цепь гремит, ошейник душит, а я падаю на бок.
– Надо было дать тебе сдохнуть.
И прежде чем я успеваю растереть место удара, башмаки отстукивают прощальный ритм. Створка ворот скребет по полу и захлопывается наглухо. Гневная перепалка с той стороны, звуки возни, лязг засова… О, мы определенно нашли общий язык.
Кроме бинтов и портков на мне – только нищая нагота. Но разве это повод вот так меня бросать? Да, мог быть и почище – но разве я виноват, что здесь нет банного дня? Сволочи. Даже роялистам Ржавска позволяли подмыться, пока республиканцы пересчитывали гвозди, чтоб вколотить им промеж глаз.
Обидно, что я хлебнул достаточно лиха уже до Бехровии, а попался – вот паскуда! – в Бехровии самой. Кордоны Республики, карательные отряды некнягов, толпы беженцев из Предгорных княжеств, которые теперь – лишь муравейник, разворошенный палкой Комитета… Всюду я протиснулся, везде прогрыз дорогу. И только для того, чтобы застрять в подвальчике на потеху дуре с плёткой?
Черта с два. Я задницу рвал, идя по следу. Убивал и мучил, чтобы выловить билет на этот маслорельс. Душил и пинал, чтобы выбить документы на въезд – привет, Вилли, как ты там? И здесь я тоже не сгнию. Пусть даже в сраной Бехровии не хватит надгробий на всех жертв Бруга.
Молвят, хорь – самое страшное животное. Мол, по ночам он влезает коровам в гузно и хладнокровно жрет их наживую, выедая путь наружу. Правда это или байка – мне до одного места, однако Бруга тоже зовут хорем. Хорем Ночи, если уж сохранять зловещий ореол мистики.
Итак, пройдемся по хорьковому плану. Шаг номер раз: оказаться в гузне – готово. Шаг номер два: выесть дорогу – в процессе. И шаг номер три – найти неблагодарную сволочовку, сбежавшую от меня…
Новый лязг за дверью. Я сажусь на корточки, не отрывая пяток от тюфяка. Мои ноги слегка напружинены, а под бинтами покалывает. Неужели снова девка с кнутом?
Но входит не она. В обоих моих посетителях есть нечто похожее, но этот второй – паренёк. Щеголь, одетый в приталенную оливковую курточку, под которой чернеют модные узкие шоссы и туфли из фальшивой замши. Тот самый щеголь, что гнал мою Цепь шпагой. Ох, Шенна ему этого не простит. Кстати, а где она?
– Эй, приятель.
Он то ли не ожидал увидеть меня в бодрости, то ли думал о чем-то своем – вздрагивает и широко раскрывает глаза, заслышав мой оклик. При этом в руках у него железно брякает.
– Это что, ведро? – присматриваюсь. – Заставите жрать из него, как домашний скот?
Мимика парня – небольшое цирковое представление. Его удивление исчезает, разрез глаз сужается до нормы – и только приподнятая бровь выдает недоумение. Затем он нарочито строго глядит на ведро, а после переводит взгляд на меня. И взгляд его – взгляд старца, глубоко преисполненного пониманием мира.
– Тебе, дядя, чтобы поесть отсюда, сначала самому придется потрудиться.
А потом он задыхается от смеха. Я смиренно жду, когда пройдоха перестанет краснеть, брызгать слезами и отрывисто дышать. У пацана острые скулы и небольшой треугольный подбородок, а волосы – кудрявая шапка цвета ячменного вина, коричнево-золотистая. И снова на щеках – знакомые веснушки.
– Ты всё? – проверяю я. – Отсмеялся?
– Ну ты понял? – утирает остатки шутки из уголков глаз. – Понял же, зачем тебе ведро принес? Это чтобы вашей милости было где срать!
– Моей милости? – хмыкаю. – А ты у нас кто такой смешной? Домашний комедиант?
– Коме-кто? – парень ставит ведро на пол вверх дном и присаживается как на табурет. – Не, я Лих. Присматривать за тобой буду типа. Так-то сестра должна, но она у меня дурастая – в край отказалась тебе ведро носить. Дед Строжка говорит, она такая стерва оттого, что ей желтая желчь в голову ударяет, ну и…
Когда я думаю о жидкостях человеческого тела, живот предательски урчит.
– …дед, конечно, не зовет ее прямо так «стервой», но все ж понимают, что она…
– Погоди, Лих, – перебиваю. – Раз ты теперь за мной «присматриваешь» – жрать-то дашь?
– Ты уж извиняй, но Строжка запретил тебя кормить, – Лих упирает руки в колени. – Сказал, у тебя там порваться всё может, и что-то в брюхо протечет… Что протечет – не понял.
– Да кто такой этот твой Строжка?! – теряю терпение. Меня коробит от одной мысли, что там за воротами контролируют мой паек и решают, когда Бругу разрешено есть, а когда нет.
– Ну-у, Строжка – это дед… – Лих задумчиво поднимает глаза к абажуру. – То есть он не прямо наш с Вилкой дед-дед, а просто старый. Он у нас в цеху типа за врача: кости вправит, порез подлатает, если надо. Он и тебя подлатал, пока ты тут под жмых-жижей валялся… – парня передергивает. – Ты уже чуешь запахи, кстати?
– Куда там… – мой нос сопит в подтверждение.
Когда долго куришь папиросы, однажды замечаешь, что берет тебя уже слабее. Начинаешь курить по две за раз – но эффект уже не тот: вторая папироска не успокаивает, а делает только гаже во рту и горле.
Кто-то делает перерывы – мол, после завязки курится как впервинку. Кто-то переходит на трубку… Но трубка, по мне, – гигантская морока. Ее сначала правильно забей, потом раскури. А в конце трубку надо еще и почистить....
Есть еще жмых-жижа. Жижа она, потому что с виду – грязь цвета сажи. Жмых – потому что жмыхает. Да так иной раз жмыхнет, что голова кружится и колени не держат. А главное, проста как палка. Достал флакончик, откупорил, выдавил на ладонь жирную черную гусеницу – и вмазывай скорее в дёсны и ноздри.
Но вот обоняние отшибает насмерть. К счастью, не навсегда.
– Поганый врач твой Строжка, – подытоживаю я. – Где это видано, чтоб под жижей людей штопали?
– Где, где… – Лих фыркает. – В Прибехровье – везде. Это раньше мак был, а ныне не достать его с тех пор, как респы… Ну, республиканцы в Княжества вошли. Болтают, нескоро еще торгаши к нам с Запада потянутся. Выжимку багульника еще можно откопать, но вот цена…
– На Запад теперь дороги нет, – не люблю я обнадеживать. – Бывал в Кукушни́це? Шумный городок: всего десять вёрст до границы, так что лавок и базаров там – тысяча. А красивых девок, водки и веселья – десять тысяч…
– «Приезжай-ка в Кукушни́цу, чтоб примерить рукавицы»! – подскакивает Лих, брякнув ведром. – Точно, в песне какой-то дорожной было…
– Ага, «заворачивай в Вареник, присмотри жене передник», – киваю я. – Нет там теперь ничего. Вареник сожгли в первый день войны, а от Кукушницы оставили перекопанный пустырь. Дома же по бревнам раскатали и свалили в огроменный вал, кольев вдоль натыкали… а на кольях – знаешь что?
– Э-э, флаги?
– Ну да. Длинные и короткие. Гладкие и морщинистые. Из кожи сделаны – тех бедолаг, что границу думали перемахнуть.
– Курва… – морщится Лих. – Понятно, отчего столько предгорцев к нам валит.
– Еще бы, – сплевываю. – Это раньше некняги там крепостными были. А как Республика руки развязала – зверствовать стали похлеще хозяев.
– Откуда так шаришь, дядя? Жил там? Говоришь ты не как предгорец.
– В тюремной яме наслушался, – нехотя поясняю я. – После того, как в Кукушнице поймали.
– За мародерство? Разбой? Или как у нас – людей порезал?
– В этих вещах я, может, и мастак, но нет, не угадал. Попался разведотряду респов у самых Преждер. За языка меня приняли.
– Ты, что ли, тоже от войны бежал?
– Нет, – обрубаю резко. – На войну мне всё равно. Это от меня убежали.
– Понял. А ты, значит, типа, догоняешь?
– Догонял!
Тело мое дико рвется вперед – так, что цепь гудит. Лих вздрагивает, взгляд его устремлен к двери.
– Я догонял, слышишь?!
Сволочовка убегает всё дальше, прячется всё лучше. Но главное – продолжает тонуть в моей памяти. Нет ничего коварнее разлуки. Каждый новый день мне кажется, что я помню чуть меньше о той, которую поклялся отыскать. Раньше Шенна помогала освежить образы – но где она теперь?
– Ты это, – прокашливается Лих, – притормози, дурастый. Деваться тебе всё равно некуда: эта железка у тебя на шее и свинуша удержит.
– Выпусти меня, а? – собственные слова кажутся мне чужими. – Чего тебе моя неволя? Тебе б гулять, куролесить с бехровскими кокотками… А ты меня пасешь как овцу! Уж лучше дай мне уйти, парень. Свяжешься со мной – взвоешь. Это я по-дружески тебе…
– Да если б и мог, что с того? – Лих со вздохом встает, пинком подтолкнув ко мне ведро. – Ключа от ошейника у меня нету, а на воротах, с той вон стороны, Хорха стоит. Высунешь нос наружу, и он тебя по лестнице размажет. Я не шучу, дядя.
– Щенок, – цежу я. – Ты еще пожалеешь.
Лих, прислонившись к двери спиной, дважды ударяет по ней пяткой.
– Щенок не щенок, но тебе отсюда не смазать. И не глупи, ладненько? А то чуть только жмур в карцере, – он вздыхает, – так все заняты! Типа некому, кроме Лиха, жмуров выносить, понял?
Грохот двери – и мой новый знакомец ловко протискивается в проем.
– Бывай там, – бросает он напоследок. – Авось мастер к тебе забежит или Строжка… Или нет.
– Постой! – вспоминаю вдруг. – Цепь моя где?!
Отвечают мне лязгом засова.
И снова я в одиночестве. После республиканских казематов я почти забыл, каково это – сидеть в четырех стенах. Ведь стоило бежать из Глушоты, и вся жизнь превратилась в одно длинное скитание. В бесконечную охоту за призраком прошлого.
Но у всех охотников случаются голодные недели.
Я просыпаюсь снова – от внезапного приступа удушья.
Нос словно заложило, а глотку разъедает холодным. Пытаюсь сглотнуть, но делаю только хуже: едкий ком стекает по горлу, и на глазах выступают слезы. В подвале отчего-то очень светло, но зрение меня подводит: всё вокруг предательски нечеткое, будто смотришь из-под воды.
– Строжка, мать твою, – раздается женский контральто. – Почему он в сознании?
– Видать, доза не та, – трещит неисправно и старчески. – Резистентность у него скачет ого-го… Ситуация для беса, кхем, стрессовая, вот он и привык к жиже.
– На вторые сутки привык?! – досадует женщина. – А предусмотреть нельзя было?
– Дык они все разные, бесы эти окаянные. Не угадаешь, мастер.
Сжавшись червяком, я опрокидываюсь на бок – чтобы выхаркать черный сгусток.
Что-то выплюнуть удается, но остатки налипают на небо и застревают в зубах. Язык вяжет до онемения.
– Да уймись ты! – меня поворачивают обратно. – Строжка, раз «доза не та», то когда его отпустит?
– Дык уже отпускает, – заверяет треск. – Ты не волнуйся-то так, Таби. У него швы за две ночи затянулись, а тут жижа какая-то… Пфе! Так кудахчешь, будто поганец сляди хлебнул и вот-вот богам душу отдаст.
– Я волнуюсь не за него, а за то время, которое летит Хрему в одно место, – обрубает контральто. – Сам знаешь, каковы дела у цеха…
Мне и правда становится лучше. Хоть нос и стянуло коркой, а горло жжет, я неуклюже сажусь на тюфяке.
– Ба! Оклемался, – трещит старик.
– Не прошло и года, – выдыхает контральто. – Живучая же скотина.
– Какого черта вы делаете? – выхрипываю я, только-только проморгавшись.
– Какого-какого… – ворчит обладатель неисправного голоса. – Штопаем тебя непутевого.
Передо мной двое. На карликовой табуретке – скрюченный годами старик. Глаза у него выцвело-безучастные, глубоко утопленные в череп, а нос крючковатый, с вмятиной на переносице. Вмятина, видно, от тех очков, что он рассеянно протирает платком.
– Вот же задачку ты мне задал, бедолага, – голосом он похож на сломанный механизм: того и гляди треснет, заплюет искрами. Но от челюсти, скошенной набок, исходит только аптечный запашок. – От масла-то обыкновенно калеками остаются. Но Строжка не промах, хе-хе! Есть, сталбыть, еще бальзам в бальзамнике…
Другой мой гость – это гостья. Женщина средних лет. Крепко сбитая, рослая, она напоминает гранитную стелу. И серый костюм мужского кроя только прибавляет ей некой непробиваемости.
– Отставить треп, Строжка, – она скрещивает руки на груди, и серое сукно рукавов плотно облепляет мускулы; могучая баба. – Я тебя не для болтовни подняла.
Старик отвечает неразборчивым бормотанием, а женщина принимается за меня.
– Кто ты такой? – бросает она. – Или что ты такое?
Буравит меня взглядом из-под волос неопределенного мышиного цвета, стриженных под горшок. Забавненькая прическа – такие на западе делают сельской ребятне, чтоб побыстрее. Когда у тебя целый двор спиногрызов, тут не до заморочек: надел плошку на голову и стриги по краю. Представляю эту бой-бабу с плошкой на затылке. Выглядит смешно. А вот ее сломанный нос и старые шрамы – не очень.
– Кто я? – облизываю губы, горькие от жижи. – С вопросом ты запоздала, подруга. Надо было раньше знакомиться – до того, как посадили на цепь. Или у собак на привязи тоже имя спрашиваешь?
– Не ответишь, так дам тебе кличку, – отвечает женщина. – Под ней тебя и казнят, если не станешь сговорчивым.
Я оцениваю ее выдержку – не блефует ли? Не похоже. Старик даже не шелохнулся, хотя он здесь самый дерганый. Мда, умирать я не планировал. Ладно, буду тогда…
– Вилли, – признаюсь я. – Вильхельм Кибельпотт.
Старик вдруг хихикает себе под нос. Женщина цокает языком.
– И это твой документ, ага? – она вынимает из нагрудного кармана корочку. Ту самую – кроваво-красную, с косым крестом. Черт, и как я не догадался, что все мои пожитки изучены до последней крошки дымлиста?
– А ты читать не умеешь? – язвлю, но внутри растекается нехорошее предчувствие. – А тебе, пердун старый, больно смешно, я смотрю?
– Анекдот вспомнил, – щерится он кривой улыбкой, поправляя очки.
Хитрый хрыч, да что тебе известно? Да ни черта ты не знаешь!
– Тогда, сынок, ты согласишься пройти проверку на психоскопе? – невозмутимо встревает женщина.
Психоскоп, дьявольская шкатулка с зеркалом. На психику не среагирует, но уж отпечаток я оставлю. Проходили же в маслорельсе – и никто не подкопался. Точно! Я – Вилли Кибельпотт, и у меня есть Кибельпоттов…
Палец.
– Чего побледнел? – шрамы ползут по лицу женщины, когда она ухмыляется. – Потерял что?
Его палец – и мой трофей – тоже остался в куртке. А эти цеховики, может, и легаши, но не идиоты. Наверняка уж сравнили пальчик с картинкой в документах, повесили на него бирку – и пихнули в коробку с другими обрубками. Уверен, у чертовых легашей для всего есть подписанная коробка.
– Волки позорные, – во рту стало суше некуда. – Всё разнюхали, а в законников никак не наиграетесь. К чему это? Чего тебе еще сказать?!
– Правду! – женщина рявкает. Старик охает от неожиданности.
Меня начинает подташнивать. В груди распускается скользкий цветок – драматично красивый, но воняет трупными мухами. Так расцветает отчаяние – и его тлетворный запах выдает тебя с головой. Можешь врать сколь можно убедительно, заламывать руки, но всё это бессмысленно, когда ты даже потеешь отчаянием.
– Бруг.
– Не слышу?
– Бруг! – я захлебываюсь своим именем, как бешеная псина пеной.
– Откуда?
– С запада, – выдавливаю я.
– Точнее!
– Скажу – не поверишь, – кровь проклятого народа играет во мне. Чувство отчаяния сходит волной по песку, и я улыбаюсь инстинктивно – как если бы предки потянули мой рот за ниточки. Наверное, Бруг со стороны – точь-в-точь республиканский фанатик. Такие улыбаются и в петле, и волоча кишки по полю брани.
Нет, я не люблю свою родину – там больно, там не хочется больше жить. Но мысли о ней вызывают во мне необъяснимую гордость.
– Говори, – женщина хмурится, но стоит на своем.
– Глушота.
По щекам женщины проходит рябь, и шрамы опускаются вместе с ухмылкой. Старик, поперхнувшись, косит пуще прежнего.
– Блефуешь, – мастер часто моргает в неверии.
Я же хохочу как обезумевший. Да, черт тебя побери, Глушота! Причитай, женщина. Молись своим богам, старик. Перед вами вымирающий народ, ночной кошмар всех южных детей!
– Предупреждал же, – я весь горю от возбуждения. Таборяне горят всю жизнь. От чужого страха, от собственной похоти и ярости сечи. Всё это заставляет нашу кровь кипеть. Наверное, поэтому нас прокляли, давным-давно заперев в Глушоте. Убили нашего Пра-бога, но не нашу самость.
– Врешь, гнида респова, – оторопь мастера прошла, и она вдруг хватает меня за ошейник. Железо врезается в шею, срывая с губ улыбку. – Таборянам нет дороги из Глушоты, бред утверждать обратное. Врасплох застать хотел, ага?
– Видишь ли, я уникальный, – хриплю в железной хватке. – Но никто тебе того не подтвердит. Кто мог, уже в могиле отдыхает. Кто еще может, кх-х, остался в Глушоте.
– Перестань, во имя Хрема, нести чушь, – мастер дергает за цепь так, что я привстаю на коленях. Сколько же силы у этой бестии, чтоб так дыхание схватывало? Ее сбитая переносица уже не маячит перед глазами, но начинает плыть. Как и узкие глаза цвета болота. – Все вы респы одинаковые. Языком чесать горазды, а как жареным запахнет…
Железный обод вдавливает кадык внутрь. Самый-лучший-абажур отчего-то меркнет, рассыпав по сетчатке бурых пятен.
– Таби! – обеспокоенно трещит Строжка. – Задушишь-то.
Она шумно выдыхает, отпуская ошейник. Я валюсь навзничь и больно бьюсь затылком о стену.
– Мы отвлеклись, ага, – продолжает мастер, разминая мозолистые пальцы. Она возвращает лицу невозмутимость – словно и не она вовсе душила старину Бруга. – Следующий вопрос. Где Вильхельм Кибельпотт? Настоящий Вильхельм.
Я тру ушибленную голову, и в ней отдается пониманием, что лучше этой бабе не врать.
– Вышел по дороге, – кривлюсь я. – Только вот никто не сказал дурачку, что стоит дождаться полной остановки маслорельса.
– Вот гамон! – в сердцах ругается мастер.
– Ёкарный хрок… – ерзает на табурете Строжка.
– Да не расстраивайтесь так, – махнул бы рукой, не будь кандалов на запястьях. – Он был грязью, вот и стал грязью! Ваша обожаемая Бехровия ничего не потеряет без старины Вилли…
– Отставить, – мастер с великим трудом сохраняет самообладание. – Мне глубоко наплевать, праведник он или гамон последний, как ты. А вот на что мне не наплевать, так на его семейку!
– Ну, Билли и этот, как его, – неуверенно отвечаю я, – на «Г» который…
Мастер резко отворачивается, сжав кулаки до белых костяшек. Не на «Г», что ли?
– Билхарт и Гелберт, коли быть точным, – робко поправляет старик и, покосившись на начальницу, добавляет шепотом. – То бишь два первых человека в Белом братстве. А Белое братство – энто, кхем…
– Самый, Хрем тебя дери, влиятельный цех в городе, – мастер гудит как масел-котел, – который еще и точит на нас зуб, зараза!
– Триста двадцать сем бойцов – не хухры-мухры, – задумчиво добавляет Строжка.
Вилли Кибель-всмятку-потт и правда говорил что-то о «фирме папаши»… Но кто же знал, что «фирма» – чертов цех. Эх, Вилли-Вилли, говорил бы ты больше по делу, так и в живых бы остался.
– До сих пор мы чудом держались, – мастер оборачивает ко мне лицо, обезображенное злобой. Она ширит ноздри, что дикая зобриха, и неправильно сросшийся нос ее кажется еще кривее. – А почему? А потому что цеховой кодекс запрещает открытое кровопролитие. Им запрещает, гамон.
– Всё под контролем – даю слово Бруга, – заверяю я. – Если Вилли и отскребут от шпал, то кто его узнает? Шмат мяса и похож на шмат мяса.
– Оставь своё «слово Бруга» для суда, – бушует мастер.
– Таби, а ты не хочешь, кхем, еще подумать? – вполголоса вставляет старик. – Коль выдадим бедолагу Братству, авось Билхарт от нас отстанет? Дык не будет же он точить зуб на тех, кто ему убийцу братца сдал…
– И слышать не желаю! – отрезает Табита. – Кто ему объяснит, почему мы этого гамона у него из-под носа вынесли? Я? Может, ты? Нет, достаточно и того, что Вильхельм пропал якобы в нашем квартале. А если Кибельпотты узнают, что мы об это дело и сами замарались, то в благородство играть не станут. Отыграются на нас за всё, – мастер вздыхает. – У моих с Билхартом тёрок слишком старые корни, Строжка. Я ему поперек горла, ага.
– Уж прости старого, что напомнил, Таби… – поникает старик.
– Выходит, Бруг нужен вам, – я не сдерживаю улыбки.
– Не тешь себя пустыми надеждами, одержимый, – цедит она сквозь зубы. – Если Братство или констебли каким-то чудом про тебя разнюхают, обещаю: ты мигом прогуляешься под фонарями.
– Какими еще…
– Узнаешь, – перебивает она. – Строжка, мы засиделись. На выход.
– Какими еще фонарями, мать вашу!
Мой вопрос разбивается о полотно двери – и тает в спертом воздухе.
Я проснулся от крути в желудке. Не знаю, наступили ли следующие сутки или то были те же самые, но жрать хотелось и притом сильно. Казалось, желудок весь сморщился, стал не больше прошлогоднего каштана.
Однажды, в тот момент, когда я от скуки и голода ковырял трещины между кирпичей, в подвал забежал Лих. Бросив на меня косой взгляд, парень подхватил ведро самыми кончиками пальцев.
– Не воротись, – прыснул я. – Это плевки жижи, а не то, о чем ты подумал.
Лих осторожно заглянул в ведро и весь скривился.
– А ты типа… – Лих замялся. – Не ел тех мужиков?
– Нет, – я фыркнул. – Тот, в кого оборачиваюсь, не ест по-настоящему. Только играет.
– Ну и игры у него, дядя, – Лих опасливо покосился на меня. – А в кого ты оборачиваешься?
– Да черт его знает.
– На одержимого ты, если честно, не похож. Они с концами обращаются, а обратно – никак.
– Вот-вот, Лих! – я постучал пальцем по виску. – Всем бы твоим дружкам такую догадливость. Деду, бой-бабе, сестростерве – всем расскажи, что Бруг не бес. И пусть жратвы принесут.
– И типа… – парень пропустил мимо ушей мое требование трапезы. – Тебе совсем не интересно, что ты… ну, то есть «кто» ты такое?
– Наплевать абсолютно, – отрезал я. – Меньше знаешь, крепче спишь. Так на западе говорят.
– Я б не смог как ты, – Лих обнял ведро, позабыв о содержимом. – Я б к лекарю сходил… Вдруг болезнь какая. Или в храм типа… А то вдруг и такие бесы бывают?
– Да не одержимый я! – рявкнул, раздраженно прикрыв глаза. – И вынеси уже это гребаное ведро. Если можешь – на другой конец города.
– Я же того… – спохватился Лих. – Просто так спросил.
Тогда я промолчал. А когда вновь остался в камере один, долго еще сверлил взглядом стену.
Как же хочется жрать… Если Лих меняет ведро дважды в день, то сегодня третьи сутки после жмых-жижи. Если же только раз в сутки – значит, пора грызть пальцы. Хорошо хоть, в черпаке приносят воду, чуть реже – какой-то горький отвар. Да разве на нем далеко уедешь?
Замечаю, что о чем бы ни думал, куда бы ни направлял колоссальную силу мысли Бруга – всегда возвращаюсь к началу. К голоду. Если так сходят с ума, то мне не нравится.
Абажур теперь кажется похожим на апельсин. А бинты на животе напоминают вареное тесто, нарезанное толстыми полосками. В Глушоте его подавали на огромной плошке, а сверху – щедрая гора зобрятины, брызжущая соком от жаренья.
Но на моем животе «тесто» заветрилось и прибрело неаппетитный вид. Пора бы поменять, вот только никто не спешит обхаживать старину Бруга. Ну, зато брюхо больше не болит.
Вдруг слышу голоса. Затем – лязг засова. Мой рот полон слюны, а под сердцем тревожно урчит.
– Да не-е-е-ет… – протягиваю я, когда в конуру Бруга заходят двое.
Бой-баба и дед. Эти ведь даже воду не принесут!
– Просыпайся, ошибка природы, – командным голосом приветствует Табита. – Разговор есть.
– Не веду беседы на пустой желудок, – похлопываю себя по бинтам.
– Хочешь умереть от голода – валяй, – бой-баба скрещивает руки на груди. – Твой ошейник сдержит и свинуша, а ты всё слабеешь и слабеешь с каждым днем. Мы можем зайти и в другой раз.
– Коли поговорим толково, – вкрадчиво уступает Строжка и поправляет очки, бликующие от проделок абажура, – будет тебе и перекус, бедолага.
А старик умеет убеждать. Хороший дед, он мне сразу понравился.
– Ладно, уж болтать, так болтать, – обмякаю в расслабленной позе. Насколько позволяет тяжесть цепь, разумеется.
Убедившись, что в моем ведре пусто, Табита переворачивает его и садится сверху. Строжка остается у стены – на почтительном расстоянии.
– Итак, прежде чем перейдем к делу, – Табита, по-мужски широко расставив ноги, упирает руки в колени, – я напомню тебе всё, что ты натворил.
– Решили на совесть надавить? – я перевожу взгляд с женщины на старика. – Я разве не намекал, что это бесполезное занятие?
Строжка вдруг кашляет.
– Догмат номер тридцать четыре: «субъекту, виновному в злодеянии, цех обязан предоставить список оных злодеяний до начала законного разбирательства», – отстраненно декларирует он. – То бишь, прежде чем передать нарушителя констеблям для суда, нам должно нарушителю разъяснить, за какие провинности-то его арестовали.
– Так Бруг нарушитель? – я фыркаю, но тюфяк подо мной становится самым неудобным тюфяком в мире. – Я-то подумал, что стал уже чем-то вроде домашнего животного.
– Спасибо, Строжка, но это было лишнее, – не реагирует на меня Табита. – С ним надо по фактам.
– Ничего, – пожимает плечами старик, – просто надобно формальность соблюсти.
– Итак, шестого дня от начала месяца Рюеня… – вынув из кармана листок бумаги, заводит женщина. Ее голос звучит напоказ безразлично, как если бы всё, что она читает вслух, было не серьезнее списка блюд в корчме.
– …человек, назвавшийся именем «Бруг», совершил жестокое убийство Вильхельма Хорцетца Кибельпотта, кума Республики, и уничтожил тело. В течение предыдущего месяца некто «Бруг», по предположению цеха имени Хрема, незаконно пересек границу Республики и Преждер. Потом – проник в маслорельс на вокзале Преждерского княжества.
– Что должно проверить присовокупительно, – добавляет старик.
Чем дольше они говорят, тем сильнее тюфяк походит на каменную глыбу. Пласт прелого сена твердеет подо мной, точно надгробная плита.
– Итак, незаконно завладев документами убитого… – продолжает Табита. Ее челка подстрижена как по линейке, образцово. Не из-за этой ли математической строгости взгляд ее кажется столь острым?
– …«Бруг» проник, снова незаконно, на земли вольного города Бехровия. Где был уличен в нападении на группу неизвестных – с убийством двоих. Предположительно, граждан города.
– Что тоже должно проверить.
Не тюфяк, а пыточный стул. Готов побиться об заклад, что люди раскалываются, только сев на него.
– Этот же «Бруг» оказал вооруженное сопротивление цеху. И наконец, проявил способность к самоисцелению и ворожбе над предметом – так называемой «Цепью». Что может говорить о неслыханном случае контролируемой одержимости.
– Ибо, кхем, – вставляет Строжка, – не обнаружены традиционные признаки конечной одержимости, как-то: вздутие органов, деформации костей, потеря рассудка, и прочее, и прочее…
Я врастаю в тюфяк, но хочу провалиться сквозь него. Забиться в тот тихий грязный угол, где можно не вспоминать о безвыходном положении Бруга.
– Строжка, дай выжимку, ага? – просит женщина. – А то у него мозг вскипел.
– Сейчас-сейчас… – старик пожевывает губами, мысленно вычленяя главное. – Итого, по законам Республики, коли его вышлют стяжателям Комитета, за переход границы и убийство Кибельпотта – казнь через забивание гвоздя в лоб.
– А по нашим?
– По нашим законам, то бишь по бехровским, за переход границы, подделку бумаг и трижды убийство… – Строжка чешет нос. – Дык тоже казнь-то. Но с порицанием да через фонари.
– Или?
– Шутишь над старым? Ведь это исключительный экземпляр обратимой одержимости! – да у деда самого в глазах пляшут одержимые огоньки. – Коль гремлины прослыхают, дык мигом упекут в Башню Дураков! Попасть-то в Башню легко, а вот покинуть …
– Другими словами, – бесстрастно объясняет Табита, – разберут тебя на куски, посмотрят начинку, а потом кое-как соберут обратно. И будут ставить опыты над психикой, пока не превратишься в желе.
– Бругожеле, – вырывается у меня.
Дед с мастером переглядываются:
– Чего?
– Выходит, мне только подохнуть осталось, – нервно выдавливают мои голосовые связки. – И вы даете мне выбрать: либо Бругожеле, либо Бруг-с-гвоздиком, либо Бруг-под-фонарем.
– Какой всё-таки смекалистый, – хихикает старик.
– Вот я и выбираю, – уже ощущаю, как тюфяк плотной соломенной суводью закручивает меня в пучину конца. – Бругожеле.
– Смекалистый, а не совсем, – поправляется Строжка.
– Совсем не смекалистый, – ухмыляется шрамами Табита. Темное торжество пляшет под ее холопской прической. – Потому что есть еще четвертый способ сдохнуть.
Голова кружится, во рту становится сухо. Я не в настроении, да и вообще – не любитель подобных выборов. Но не узнать четвертый вариант – значит, жалеть об этом до самого Бругожеле.
Будь проклят этот Нечистый. Как бы всё было просто, если б я мог обернуться прямо сейчас… Тогда бы Бруга не остановил ни ошейник, ни кулаки Табиты. Но Нечистому требуется время, чтобы набраться сил и психики. Даже чудовищам нужен отдых.
– Видимо, выбора у меня нет, – безжизненно говорю я. – И каков же последний способ?
Табита расплывается в неприятной усмешке:
– Вступить в цех Хрема.
ГЛАВА 5. Вкус товарищества
Широкое распространение в Бехровии шагающих машин – и теперь повод для насмешек в республиканских концернах. Меж тем, сохраняя хладность ума, смею отметить: при несомненной дороговизне производства и хрупкости движителей шагоходы не так безнадежны. Их отличают высокая проходимость на пересеченной местности, лучший обзор для возничего и… эффект устрашения. Да-да, трудно поверить, что Глёдхенстаг всерьез готовится к боям на своей территории <…> Однако примечателен случай, когда убежденный шпик и провокатор Комитета по имени <стёрто> (позывной «Живодёр») дезертировал от одного вида железных чудовищ Бехровии.
Клаус Шпульвиски, доклад на XII Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции
В обеденной правит полумрак. Только свет очага пляшет по стенам огнефеями, да свечи роняют отблески на длинный стол, изъеденный жуком. Обеденная – в прошлом молельный зал кирхи. Кирхи, ныне заброшенной и утратившей блеск, но бывшей когда-то храмом старых божеств Востока.
Теперь на Востоке нет других богов, кроме Императора. Пролитой кровью и дымящими заводами он искоренил все старые культы: вековые песни вырваны с языками, их знавшими; тысячелетние легенды забылись. Каменные идолы, старше самого человечества, обрастают мхом или водорослями, и лишь болотные гады и рыбы морские приходят к ним на поклон.
Но здесь, в ветхой кирхе на самом краю Бехровии, угасшие духи Востока не разучились ждать.
Взирают с брусовых стен исполинские бородачи, вырезанные в дереве. Их меха, топоры и рогатые шлемы давно потемнели и выщербились по краям. По стропилам слетают крылатые девы. Где-то обожженные до углей, где-то содранные по небрежности, они поют полчищам маленьких восточан, что беснуются, вдавленные в колонны. Восточане сшибаются в жестокой сече, мрут, оживают, блудят и пьянствуют – чтобы на новом витке колонны опять порубить друг дружку на куски.
И так раз за разом, пока сумасшедший круговорот жизни и смерти не поднимет их по стволам к самому потолку. А наверху, где продыху нет от въевшейся сажи, закончится их путь, обещавший быть вечным. В темноте, под слоями копоти. В забытьи.
И под эту бесшумную резню я ковыряю ложкой в миске. Я ем этот неведомый холодный суп с большой охотой, делая такие большие глотки, насколько позволяет ошейник. Желудок наливается приятной тяжестью – пока в однородно-пунцовой, кислой с горчинкой массе супа не всплывают какие-то… продолговатые предметы.
– Что это? – хмурясь, задаю вопрос всем и одновременно никому. – Большущие червяки?
– Ага, – напротив по столу поддакивает Лих, роняя изо рта хлебные крошки, – глисты-переростки!
Но тут же вскрикивает от звонкой затрещины: Вилка сидит рядом.
– Дык то бехровские миксины, – Строжка прихлебывает гешир из блюдца и с гордостью поднимает палец кверху. – Пресноводные, во как! Такие токмо у нас живут, эндемиком считаются.
Я недоверчиво поддеваю миксину ложкой, но та скатывается обратно и уходит на дно. Червеобразно, несъедобно, пугающе.
– Жрать-то их можно? – уточняю я.
Справа от Лиха раздается презрительное фырканье.
– По-твоему, тебе их в ботвинью просто так положили? – Вилка каждый раз заново убивает меня взглядом – кусачим и злым, огрызающимся из-под косой челки. – Уж если б хотели отравить, то не переводили еду на такое убожество.
Так это ботвинья… Странно, что самой ботвы в супе не видать.
– Это точно, ага… – зевает Табита, разглядывающая на просвет стакан мутного виски. Уже полупустой и к тому же не первый. – Но кажется мне, скоро нас тошнить от рыбы будет. С тех пор, как респы в Княжествах, торговля совсем никакая.
– А меня уже тошнит, – огрызается Вилка, закидывая ноги в сапожках на край стола.
Похоже, я распробовал супчик. Кислинка в нем – от кваса и щавеля, мягкая горечь – от редьки и репы. Ну а хваленые миксины – всего-навсего копченые рыбешки, только без косточек. Необычное блюдо, совсем не западное – но с голодухи я вычистил миску до блеска.
– Раз тошнит, то поделилась бы с голодным стариной Бругом! – подмигиваю девчонке, облизывая еще соленые от миксин губы. – Мы же теперь товарищи по цеху как-никак.
– Да от тебя меня тошнит, – рот Вилки – треугольник презрения. – Не раскрывай свою пасть, «товарищ». Так от тебя только сильнее пасёт.
– Я тебе и не целоваться предлагаю, – хмыкаю в ответ. – Но за добавку обещаю умываться утренней росой, а рот розовой водой полоскать – если тебе так хочется. Дважды в день!
– Ты вконец сумасшедший, да?
– «Романтик», ты хотела сказать?
Лих от смеха давится хлебом, Строжка обеспокоенно-шумно дует на гешир, а Табите, кажется, поровну на нашу перепалку сквозь призму бурого алкоголя.
Вилка резко спускает ноги, готовая вскочить:
– Ты просто идиот, – ее тонкие пальцы ложатся на кнут, обернутый вокруг талии.
– Или романтик?
– Идиот!
– Или…
– Прекратить, – Табита с грохотом опускает пустой стакан на стол. Как раз вовремя: похоже, у Вилки глаз дергается. – Ты, Бруг, заткнись и жди добавки молча. А ты, Вилка, поверь: если твой многоуважаемый мастер решила усадить кого-то за общий стол – значит, на то есть веская причина.
– Субординация, – многозначительно вставляет Строжка между глотками гешира.
– Он вчерашний преступник! – Вилка сдувает челку, что лезет в глаз и только сильнее ее распаляет. – Убийца, перевертыш… Дикарь! Серьезно, дикаря за стол?!
– Если всё сложится, этот «дикарь» станет полноправным цеховиком, – Табита с приятным «чпоньк» откупоривает начатую бутылку виски. – Нашим цеховиком. И раз так, лучше уже сейчас вам начать притираться…
– Пх-х, притираться, – Лих хмыкает в кулак.
– Не буду я к нему притираться! – вскакивает девчонка.
– …характерами, – кончает Табита.
Вилка сжимает-разжимает пальцы – точно вцепится кому-то в лицо. И я не питаю иллюзий, чью симпатичную мордашку она предпочтет расцарапать в первую очередь.
– Что-то ты переволновалась, – спокойно, как вол, продолжает Табита. Чудится, ее больше волнует, как бы не пролить ни капли виски, чем душевное равновесие Вилки.
– Я. Не. Волнуюсь, – уверяет Вилка сквозь зубы. Выходит, разумеется, крайне убедительно. – Пусть сидит здесь, хорошо. Пускай ест нашу еду! Но когда он опять озвереет… Когда убьет кого-то или кто-то умрет из-за него – вы поймете, как говенно облажались.
Табита отпивает из стакана, блаженно опустив веки.
– Лих, проводи сестру в комнату, – приказывает она. – Хорошо бы ей вспомнить, как разговаривать со старшей по званию, и сделать выводы.
– Эх, дочурка… – Строжка с грустью ставит чашку на блюдце.
Лих поднимается с насиженного места, но Вилка бросает на него такой испепеляющий взгляд, что тот с силой плюхается обратно.
– Ладно-ладно, не очень-то и хотелось… – поднимает он руки, как бы сдаваясь.
– А ты, – вот и моя очередь превращаться в пепел – от пылающих серо-голубых глаз, – берегись. Один косяк – и ты труп.
Она снимает со спинки стула мятый плащ – цвета мокрого камня, и исчезает за колонной.
Где-то в глубине кирхи скрипят несмазанные петли, и по ногам стелет сквозняком.
– Хорошенько притерлись, – я поскреб миской стол, изображая трение.
– Она всегда с пол-оборота заводится, – Лих хватает с подноса пирожок. Готов побиться об заклад, тоже с миксинами. – Но чтоб кто-то та-а-ак ее выбесил… Никогда не видел!
– Энто ей желтая желчь-то в голову бьет, – старик качает головой. – Издержки молодости: гуморы бурлят.
– Пройдет, – констатирует Табита, хрустнув шеей. – Но ты, Бруг, не заигрывайся, ага? Мы с тобой не друзья и связаны только договоренностью. Ты нам, мы тебе. Никаких симпатий – просто сухая работенка.
– А это тоже часть нашей договоренности? – показываю на свой ошейник. Он новый, не тот, что был в подвале.
– Именно, – Табита кивает. – Это гарантии.
– Гарантии того, что я до конца дней своих буду ходить на поводке? – я скрещиваю руки на груди. – Тогда вам следовало присобачить к ошейнику цепь. Или вы не в курсе, как работают ошейники?
– Мы-то знаем, что да как с энтим ошейником, – Строжка поправляет очки. – К нему никаких поводков не надобно. Токмо вовремя настраивать механизм, смазывать…
– Какой еще, к черту, механизм? – насупливаю брови.
– Прости уж, братец, – виновато моргает старик, – запамятовал, что ты у нас новенький. Энтот ошейник – гремлинова работа. Они их раньше сами пользовали, чтоб каторжан в узде держать, хе-хе… Да каторжане посмирнели, когда гремлины покопались у тех в гуморах, вот и…
– Строжка, давай ближе к делу, ага, – вздыхает Табита, зевнув над заново полным стаканом. – Меня от твоих лекций в сон клонит.
– Любите же вы старика затыкать, молодежь, – ворчит дед. – Так вот, если ты, братец, пощупаешь ошейник за загривком… Да, в энтом самом месте. То найдешь, значит, винтик. Эй, аккуратнее с ним! Не то убьет.
Я вмиг отдергиваю палец от выпуклой, ушастой головки болта.
– С чего это он меня убить должен? – усмехаюсь я. – Слышал, что курение убивает. Что выпивка – тоже. Но чтобы винтики…
– О! – оживляется Лих. – У меня так приятель гвоздей съел. На спор, за бутылку водки. Он гвозди даже пожарил сначала! А всё одно потом живот резали.
– Но спор-то он выиграл? – хмыкаю я.
– А то! Только от гвоздей у него в животе язва открылась, – Лих широко улыбается. – И водку ему теперь нельзя!
– Смейтесь, смейтесь, – брюзжит Строжка. – Да токмо, если винт особым способом не подкручивать, он сорвется – и оп-ля! Насквозь пройдет и не заметит. Пробуравит шейные позвонки, точно хлебный мякиш.
Мне и правда становится не до смеха. Может, я и живучая тварь, но не настолько, чтобы обходиться без шеи.
– И вы правда думаете, – я щурю глаза, – что во всем вашем городишке старина Бруг не найдет никого, кто снимет эту игрушку?
– Рассмешил, ой рассмешил! – неисправно скрипит дед и хлопает по столу худой ладонью, густо усеянной старческими пятнами. – Как найдешь согласного, дык покажи мне энтого умельца! Токмо знай, что неправильная подкрутка тоже смертью чревата… Тут инструкция важна! А гремлины ее невесть кому не раскрывают…
– Просто потрясающе, – выдыхаю я. – И сколько времени у меня в запасе до… «подкрутки»?
– Четверть суток, – сухо отвечает старик. – Но лучше загодя подкручивать… Одни боги знают, насколько надежна эта гремлинова приспособа, хе-хе.
Восхитительно. Просто восхитительно. Мало того, что я буду зверушкой на побегушках, так еще и на счетчике! Каждые чертовы шесть, а лучше пять часов придется терпеть артрозные старческие пальцы на холке. Скажи кто-нибудь неделю назад, что жизнь Бруга будет зависеть от рассеянной памяти деда-склеротика, я бы рассмеялся тому в лицо. Обмолвись кто-либо, что я буду гонять харчи в пыльной кирхе, связанный «гарантиями» занудных легашей… О, я бы как следует дал тому под дых.
Но жизнь – подлая сволочь. И остается только одно. Стать сволочнее нее.
В глубине кирхи хлопает дверь. Тяжелое громыхание шагов сотрясает мои мысли.
– Добавка, – хмельным, неровным голосом объясняет Табита, откинувшись на спинку стула.
– Ой, не, – Лих держится за живот, глубоко выдыхая. – Еще хоть кусок, и на мне дублет разойдется.
Огромное, вдвое выше человека существо возникает между колонн. Его необъятное пузо, покрытое серой щетиной, кажется, растет прямо из шаровар – таких просторных, словно сшиты из цельного паруса. Ручищи и гнутые ноги, толстые как бревна, оканчиваются пальцами-копытами, а каждый кулак – размером с мою голову. Бочковидная грудь, огромная клыкастая голова, вдавленная в покатые плечи минуя шею… Зверь мог выглядеть еще свирепее, если б не одутловатая морда – с выражением полного смирения на ней.
– С Хорхой вы уже знакомы, – ухмыляется Табита. – Он волок тебя на плече от самой станции, ага.
– Точно, – поддакивает Лих, – и та-а-ак тебя о стену приложил! Клянусь, я даже грохот слышал!
– Ну спасибо, э-э-э, Хорха, – я смотрю на зверюгу снизу-вверх. Мне становится не по себе, когда я вспоминаю, с какой легкостью тот оторвал меня от земли. Как пушинку.
– Хорк-ха, – отвечает полулюд, навострив широкие рваные уши.
Когда Хорха не то говорит, не то хрюкает, его обвисшие жирные щеки трясутся под пучками дымчатого меха – почти что студень. Доброжелательная улыбка? Злобный оскал? На серой морде сложно различить какие-то эмоции – уж больно нечеловеческая у Хорхи мимика. А от глаз-бусинок и вовсе остался только черный блеск – так прочно они угнездились в складках нависших бровей.
– Хорха-то у нас парень ладный, – успокаивает Строжка, как бы секретничая со мной. – Сила животная, а нрав… Столько доброты ни в одном человеке нет.
– Хорк-ха тха-гу, – отвечает полулюд и согласно дергает пятачком на оплывшем кабаньем рыле. Я только сейчас замечаю, что в руках у него – массивный котелок. Хорха опускает его на стол, лязгая крышкой, и из зазора валит пар с насыщенным рыбным запахом.
– Свинуш-цеховик, – озвучиваю я свое внезапное открытие.
– Наблю… дательный, – икает Табита.
– Но ведь свинуши как рабы, – недоверчиво объясняю я свое удивление. – В Республике они за еду и крышу работают, а здесь… Цеховик?
– Бехровия – свободный город, сынок, – гордо поясняет Табита. – Бесправных здесь не бывает, ага. Что человек, что гремлин, что свинуш – разницы нет. Здесь каждый получает ровно столько, сколько может заработать честным трудом. А респы – просто гамоны. И их гамоново «равенство» – пустая брехня.
– А где ж мои права, раз Бехровия такая вся из себя замечательная? – огрызаюсь.
– Вместе с правами приходят и обязанности, – отвечает женщина. – Так что, как мастер – цеховику, советую тебе перестать вякать о своих законных правах, не то придется и за преступления по закону ответить.
– Когда мы Хорху взяли, – скрипит старик, пытаясь сменить тему, – он-то на котельной трудился. Угольщиком, значит. Совсем плохой был, тощий, больной…
– Хозяин котельной споил его, гамон, – Табита выпячивает челюсть. – Дошло до того, что Хорха работал за спирт, будто мы в каком-нибудь Стоцке! Но мы всё утрясли… По-своему, – она мрачно улыбается, прикрыв глаза болотного цвета. – Иногда можно и забыть о правах тех, кто сам о чужих правах забывает.
– Таби! – шикает на нее Строжка.
– Но это неправильно, ага, – поправляется женщина. – В общем, Хорха теперь полноправный цеховик.
– Мы-то отучили его от спирта, да вот от силосной водки никак не удается… – гнет свое Строжка.
Помбей. Я вдруг вспоминаю, как расплескал флягу этого пойла тогда в Прибехровье.
Какая же хитрая баба…
– Так вот на кой черт ты достала помбей, когда мы вели нашу милую беседу, – щурюсь я. – Ты приманила свинуша на запах.
– Ха, раскусил-таки, – довольно щерится Табита. – Ловкий прием, ага?
– Шельма, – цежу я, обиженный на себя за собственную глупость. Я ведь еще и сам метнул ту дьяволову флягу… А для чуткого свинушьего обоняния это было похлеще взрыва на парфюмерной фабрике. Идиот.
Лих, до того сосредоточенно ковырявший в зубах плоской деревяшкой, вдруг влезает в разговор.
– О, точно! – выплюнув щепку, он проводит языком по зубам. – Этот трюк еще дядя Яков выдумал. Ну, когда он еще…
Лих внезапно умолкает, словно сболтнул лишнего. Он опускает взгляд в стол, а Табита меняется в лице.
– Лих, етить тебя… – шепотом ругает его Строжка.
– Мы засиделись, – гробовым тоном объявляет мастер. – Подъем рано, а вы тут… языками чешете.
– Ну, я просто… Того… – жалко оправдывается Лих, поскребывая ногтем по пустой миске.
– Отс-с-ставить, – обрубает Табита, поднимаясь из-за стола. Несмотря на количество выпитого виски, движения женщины остались ровными, чего не сказать о заплетающемся языке. – Я уш-ла. И вам стоит. Строжка, – она бросает на старика холодный взгляд из-под горшка темных волос, – дальше сам.
– Хрок-ха н-ху на? – вопросительно хрюкает свинуш, обнажив желтые клыки.
– Доброй ночи, ага, – завершает она и, накинув на плечи чернильный плащ, пропадает за колонной.
В кирхе воцаряется неловкое молчание. Ровно до тех пор, пока не хлопает входная дверь.
– Это что еще было, дружище? – не выдерживаю я.
– Дядя Яков, – вполголоса повторяет Лих, – больная тема…
– Лих, ёкарный ты балбес! – скрипит на него Строжка, строго сверкнув стеклышками очков. – Помолчи-то уж, ради богов. Тебя в разведку не возьмешь, всё-то выболтаешь…
– А я что? – Лих надувает губы. – Я ничего…
– Ой, – дед отмахивается, – чем трепаться попусту, ступай-ка и проводи братца Бруга до его комнаты.
– Понял, понял, дед, только не зуди, – фыркает Лих.
– Мне кто-нибудь уже расскажет грязные тайны цеха или нет? – не унимаюсь я.
– Всё-всё, разговорчики завтра, молодежь, – ворчит старик. – Я встану с зарей-то, дык тогда и ошейник утром налажу, пока спать будешь… Всё настроение отбили, экие вы.
Собравшись пойти прочь, я закатываю глаза. Но тут же вспоминаю про котелок на столе, уже успевший расстаться с жаром и паром:
– Погоди, дружище, а добавка?
Но Строжка, оказывается, сложил очки в кармашек на груди и куда-то уковылял. Уверен, он прекрасно расслышал мои слова, но прикинуться глухим ему показалось лучшим выходом. Удобно ты придумал, ушлый старикан.
В обеденной остался только немногословный свинуш. Хорха уже схватил котелок в охапку и другим копытцем сгребает грязные плошки-поварешки в свернутую скатерть.
Ну и Лих, конечно – опершись о колонну, напевает какой-то незнакомый мотив. Парень старается делать праздный вид, но не высказанная им обида повисла в воздухе, явная и почти что осязаемая.
– Ты там скоро?
– Да-да, дружище, – усмехаюсь я невесело. – Уж не терпится осмотреть свои хоромы.
Скорей бы спать – и с головой в рабочие цеховые будни!
Нет, шучу.
Мое новое жилище роскошью не отличается. Горемыку Бруга поселили в полупустом двухэтажном бараке, возведенном на заднем дворе – между кузней и дощатым гаражом для мудреных местных кибиток. Лих рассказал, что раньше, когда цехом руководил таинственный «дядя Яков», бараки были битком: цеховиков селили по двое-трое и даже делили здание на мужскую и женскую части.
Куда пропал Яков – тайна, покрытая мраком. Но, какая бы участь его не постигла, ныне цех Хрема находится в упадке. Большинство цеховиков плюнуло на Табиту и разбежалось по городу: одни вступили в Белое братство и иные цеха, другие подались в констебли или вольные кондотьеры, что охраняли питейные заведения и усадьбы богачей… А третьи – встали на путь криминала. К счастью для этих третьих, Калека, личность даже более загадочная, чем таинственный Яков, своим бандюгам платил щедро.
В цехе Хрема осталась лишь жалкая горстка – и заселила второй этаж бараков, где было суше осенью и меньше насекомых летом. Нижний этаж остался под склад всякого хлама – наследия лучших времен. Лих объяснил, что Табита уже не один год порывалась устроить там уборку, но Строжка всякий раз был агрессивно против ревизии драгоценного мусора. Утверждал, что там «всё нужное» и «авось пригодится». Но на деле все эти одежды, заскорузлые до прочности цемента, потемневшая мебель и бесформенная металлическая начинка, вырванная из невесть каких агрегатов, так и врастают в стены и пол бараков по сей день.
Моя комнатушка на втором этаже тоже знавала лучшие времена. Паркет утратил ровность, дыры в желтоватых обоях сыпали песком, клочками мха и мышиным пометом. В одном углу кособоко притулилась печь-буржуйка – чтоб не окоченеть холодными бехровскими ночами, в другом – скучал секретер, оседланный перевернутым стулом. Прямо у двери караулила койка – простецкая и скрипучая, но матрас на ней неестественно чистый, хоть и просевший посередине под чьим-то грузным брюхом.
Я наспех обмылся в кадке, чтоб не замочить бинты, надел чистое тряпье, бывшее мне не по размеру… И матрас, укрытый бельем с приятным душком дешевого мыла, принял меня в свои пружинные объятия.
Эта ночь стала самой сладкой за последние недели. Меня не беспокоили ни призраки былого, ни разлука с Цепью, ни даже тяжелая железка на шее. Всё это временно, бодрился я.
Временно – как и то, что фонарь под потолком лишен моего любимого абажура.
Утром меня разбудил навязчивый старик. Что-то напевая себе под нос, он долго подкручивал ошейник – тянул, давил, скрипел, не обращая внимания на сонную ругань Бруга. А когда ушел прочь, сна было ни в одном глазу.
На секретере я обнаружил свои нехитрые пожитки, сложенные стопкой. Я удивился, когда вдруг понял, что вся моя одежда отстирана и заштопана. Даже окованные носы на башмаках оказались вытерты от красных разводов и угольной пыли. Единственное, рубашка была другая – ведь старая годилась теперь только на тряпки. Ее, разодранную мохнатой грудью Нечистого, колотую ножом, запятнанную кровью моей и чужой, было не спасти. Но черная кожаная куртка, моя самая верная – после Шенны – спутница, как влитая села на плечи. Чертовски сладкое чувство. Неужели всё налаживается, Бруг?
Ага, конечно, наивный ты увалень. Ошейник тут, а Цепи-то и в помине нет – ни на столе, ни в карманах, ни даже под матрасом. А без нее ты голый и никчемный – и только куртка прикрывает твою беспомощность. Только она, скроенная тобой самим из толстой кожи зобра, придает тебе силы. Делает тем, кто достоин зваться гребаным Бругом.
А пока сожми зубы, вдолби вшивую гордость поглубже, хоть в самую печень – и марш втираться в доверие цеховикам. И хоть о стенку расшибись, но заставь их доверять тебе.
Пусть все узнают: Бруг – любому цеху друг… пока Бругу это выгодно.
Так думал я наверху, расчесывая бороду пальцами. Но, как выясняется теперь, сидеть на месте мне не суждено. Кирха пуста и темна – как взгляд Вилли Кибельпотта, падающего на рельсы.
И только Лих, этот безусый пацан с несмешными шутками, ждет меня внутри. Задрав ноги на стол и пяткой касаясь миски, что соседствует со стаканом чего-то бурого.
– Проснулся, – он зевает, аристократически не размыкая губ. – Давай хавай и пойдем.
Он наглеет вконец и постукивает сапогом миску.
– Еще раз лапти к моей жратве поднесешь, и я тебя схаваю, – я многозначительно провожу пальцем по своему лицу. От пробора в смолистых волосах, через нос и до самой бороды. По заросшей линии, где еще недавно белели зубы Нечистого.
– Ой-ой, – закатывает глаза Лих, нехотя отодвигаясь. Парень не знает, что Нечистый надолго ушел в спячку, – неделю в ведро срал, а тут нате, княжна какая!
Я молча сажусь перед миской. Вчерашние миксины неаппетитно ломаются на языке, а остывший суп черпается сгустками. Даже не разогрели, собаки…
– Ты хавай быренько, – подгоняет Лих, – времени в обрез.
– А куда нам спешить? – с набитым ртом спрашиваю я.
– На дело, куда еще! – фыркает Лих. – Все уже разошлись с первыми петухами. А меня запрягли с тобой няньчиться…
Парень и правда уже собрался «на дело». Облегающие темно-синие бриджи, такого же цвета блуза и сверху – лазурный жакет, украшенный новомодным серебристым узором, что называли «аргальским огурцом». По имени Аргалии, города-порта, чьи торговые армады бороздят Спорное море. Вообще, в каждом порте Хаззской лиги: от Эстура до, собственно, Хаззы, – постоянно изобретают свои «огурцы». И каждый год рынки всего Запада ломятся от новых выдумок приморского бомонда.
– А чего ж ты меня не разбудил, если так от скуки изнываешь? – щурюсь я.
– Ну, э-э-э, – мямлит Лих. В полумраке кирхи кожа его лица кажется неровной от густой россыпи веснушек. – Я как бы беспокоить не хотел…
– Или просто дрых здесь, натирая дыры на портках.
– Ничего не дрых! И нет там никаких дыр, – надувает губы Лих, мигом сев на стуле ровно. – Откуда дыркам взяться, когда одежда только-только куплена?
– А с каким расчетом покупал? – ухмыляюсь я. – Что карманники будут разбегаться, вот-вот завидев твой благородный голубой оттенок?
– Доел, я смотрю?! – Лих вскакивает со стула, и выражение его по-девчачьи ладной мордашки сменяется на уже знакомое мне. Въедливое и злое, как у его стервосестры. – Тогда вставай и идем, дядя.
– Эх, малый, разве не учили тебя, как важен первый прием пищи? – посмеиваюсь я, отодвигая прочь тарелку с ободком из застывшего жира.
– А тебя разве не учили, что карманники – не забота доблестных цеховиков? – передразнивает Лих.
– А что же тогда забота? Девки и вино, наверное?
– Ну да… Ну, то есть нет, не главная забота, – парень снова становится самим собой, замешкавшись и расслабив мышцы лица. – Наша забота – это твари всякие, само собой. Типа… Нечисть там, одержимые… Ой, короче, покажу тебе всё сегодня!
– А оружие мне полагается? Цепь какая-нибудь, например? Например, моя? – я поднимаю бровь, с опаской отхлебывая мутно-коричневое нечто из стакана. На поверку это просто-напросто травяной отвар. Подслащенный медом, он не утратил горечи, но дарит сносное шалфейное послевкусие.
– Таби… Ну, мастер Табита то есть, не велела, – пожимает плечами Лих. – Говорит, ты на волоске висишь, и «испытательный срок расставит всё по местам, ага». Да и черт его знает, где твоя цепочка…
– Бред какой-то, – я со стуком опускаю стакан на стол. – Мне что, залож… одержимых поцелуем разлучать? – даже ввинчиваю таборянские словечки, обомлев от такого абсурда. – Или вежливо просить их повеситься на ближайшем столбе?!
– Да не трусь ты, Бруг, – Лих самодовольно задирает острый подбородок, и по лбу его рассыпаются кудри цвета ячменного пива. – Как положено, любому новобранцу дают цеховика-наставника. А у тебя их целых два! Первый, это я, если ты не понял…
– А второй? – хмыкаю я, уже предвкушая незабываемое наставничество.
– Великолепный Сираль, конечно! – торжественно заявляет Лих и, нагнувшись к спинке стула, вдруг резко выпрямляется – как тетива болтомета после выстрела.
Металлически чиркает, и в вытянутой руке «цеховика-наставника» возникает длинная шпага. Та самая, что гнала мою Шенну в Прибехровье. Чертова шпага… Однако выполнена неплохо. Пусть клинок ее с нехарактерным желобком и много шире, чем у шпаг дуэльных, но отполированная до блеска чашка, защищающая кисть руки, выглядит статусно. Она не из золота и даже не позолочена, да уж больно хитро и тонко сплетены ее дужки.
– Ну, как он тебе? – с плохо скрываемым возбуждением интересуется Лих.
– Нормальный, – с видом ценителя киваю я.
– Просто нормальный?! – Лих возмущенно разрубает над столом невидимую нечисть.
– Хороший.
– Потрясающий! – возмущенно протыкает воздух Лих. – Ты должен сказать, дядя, что это лучший клинок отсюда и до самой Льдечии!
– Да-да, лучший, – соглашаюсь я, а сам прикидываю, за сколько злотых можно заложить эту игрушку в ломбарде. – А чего Сираль-то?
– А, так его ворожей-кузнец назвал. Ну, он-то сам из Хаззы. И говорил, типа, это по-местному… Какая-то самая хищная и свирепая морская птица, вот.
– Чайка, что ли? – усмехаюсь я.
– Сам ты чайка! – Лих возвращает шпагу в ножны. С нажимом так, словно в наказание прячет «лучший клинок» от моих недостойных глаз. – Чайками крылатых крыс зовут, я это точно слышал. А то птица! Хищная, морская!
– Ладно, – вздыхаю я. – Раз хищная и морская, то безоружный Бруг спокоен за свою безопасность.
– Вот и сразу бы так, – вновь задирает подбородок Лих, подхватывая со стула мятый плащ винного цвета. – А теперь пошли уже. Не то ошейник твой…
Я сглатываю, вспомнив про счетчик, на который поставлена моя жизнь. Стальная удавка сразу как-то ощутимее стягивает мне горло, и я спешно поднимаюсь на ноги.
– И правда… – шнурую куртку до середины, и та согласно скрипит. – Пора бы Бругу размяться…
– Тогда за мной, новобранец!
…а когда Бруг разомнется, вы завизжите от восторга перед его мощью. Но от восторга – только вначале.
Я впервые увидел город при свете дня. Впрочем, Прибехровье так и осталось серым, безрадостным муравейником работяг. Запыленными легкими угольщика, что кашляли трубным чадом и отработанной сажей. Солнце, взобравшееся по склонам гор, не делало этот утлый райончик краше. Наоборот.
Здесь было несравненно чище, чем в каком-нибудь Стоцке, тонущем в помоях и уличных свалках, но нищая убогость улиц резала глаза. Веками не мытые, местами заколоченные окна даже не намекали на радушие жильцов. Ободранные фасады бараков пестрели кривыми надписями, либо похабными до примитива, либо состоявшими из символов, значения которых я не понимал.
Лих вел меня по узким, замызганным улочкам, которые бесконечно виляли и разветвлялись, так и норовя увести в слепые дворики. Из одних дворов тянуло куриным пометом и горелой снедью, из других – спиртом. Мой чуткий нюх радостно оживал, припоминая запахи давно забытой панацеи от любых невзгод… Но Лих предостерег ходить туда, особенно в потемках. Мол, самогоном, которым торговали прямо из окон первых этажей, впору только руки обтирать. Да и синие пропойцы, откисавшие во дворах сутки напролет, может, народ и хилый, но подлости им не занимать. Улыбнутся скромно, на стакан поклянчат. А отвернешься, так накинутся исподтишка, толпой да ножичком – и ищи себя по мусорным кучам.
А им бутылка за счет твоих карманов. Им – праздник.
Как только в конце переулка показался проспект, Лих резко отдернул меня. Я пошатнулся, отпрянул к пыльной стене – и мимо прогромыхало нечто несусветное. Запачканный копотью короб, тарахтя и плюясь дымом из трубок позади, чинно прошагал мимо. Отливающий свежей черной краской, большой, выше меня вдвое, он твердо перебирал четырьмя шарнирными лапами. Сочленения лап скрипели, когтистые подошвы поочередно втыкались в крупный щебень – как у наловчившегося жука-инвалида.
– Что за зверюга? – раскрыл я рот.
– Шагоход же, – усмехнулся Лих. – Как будто на западе таких нет?
В ответ я отрицательно помотал головой. Вид стального зверя отдался внутри щемящим чувством ностальгии: эти лапы, грохот, темнота металла и дым напомнили о ходячих городах моего народа. «Гуляй-грады» – так их кликали таборяне и я когда-то. У меня вдруг возникло непреодолимое желание коснуться этого табора в миниатюре, словно мимолетное прикосновение могло на секунду вернуть меня на родину, освежить в памяти ее красоты и неукротимый характер. Я потянулся к шагоходу, вытянул руку, но тот предупредительно замычал. Я вздрогнул, отступил снова… Чтобы заметить сквозь окошко кабины, как внутри двинулся человек.
Он крутил пальцем у виска и бурно шевелил губами, однако толстое стекло не пускало слова наружу. Один черт знает, что он мне пожелал, но уж точно не доброго утра.
– Как он двигается? – спросил я у Лиха, когда шагоход скрылся за поворотом. – Колдовство? Внутри бесы?
– Бесы! Иди ты! – фыркнул цеховик, но вмиг посерьезнел, осознав, что я не шучу. – Вообще-то, у нас тут всё на масле ходит. Ну, то есть почти всё. Маслорельс-то точно на масле, а шагоходы на, э-э-э, типа… Чистом масле? Короче, «бальзам» называется.
Мой живот ужаснулся от мысли, что помимо масла существует еще некая «очищенная» субстанция. Под бинтами зачесалось.
– Но эт тебе к Вилке, – соскочил с темы Лих, зашагав по проулку дальше. – Она дурастая до жести, но в механике шарит. Стоит ее выбесить, она сразу в гараж – возиться со своей ногастой железкой, чтоб ее…
Вслед за шагоходом мы свернули вправо, и меня оглушило шумом проспекта.
– …мне вообще кажется, – продолжал Лих, перекрикивая гомон улиц, – что за свою механогу она брата родного продаст. Но эт я шуткую!.. Только Вилке не говори, лады?
По черной, блестящей от масла мостовой сновали шагоходы. Не было и минуты, чтобы очередная махина не пролязгала мимо, торопясь куда-то по своим механическим делам. Тесные тротуарчики жались к необыкновенно высоким, чуждым Прибехровью домам – по пять-шесть окон от подвала. Их стены тоже были серыми – под стать району – но в их серости виднелось меньше нищеты и упадка, чем в бараках или даже в Хремовой кирхе. В Прибехровье эти дома представлялись суровыми дозорными, стоявшими на страже проспекта – высокой мрачной стеной, неприветливой и опасно-зубчатой из-за косых односкатных крыш. Черепица в лучах утреннего солнца отливала сланцем.
Тротуары же были узки до неудобства. Узки настолько, что приходилось впечататься в стену, чтобы пропустить прибехровцев, шедших навстречу. Поначалу я плюнул на правила и шел по обочине, лишь бы не мыкаться среди хмурых работяг. Но первый же шагоход, протрубивший в спину, отвадил меня от этой затеи.
Если сперва мне были в новинку бесконечные ряды пивнушек-малюток, бакалейных лавок и пустых магазинчиков, выросших прямо из подвалов домов как какие-нибудь боровики, то вскоре я начал скучать. Проспект оказался однообразным до зевоты, и только нехватка папирос вынуждала меня смотреть по сторонам в поисках курильни. Но когда счет курилен дошел до пятнадцати, я заскучал снова.
К счастью, больше бродить по проспекту не пришлось. Мы юркнули в угловатую, выше домов, башню, над которой был протянут толстый стальной канат – начинавшийся где-то за крышами домов и убегавший вглубь проспекта по литым сваям. Взбежав по лестнице на самый верх, ступили на открытую площадку – с остроконечной будкой в окружении скамеек и навесом из шифера над головой.
Лих попросил меня подождать, а сам кинулся к будке и что-то долго объяснял в приоткрытое окошко, размахивая черной корочкой цеховика. Я же присел на скамью – рядом с полной женщиной в застиранном кружевном чепце.
– Эй, подруга, – подмигнул я ей. – Закурить не найдется?
Женщина сонно кивнула и с радушным «чичас, чичас» принялась рыться в сумке, а я нетерпеливо затопал башмаком по полу. Стук словно вывел даму из полусна, и женщина, подняв на меня глаза, в ужасе отшатнулась.
Взгляд ее уперся мне в шею, и пухлые руки судорожно смяли сумочку. Мое сердце екнуло, переживая за судьбу хрупких папиросок.
– Чего застыла? – нахмурился я. – Ну не побрил я шею, ну и что?
Я вскинул руку к кадыку, и пальцы вместо того, чтобы привычно уколоться о недельную щетину, уткнулись в холодный металл ошейника. Подумать только, я шел с ошейником через всё Прибехровье! А ведь удивлялся еще, чего на меня прохожие косятся. Всё грешил на свою дикарскую красоту.
– Черт… – вполголоса выругался я. – Да ты не бойся Бруга, это… Стиль такой!
Но женщина уже соскочила со скамьи и, пятясь по-рачьи, маленькими шажками отползла на противоположный край площадки. Папиросы уползли вместе с ней.
Я высоко натянул ворот куртки, но ошейник прятаться не хотел. Так и выглядывал, сволочь, клеймя безвинного Бруга каким-нибудь каторжником.
– Ну как ты тут, новобранец? – придержав ножны, Лих плюхнулся рядом. – А я нам проездной достал!
– Да ты просто мой герой, – саркастично ответил я. – Но лучше бы ты достал нам тряпку, «наставник».
– Тряпку? Какую тряпку?
– Чтобы замотать этот гребаный ошейник, что вы на меня нацепили!
– Вот срань, – Лих шлепнул себя по лбу. – Ничо, сейчас придумаем что-нибудь.
Он оглянулся по сторонам, похлопал себя по карманам… А после с победоносным «во!» расстегнул свой лазурный жилет. Откуда-то изнутри, наверное, из тайного кармана, он ловким движением фокусника извлек большой бордовый платок.
– Вот так ничего будет, – довольно выдохнул парень, повязав мне его на шею. – Только смотри не замарай! Это подарок вообще-то.
– Подарок, как же, – я чуть ослабил узел, вспомнив, что у Вилли Кибельпотта был похожий платок. – Мамочка сшила на пятилетие?
– Нет у нас матери, – Лих, поджав губы, с нажимом застегнул жилет вновь. – А подарок этот от одной девчонки. Тебе имя знать не к чему.
– Боишься, что уведу? – прыснул я, ощущая чуждую мне неловкость от того, что сдуру ляпнул про мать. Мягчеешь, Бруг? Или это потому, что сам рос без женского тепла?
– Не боюсь, – отрезал парень, скрестив руки на груди. – Не твоего она полета птица.
– Чайка, что ли?
– Ой, да иди ты…
Так мы сидели в молчании какое-то время. Лих ковырял пальцем пятнышко на ножнах Сираля, а я смотрел на утреннее Прибехровье. Масштабы пригорода, раскинувшегося на многие версты вокруг, впечатляли. За время моей охоты я побывал во многих городах Запада, но Бехровия оказалась чем-то особенным, нечеловечески исполинским. Такой город ожидаешь увидеть где-нибудь на берегах Спорного моря, разжиревших на торговле. Или в Республике – мятежной наследнице Царства… Но никак не здесь. Не в темнице жестоких гор, где даже солнце – и то светит безрадостно.
Вдруг послышался скрежет – и вид на Прибехровье закрыла большущая тень. Формой она напоминала нечто среднее между гигантским кабачком и лодкой: раздутая и приятно округлая, она возникла откуда-то сверху, поблескивая на солнце листами клепаного металла и стеклом десятка оконцев. Я не сразу заметил на верху ее чудной механизм, похожий на внутренности музыкального инструмента – с кучей сверкающих стяжек, кабелей и скоб. Скобы попеременно стукали по литым рожкам на крыше, высекая искры, а рожки плотно, наподобие щипцов зубодера, сжимали стальной канат – тот самый, что паутинной нитью протянулся через весь квартал.
Остановившись, лодка-кабачок качнулась еще пару раз, а когда замерла, станцию огласил механический женский голос. Точь-в-точь тот навязчивый, неестественно благожелательный голосок, что вещал в вагонах маслорельса.
– Уважаемые пассажиры, масел-трос прибыл на станцию «Проспект Расовой Дружбы», – протрещала невидимая девушка. Уверен, где бы она ни находилась, с ее искусственной мордашки не сползала натянутая улыбка. – Просьба не пытаться открывать масел-ворота вручную: они откроются самостоятельно и незамедлительно после полной остановки масел-троса.
Масел-трос послушно закряхтел, распахивая решетчатые ворота. В проеме подвесного вагона тут же появился пузатый мужчина – в серой шинели и знакомой каске констебля. Он нагнулся, закряхтев не хуже ворот, дернул какой-то рычаг, и из днища масел-троса выехал мостик – почти что чиркнув по краю станционной платформы.
– Айда внутрь, – подскочил Лих. – Не то следующий придется пятьсот лет ждать.
Когда мы ступили на мостик, констебль привычным жестом вдавил в глаз монокль. Он бегло пробежал глазами по огрызку картона и цеховой книжке, которые протянул ему Лих, почесал тонкие седые усики, щекотавшие румяные, сытые щеки – и пробил картонку дыроколом.
– Вдвоем едете, получается? – спросил он, зыркнув через плечо Лиха на меня.
– Ага, – подтвердил парень и тыкнул за спину пальцем. – Этот новенький, удостоверение не получил еще.
– Ну, такбыть, впереди всё, – добродушно ответил констебль. – Тогда я вам два прокола поставлю. Уж не обессудьте, но без второй корочки это не парный цеховой проезд, а цеховой и гражданский. Там на кассе написано, если посмотрите.
– Ай ладно, что поделать, – махнул Лих. – Главное доехать!
– Побольше б таких понимающих, – улыбнулся констебль. – А то ж взыщут с меня… В Глёдхенстаге им всё одно, какая ситуация. Лишь бы цифры сходились, видите ли!
– В цифрах зло, – философски согласился Лих. – Но лучше б их в доходе было побольше.
Констебль тихо рассмеялся в усы, пробивая картонку снова.
– Это точно, – отметил он, пропуская нас в вагон. – Хорошей поездочки, господа цеховики.
Так мы и оказались внутри железной банки, бегущей по тросу над самыми крышами домов. Внутри пахло деревом от длинных лавок и чем-то еще, дегтярным.
– Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, масел-ворота закрываются, – предупредила невидимая масел-богиня. – Следующая станция – «Главный вокзал». Масел-трос проследует со всеми остановками. Во время движения не высовывайтесь из окон, а также сохраняйте сидячее положение тела или держитесь за поручни.
Я упал на лакированную лавку и широко расставил ноги. Лих приземлился рядом.
– Она когда-нибудь затыкается? – спросил я у него.
– Кто? – он отцепил ножны со шпагой от пояса и положил на колени. – А, она нет. Но ты привыкнешь, дядя. Я вот не замечаю даже.
Масел-трос встряхнулся, над крышей заскрипело, и искры рыжей стружкой промелькнули в окне. Мерно покачиваясь из стороны в сторону, вагон медленно набирал скорость.
– Уважаемые пассажиры, – будто насмехаясь надо мной, заладила механическая зараза, проникая в уши из жестяной шкатулки под потолком. – Городское объединение «Бехмаселтранс» выражает благодарность за пользование услугами фирмы. Комфортное и безопасное перемещение – наша общая победа. «Бехмаселтранс» – будущее не за горами.
Вагон был полупуст. Помимо нас с Лихом и констебля – только сурового вида старушка и миловидная девица, сидевшие на лавке напротив. Лих подмигнул девице, когда мы только уселись, и та, помнится, зарделась, смущенно опустив глаза в пол. Старушка, не сказав ни слова, поучительно наступила ей на туфельку.
А потом, довольно облизнув губы, девице подмигнул я. Соблазнительно так – как только Бруг умеет. Но старушка отчего-то скривилась, схватила побледневшую девчонку под острый локоть и утащила в конец вагона. Наверное, испугалась, что подопечная совсем голову от меня потеряет.
Ну еще бы. Старуха-то опытная, сразу распознала во мне знатного сердцееда.
– Я смотрю, тут кругом одни горы и только, – толкнул я Лиха в плечо, пока тот напрасно силился понять, отчего женская половина вагона сменила позицию. – Горы, горы, горы… Это ж сколько надо было киркой долбить, чтобы город построить?
– Ну, тут гор-то и не было, – повернулся Лих к раскрытому окну, в которое ветер загонял мелкую морось. – Давным-давно были, конечно, но это о-о-очень давно – как если б Строжка шесть раз подряд прожил. Потом, говорят, сюда звезда упала – и в яме от нее уже город построили. Как-то так.
– Это твоя придумка – время в дедах мерить? – хмыкнул я.
– А что? Понятней же.
– Прошу прощеньица, господа цеховики, – кашлянул констебль, подходя к нам, и взялся за поручень над моей головой. На каске у него отсвечивала кокарда из простого железа. – ненароком разговор ваш подслушал. Уж не обессудьте.
– А мы что? А мы ничего, – занервничал Лих, как будто считать эпохи в Строжках – это что-то неприличное. – Я тут типа новобранцу про историю города рассказываю.
– Просвещаюсь, – усмехнулся я, поправляя платок на шее.
– О, это похвально, – почесал ус констебль. – Не обидитесь, если встряну? У меня, знаете, старик мой в архиве работал… Когда архив еще гремлины к рукам не прибрали. Может, и вспомню чего…
– Новобранцу полезно будет. Верно, дядя? – Лих издевательски похлопал меня по колену. Кажется, лекции по истории казались ему чем-то вроде пытки, и парень пакостнически злорадствовал. Я тоже тот еще корифей науки, и багаж моих познаний о мире копился только в пивных, курильнях и сомнительных заведениях… Но узнать побольше о месте, где буду рыскать, представлялось мне не лишним.
– А почему бы и нет, дружище, – хитро сощурился я, тут же обернувшись к констеблю. – Мы с моим недонаставником закончили на «яме». Пацан говорит, Бехровия в яме построена.
– Хо, яме! – в углах глаз констебля поползли морщинки. – Уж не обессудьте, что умничаю, но это яма «кратером» зовется. Как что упадет с неба – так под ним кратер вырастает. Но это сильно бахнуть должно… Вот бабулька моя басню травила, мол, здесь у нас раньше королевство было – сильное, почище Империи. И так зазнались местные короли, что возомнили себя богами…
– И настоящие боги их разубедили, уронив что-то с неба, – закончил я.
– Если бы! – рассмеялся констебль, довольный, что я не угадал концовки. – Короли эти машину придумали, что могла б их на небо вознести, взаправду богами сделать. Но, видать, чего-то они непрально рассчитали, и машина, такбыть, превратила столицу в луну. А кратер наш – след от шара, что луной стал.
– Толково, – я пригладил бороду. – Лучше той брехни про звезду, а, Лих?
Лих закатил глаза, снова став копией своей стервосестры.
– А то, – согласился констебль, – бабулька на пилюлях сидела. И не такое еще выдумывала. А вот знаете, еще была у нее басенка…
Так обещанный рассказ о Бехровской старине превратился в обмен байками. Констебль поведал, что раньше трава была зеленее, а пиво не такое жидкое. Пожаловался на жену – уж больно она у него придирчивая и с годами лучше не становится. Потом достал свой блокнот с черно-желтой эмблемой Бехмаселтранса и долго показывал каракули внуков.
Я же принес констеблю последние вести с полей: что Предгорные княжества разграблены и теперь там мародерствуют респы в обнимку с некнягами; что в Моро́ве стало не продохнуть от проповедей лактани́тов, а в Стоцке, напротив, жить можно. Шлюхи симпатичные, и папиросы потрясные. С красной полоской на бумаге.
Констебль похвалился, что год уж не курит – и внуков стращает: мол, как только возьмут в рот самокрутку, так за ними и придет Бехровское Лихо. Лих, очнувшийся от дремы на слове «лихо», снова задрых на лавке, по-детски раскрыв рот.
Так пролетали остановки масел-троса. Констебль обычно просил дать ему «секундочку», разбирался с новыми пассажирами и их проездными – и возвращался снова.
Одна за одной остались позади «Главный вокзал», «Канал князя Дирка», «Рыбов ряд» и прочие, прочие станционные вышки… Когда Лих наконец продрал глаза, мы с констеблем уже обсудили сорта виски, бурбона и плавно переходили к чистому спирту.
– Срань Двуединая! – воскликнул парень, напугав стайку кудахтавших в вагоне пассажирок. – Какая сейчас станция?!
– «Приют Святого Лаццо», – как по команде отчитался констебль, словно в мозгу у него был нарисован маршрут масел-троса. – Неужели выходите?
– Выходим! – громче положенного ответил Лих, и пассажирки зашушукались бойче. – Фух, чуть не проехали…
– Ну, такбыть, на том прощаемся, – констебль протянул мне ладонь, улыбнувшись усами и морщинками век. – Вы уж не обессудьте, господин цеховик, что болтал не представившись. Зовите меня Отто.
– Не боись. Дружище. Бруг не из тех, кто обессы… обессу… обессуживает, – я пожал Отто руку. – Это я Бруг, кстати.
«Уважаемые пассажиры, масел-трос прибыл на станцию…» – подгоняла масел-богиня, ревнуя меня к Отто.
– Ваша станция, – с едва уловимой грустью объявил констебль. – Такбыть, пойдемте. Всё одно мне мостик опускать.
Приют Святого Лаццо скучен. Всего-навсего богадельня, только с красивым названием.
К счастью, нам не туда.
Мы с Лихом свернули на шумный, обсаженный елями бульвар, и запетляли меж торговых прилавков – на любой вкус и цвет. Один торгаш зазывал попробовать «лучшие шашлычки в городе», другой, в забавной шапке – приобрести волшебные игральные кости, «не знающие поражений». Позади звонко окликали мальчишки-газетчики, слева и справа горланили лоточники, а спереди – тоскливую мелодию тянула колесная лира, выпрашивая монетку для уличного музыканта, что крутил ее рукоять.
И совсем рядышком, только сверни с бульвара и перейди дорогу – алела вывеска публичного дома. Рисунок на вывеске – классика жанра. Плохо одетая девица, в кружевном белье да в единственном чулке, кокетливо подмигивала намалеванным глазом. Изящество тонких линий, натуральный телесный оттенок… Художество вышло отменное, Бругу нравится. Даже захотелось зайти и осмотреться на предмет, кхем, иных произведений искусства.
К несчастью, нам не туда.
Нам – в невзрачную каменную караулку с глухой дверью. Караулка отыскалась неподалеку от борделя, в подворотне. Притаилась между домов, точь-в-точь как продавец запрещенки. Кажется, вот-вот распахнется дверь, а стены изнутри увешаны поддельными документами, нательными ножами, ядами и с ног сшибающими препаратами со всего Запада.
Но нет. Когда Лих расправился с замком караулки, за ней оказался лишь черный провал колодца. И винтовая лестница, тающая в темноте.
– Давай ты скажешь, что мы просто отлить сюда зашли? – бросил я Лиху.
– Эм, ну… – затянул парень.
– Ясно, – выдохнул я. – И что это за дырка? Воняет страшно.
– А как из коллектора пахнуть должно, дядя? – Лих, привстав на носки, снял с потолка караулки масел-фонарь, брякнувший стеклом о железо. – Розами, что ли?
– А день начинался так славно… – сморщился я. – Не думал, что работа вашего цеха – копаться в нужниках. Раз надо, Бруг покопается, черт с тобой! Но вниз ты чур первый.
– Ага, щас, – масел-фонарь зашипел, высветил, разгораясь, лицо Лиха, от недовольства заострившееся еще сильнее. – Чтоб ты меня пинком под зад скинул?
– Какого же ты мнения о своем новобранце! – усмехнулся я, будто такая мысль не приходила, пусть и на секунду, мне в голову. – Своим недоверием ты портишь весь командный дух, наставник!
– Доверяй, но проверяй, – парень пихнул мне в руки масел-фонарь, подталкивая к лестнице. – Так Табита говорит.
– А может, к черту это дельце? – попытался я. – Найдем кабак поукромнее, закажем пива. Никто ж не проверит, если…
– Спускайся давай, дядя, – Лих вдруг необычно строго насупил брови. Ладонь его легла на эфес шпаги. – Или типа… Сираль тебя спустит.
– Полегче, парень! – шагнул к ступеням я, немного оторопев. Не думал, что пацан способен прижать меня к стенке, но дальше проверять не хотелось. По крайней мере, пока Нечистый не придет в себя. – Чуешь этот душок, дружище? В воздухе повеяло знакомым сволочизмом. Как от твоей сестренки.
– Полезай, говорю, – процедил Лих. – Не заставляй наставника ждать.
– Ладно тебе, наставничек, не сердись. Это же шутка-прибаутка Бруга! – я шагнул в темноту, и фонарь лизнул сырые камни колодца. Дна было не видать.
– То-то же, – надменно хмыкнул Лих, совсем по-надзирательски нависнув надо мной. – Будешь знать, как задирать цеховика.
– Уж буду знать, – согласился я. А шепотом добавил, зло обнажив зубы. – Пижон хренов.
Запах сырости, плесени и тухлой воды. Добавь к нему капанье с потолка, писк потревоженной крысы – и вот тебе бехровский отстойник. Почти бесконечный туннель, куда с поверхности стекает мерзость городских улиц. Здесь чертовски темно – даже для меня – и остается только гадать, что за зловонная жижа хлюпает под ногами. Но оно и к лучшему, что не видно деталей… Даже Лих, кажется, специально держит масел-фонарь повыше: дрожащий свет скользит по лоснящимся стенам, гладит поросли чего-то противного, прикипевшего к потолку клубками мокрых ниток… Но под ноги – ни-ни! Рассмотришь вдруг, в чем вязнут башмаки; разглядишь, что наступил вовсе не на мертвую крысу – и прощайте утренние миксины, так уютно осевшие в желудке!
Сейчас я сам чувствую себя миксиной. Вымокшей, выпачкавшейся, одуревшей от вони. Черт знает, чем они живут и в каких каналах водятся, но отстойник – самое подходящее место для такого рыбочервяка.
На липких стенах коллектора поблескивают слизни, кишащие меж кирпичей. Жирные, неопределенного цвета, они сползаются в целые желейные стада вокруг полукруглых прогалин – туннелей поменьше. Туннели перекрыты решетками, старыми и ребристыми от ржавчины, и сквозь рыжие прутья течение приносит сточные воды. Не жидкие, но и не вязкие, они хлещут натужными толчками: как будто туннели простужены и прокляты вечно сморкаться.
Хлам, помои и дикая вонь – вот она вся, изнанка бехровского лоска.
Нога вдруг путается в чем-то, и я, чтобы не упасть, шлепаю подошвой по жиже. Брызги летят в стороны – и Лих грязно ругается.
– Можно поаккуратнее?! – шипит он, осматривая свои модные бриджи. Чуть ниже колена, на темно-синей ткани, кажущейся почти черной в сумраке подземелья, мокро блестит. Парня передергивает, и масел-фонарь скрипит в его ладони.
– А чем ты думал, дружище, одеваясь как на свиданку? – огрызаюсь я, ощущая, как что-то холодное и липкое затекает в башмак.
– А как еще-то? – Лих пытается оттереть пятно, но только сильнее размазывает, марая пальцы. Поднеся их к носу, он сдавленно кашляет – совсем как кот, наглотавшийся шерсти. – Что мне, в комбезе идти? Типа по городу?!
– Как будто комбез будет хуже твоих обшварканных шмоток, – я оставляю его позади, стараясь не замечать, как хлюпает в башмаке. – Или обратно ты не через город собираешься?
– Ой, да иди ты! – бросает Лих мне вслед. И это вместо справедливого «извини, Бруг, ты мудрец, а я просто не подумал, потому что тупой».
Коллектор не меняется. Он совершенно тот же, что одну, что две сотни шагов назад. И готов поклясться, впереди нас ждет всё та же однообразная клоака. Пока Лих гремит позади фонарем, переживая за свои дурацкие обновки, я тщетно всматриваюсь в темноту. Даже прикусываю губу – как надо, до соли на языке. Но лучше не становится: уж слишком мало времени прошло с тех пор, как я обращался в последний раз. Нечистый жутко ленив, когда напитается. И вдобавок, он та еще сволочь, чтобы помогать мне без повода. А повод у него один – вдоволь наиграться с мягкими человеческими телами.
Даже нюх – и тот почти оставил меня. Чтобы выделить хоть один запах из смрадного воздуха, мне приходится стоять недвижно. Застыть, превратиться в огромный собачий нос, вдохнуть поглубже всю эту вонь, от которой хочется расчихаться до крови…
И ничего. Когда ты просто человек, помойка всегда пахнет помойкой, сколько ее ни нюхай. А эта помойка была однообразной до сверби в ноздрях.
Однообразие всегда меня раздражало. Здесь, в подвале кирхи, да даже в Глушоте… Однообразие превращает тебя в самозванца, который живет твою жизнь за тебя. И делает это невообразимо скучно.
– Эй, дружище, – окрикиваю я Лиха, чтобы как-то отвлечься. – А на кой черт тебе это всё?
– В смысле, дядя? – масел-фонарь высвечивает его недовольно насупленные брови. – Можешь даже не уговаривать меня свалить, я тебе…
– Да я не об этом, – отмахиваюсь я. – Как тебя в цех занесло?
– А… – лицо парня расслабилось, и он откинул со лба вьющуюся прядь – чтобы снова сморщиться от запаха пальцев, поднесенных опрометчиво близко. – Ну, мы типа выросли при цехе. С Вилкой то есть. Дед нас еще в пеленках сюда приволок, – Лих мнется, опустив глаза, – с мусорной кучи.
– Ты Бруга этим не разжалобишь, – отворачиваюсь я, чтобы он не заметил, как дернулось веко. – Не вы одни без мамки росли: ползапада таких. И подчас безотцовщина, скажу я тебе, бывает лучше некоторых батек.
– У тебя, выходит, такой батька был? – Лих шлепает следом.
– Не важно. Ни тебе, ни мне до него дела нет, – сплевываю вбок, отправляя вслед за слюной и дурные воспоминания. Там-то, в дерьме и соре, самое им место. – Лучше скажи старине Бругу, почему ты еще здесь. Вырос при цехе – и ладно. А дальше? Что, не можешь от Табитиной юбки оторваться?
– Во-первых, у Табиты штаны, – доносится сзади обиженно. – А во-вторых, ты сука.
– Так всё-таки почему? – усмехаюсь я, чуть повеселев. – Тебе бы девок клеить и воробьев стрелять, а не в помоях по пупок лазать. Подался бы в Хаззкую лигу, там каждая вторая – чья-то богатая дочь. Они-то любят смазливых мальчиков.
– Может, это типа мое призвание! – заносчиво выпаливает Лих, зачастив ногами, чтоб поравняться со мной. – Ну, я не про девушек… Не только про них! В Бехровии быть охотником на нечисть почетно, если ты не знал.
– Ну-ну, здесь-то всё прямо вымазано этим твоим почетом.
– А вот посмотрим скоро! – кривится Лих, потрясая ножнами Сираля. – Не тот герой, кто через постель стал важной шишкой, а тот, кто сам, клинком пробился. А я пробьюсь, дядя! Из низов, да в самые верхи!
– Что, подвинешь Табиту, чтобы напиваться вискарем из ее мастерского бокала? – фыркаю я. – Это-то предел твоих мечтаний?
– Тебе не понять, – задирает он подбородок. – Когда-нить я стану таким цеховиком, что Белое братство мне кланяться будет. И все те, кто предал нас за монету, станут обратно проситься. Типа «пустите-примите, господин-мастер Лих»! «Хотим под вами на дело ходить, мастер Лих!»
– Величия не будет, когда не готов идти по головам, – возражаю я. – Вот стервосестра твоя похожа на такую. Замешкаешься – прирежет. А ты… Наивный еще.
– Думаешь, дядя, я не такой? Не решительный? Слабый типа? – Лих вдруг замирает, широко расставив ноги, и шпага его скользит из ножен. В отблесках масел-фонаря длинный клинок кажется лентой из желтого света. – Ты сейчас не с Кибельпоттом разговариваешь, и не с уличным рваньем. Я – Лих из цеха Хрема! И Лиха в Бехровии знают.
– Как самовлюбленного мальчишку, что любит вытаскивать шпагу при любом удобном случае? – я напрягаюсь, встав в ту же стойку, что и он. – Убери свою зубочистку и не смеши меня больше.
– Как дуэлянта, идиот, – Лих цедит сквозь зубы. В глазах его, сощуренных и злых, мечутся дьявольские огоньки – от масел-фонаря и уязвленной гордости. – С тобой я был добрым, наставником сделался, но тебе же всё равно! А я таких сразу на дуэль вызываю. И режу до смерти.
– И кого же ты резал? – скалюсь я, не очень-то веря бравурной речи. – Цыпленка на обеде?
– Вот кого, – правой рукой, не выпуская рукояти шпаги, Лих отдергивает винный плащ. На нем внизу, с изнанки мерцают разноцветные кругляшки, продырявленные посередине и подшитые леской к намокшей ткани. Одни зеленеют бронзовой патиной, другие отливают свежей медью, третьи серебрятся… Иные вообще – радуют золотом.
Монеты. Гроши и шелеги, кроны и лиры, марки и злотые. Разной ценности, разного размера, вшитые в полы плаща в три ряда, они напоминают драгоценную мозаику. На удивление аккуратную и столь же кощунственную. Сколько денег было легкомысленно испорчено сверлом, чтобы посадить их на плащ? И главное, зачем?
– Когда мне проигрывают, я не шмонаю карманы. Я выше этого. Всего-то беру одну монету, – Лих криво улыбается половиной рта. – И жизнь! Плащ тяжелеет, зато я помню всех.
Монет много. Плащ идёт складками на сквозняке, и я сбиваюсь со счета на втором десятке. Это меньше трети – и только там, где удается разглядеть. Конечно, мальчишка мог просто брать монеты из собственного кошелька или красть… Или нырять в фонтаны за мелочью. Но эта его почти лихорадочная усмешка сбивает с меня спесь. Будь он хоть вполовину так умел, как рассказывает, шпага из его руки никуда не делась. А у меня из оружия – только чертовское обаяние на пару с ошейником-убийцей.
Да и последний играет против меня…
– И что теперь, дружище? – облизываю пересохшие губы. – Вызовешь на дуэль безоружного Бруга?
– Слишком просто, дядя, – пацан отпускает плащ, и тот грузно опадает, звякая монетами друг о дружку. – Это не для меня. Да и карманы у тебя пустые. Вот заработаешь хоть грошик, тогда посмотрим. А оружие я тебе достану. Ну, тебе же поровну, с чем в руках помирать?
– Договорились, – хмурюсь я. – Жаль только, что не доживешь до звания мастера.
– Еще как доживу, – азартно взмахивает клинком Лих. Кажется, теперь мои слова не задевают его, а наоборот – только раззадоривают. – И буду всем подряд показывать твой жалкий грош. Грош дядьки, который во мне сомневался! А пока… – Сираль снова возвращается в ножны. – Пойдем-ка дело делать. Тебе ж заработать надо.
Склизкий туннель коллектора приводит нас к распутью. Здесь, в подтопленной зале он разветвляется на две одинаковые кишки.
– И куда теперь, наставничек? – раздраженно спрашиваю я.
– А мне почем знать? – Лих поднимает масел-фонарь над головой, словно над входами должно быть начертано некое указание, куда нам идти. Но стены остаются пусты, если забыть про вереницы слизней. – Ну, проверим типа оба по очереди.
– Было бы легче разобраться, скажи ты мне, что мы вообще ищем, – упираю руки в бока.
– Засор, – отвечает Лих, подсвечивая сначала одну арку, а потом подходя ко второй. – Сказано было, где-то здесь стоки засорены. Вот мы и ищем.
– Серьезно, пса крев? – я теряю терпение. – Так мы трубочистами заделались?!
– Не, – Лих почесывает в кудрях, явно не представляя, какой из туннелей всё-таки засорен. – Сначала сюда леперов заслали, но те не вернулись. Заблудились, наверное. Ну, или утонули…
– Каких, к черту, леперов?!
– Ну-у-у, – протянул парень, – это типа тоже цеховики, но другие. Они как бы все больные чем-то, вот и не боятся запачкаться. Вот их и шлют на простые задания, где грязно и пованивает.
– Вроде этого, да?
– Ну типа. Они же Шфельгину поклоняются, вот и не боятся грязи. Ну, или подхватить заразу какую-нить…
Шфельгин, один из Пятерки. Бог хворей, голода и неизлечимо больных. Его почитают по всему Западу. Не только прокаженные, чахоточники и прочие обреченные на смерть, но также врачеватели, могильщики и – больше всего – рабы. Формально в Республике вера едина: в Лактана, будь он проклят, – но культы Шфельгина даже налогом не облагают. Бога хворей считают безобидным, ведь будучи еще божеством жизненного цикла и возрождения, он, мягко говоря… Отрешен от мирского.
Не то чтобы другие боги Пятерки сильно помогали людям, но от них хотя бы случались чудеса. Так, бог войны Дрид, ходят легенды, сокрушил стены Тсарлемской твердыни после года безуспешной осады. Бог знаний Глодо, молвят, открыл колдунам Аргалии секрет зеркал… Эрата вон, богиня любви, вообще спускалась на шабаши Сумеречных ведьм, наделяя их истовой страстью. Да уж, хотел бы посмотреть…
Шфельгин же, самое большее, отсрочивал неизбежное. Дарил страдающим годик-другой или облегчал их муки, да и то из-за кулис, тихо и как бы тайком. Наверное, его участие даже важнее других божественных чудес – но масштаб не тот. Не так эффектно.
– Сдается, плохо твои леперы Шфельгину молились, раз не вернулись, – пожимаю я плечами. – Если только не пошли пить пиво вместо шатания по этой дыре. Будь оно так, я их не виню.
– Не, на них не похоже, – Лих задумчиво постучал по колпаку масел-фонаря. – Бойцы из них никакие, но дел они не бросают… Ладно, сейчас всё решим, дядя.
Я обрадовался было, что у Лиха есть какая-то карта, о которой он забыл. Пометки какие-нибудь или, на крайний случай, волшебное цеховское чутье. Но нет.
Пацан просто берет и зачитывает… детскую считалочку:
К нам явился Двуединый,
Притащил сундук старинный…
Одарил без лишних слов
И детишек, и богов.
Меня раздражает, с какой беспечностью Лих переводит палец с одного туннеля на другой с каждым новым словом считалочки. Еще я беспокоюсь о куртке. И оттого раздражаюсь сильнее. Готов побиться об заклад, что вся гамма местных ароматов впитается в черную кожу косухи…
Подарил он Глодо книгу,
А топор с узором – Дриду.
До мозга костей провоняю подгородом. А именно мусором, слизнями, крысиным дерьмом… Ну, и гнилью вдобавок.
Для Эраты – пояс узкий,
Ну а Шфельгину – капусту!
Стоп. Чем вдобавок пропахнет? Гнилью? Какого…
Раз, два, три,
Получай подарок ты!
Я сгибаюсь, упершись ладонями в колени. Прикрываю глаза и сосредотачиваюсь на обонянии. Не без отвращения раздуваю ноздри, втягивая густой влажный воздух.
– Ну, налево, получается, – выдает Лих.
Вот теперь-то я чую ее! Тонюсенькую, едва различимую прядку этого запаха. Чуть более резкого, приторно-сладкого – такого, что чуть-чуть выпирает из общего комка тяжелого подземельного духа.
– Нет, направо, – утираю я нос. И тут же устремляюсь в темноту правой арки.
– Эй, почему! – возмущенно прилетает в спину. Голос Лиха расходится эхом, обгоняя меня, но я уже спешу по следу гнили.
Запах тухлого мяса набирает силу, сворачивает в сторону – и я рвусь за ним, бодро шлепая башмаками. Раскидываю руки – и на бегу касаюсь пальцами прутьев, торчащих из стен частоколом кривых зубов.
Решетка сорвана. Не перепилена, не расплавлена гремлинским инструментом – уж слишком неровные края. Пусть проржавела от вечного противостояния с водой, но такую железку не выломать ни обычному человеку, ни даже Нечистому.
Неужели заложный? По запаху – вылитый тухляк.
Нет, так глубоко они не забираются. Это гузнари любят темные и укромные места, вот только сюда им не пролезть… Больно жирен гузнарь и неповоротлив.
– Фух, вот ты где, новобранец! – сначала я слышу голос на пару с бренчанием фонаря, потом вижу круг масел-света и только за ним показывается Лих, запачканный до самых колен. – Ты что, типа не слышал, что нам налево?!
– Чуешь? – хватаю я его за край плаща, заставив остановиться.
– Я? – Лих принюхивается. – Не-а.
– Разложением тянет, – объясняю, опустив голову книзу. – Гнилье свежее. День-два, не больше.
– И ты это по запаху понял, дядя? – Лих недоверчиво хмурится. – Гонишь!
– Пошли. Близко уже.
Туннель делает виток – и мы выходим в просторную комнату. Просторную и вширь, и ввысь настолько, что потолка почти не видно. Но сверху, там, где зал будто сужается до бутылочного горлышка, сквозь металлическое кружево купола льется солнечный свет.
– Это еще что за срань? – присвистываю я, кружась и разглядывая игру лучей на камнях.
– Похоже на… Накопитель? – предполагает Лих.
– И что же он накапливает, дурень? – хохочу я. – Пустоту, что ли?
– Сам ты дурень! Грязь типа, – Лих озирается по сторонам. – Видать, тут-то засор и есть… Накопитель, ну, он же полный должен быть.
Полукруглые стены гигантского колодца когда-то были одинаково серыми, но от поганой воды окрасились в цвет кирпича-сырца. На яркой, будто красноглиняной кладке уже поселились белые разводы – то ли соли, то ли извести. Чем бы этот подземный дворец ни был когда-то, осушен он давно.
Запах гнили вдруг делается нестерпимым. Я гляжу на Лиха – тот зажимает нос пальцами. Теми самыми, которыми оттирал вонючее пятнышко с бридж… Кажется, из двух зол парень выбрал наименее смердящее.
Нелепо замахав руками, я сбегаю вниз по гряде сора. Под башмаками шипит и шваркает, как на торфяном болоте; хрустят веточки и хрупкие крысиные кости. Вспугнутый моим топотом, из кучи слежавшегося тряпья выныривает зверек. Маленький и тощий, не больше кошки, он вскидывает неприятно-голую, шарообразную головку, поводит ею из стороны в сторону, изучая меня. Сверлит одним-единственным желтым глазом – зато огромным, на половину черепа.
Я удивленно оступаюсь, и под ногой снова хрустит. Зверек, клацнув по-детски мелкими зубками, шмыгает обратно в компост.
– Чего уставился, дядя? – рядом ловко съезжает Лих, взбучив сапогами компост. – Это шрюп. Но ты не ссы, они безвредные. Как крысы типа, только живучее.
– Первый раз таких вижу, но… – моргаю я. – Но ты лучше вон туда посмотри, дружище.
– Куда? – Лих недоуменно хмурится, но поворачивает голову в направлении моего взгляда. – Ого…
То, что вначале показалось мне грудой лома, прибитого течением к стене и обросшего слизью, приходит в движение. Груда эта размером с тухляка, да и пахнет не лучше. Она с треском надувается до предела… И тут же опадает с тошнотворным бульканьем. На желтой оболочке пролегают свежие надрывы, а из них, будто сок из плода, валит пузырчатая пена.
– И-и-и… – протягивает Лих, осторожно, почти на цыпочках приблизившись к месиву, – что это?
– Поздравляю, дружище! – хлопаю я Лиха по спине так, что тот чуть не падает лицом в пузыри. – Очень похоже, что мы нашли твой «засор». Только выглядит он так, будто весь город сюда стошнило.
– Фу, – Лих высовывает язык. – Оно еще и шевелится! И как его, э-э-э, прочищать?
– Как хочешь, а старина Бруг и палец об это марать не станет, – фыркаю я. – Ты ж у нас главный, вот и полезай! А я могу тебя за ноги придержать.
– Ха-ха, очень смешно, новобранец! – морщит нос Лих. – Стой-ка, там внутри… Ну, видишь? Во, плавает что-то!
– Дружище, я бы не…
Но Лих уже обнажил шпагу и аккуратно, самым острием входит в склизкий ком. Кожица сначала гнется под клинком, но скоро поддается. С неприятным чавканьем края разреза расходятся, и наружу валит желтушный студень.
– Мать моя, пасёт-то как! – Лих, выпучив глаза, прячет нос в локоть. – Там точно что-то сдохло!
– Не что-то, – я через силу, задержав дыхание, подхожу к луже, – а кто-то.
На кляксе, медленно утекающей сквозь хлам, обсыхает человеческий кусок. Чья-то рука, бурая с синим, вся в язвах и липких обмотках, кротко прилегла у моей ноги. Оторванная от туловища целиком, белеющая обломком кости, она выглядит несчастной брошенкой.
– Лепер! – Лих отскакивает от обрубка с такой прытью, словно тот вот-вот нападет. – Это леперская рука!
– Потому что грязная и воняет? – насмешливо поднимаю бровь. – Не думал в уличные предсказатели податься?
– Ой, да иди ты, – парень опасливо перехватывает шпагу. – Вон бинты на ней, а леперы всегда бинтуются!
– Ну не знаю… Когда, говоришь, они пропали?
– Пару дней назад? Может, три или больше… – Лих напрягает память так, что вздулась вена на лбу. – Да черт его знает! Мне такое не докладывают!
– Или ты просто забыл, – фыркаю я.
– Давай еще обвини меня, дядя! – Лих повышает голос, и слова его расходятся эхом, отражаясь от кирпичных стен. – И вообще, это не нужно знать! Тут бинты есть, понял?!
– Пф-ф, меня вон Строжка бинтует, – я тыкаю пальцем в живот. – Так может, и я лепер теперь?
– Раз ты типа не веришь мне, так доставай оттуда остальное! – Лих раздувает ноздри, и лицо его приобретает оттенок спелого персика. – Ну же, давай посмотрим на жмура целиком! Тогда-то убедишься, что это лепер!
– Еще чего, – я скрещиваю руки на груди. – Бруг свое дело сделал: нашел засор. Настала твоя очередь показать свою полезность, наставник!
– Полезай! – парень сходит на крик, и кончик Сираля, измазанный в слизи, теперь указывает в мою сторону. – Или Лих из цеха Хрема забудет, что у тебя ни гроша за пазухой! И тогда…
Лих из цеха Хрема не успевает договорить. Мы оба отвлекаемся на засор, когда тот начинает бурлить и булькать – как забытая на огне кастрюля. Вновь надувается пузырчатая масса, и новые трещины, напоминая голодные беззубые пасти, раздаются в ней.
Я покорно жду, когда засор успокоится опять. И он, побуянив еще немного, действительно опадает. Тогда я снова обращаюсь к Лиху, чтобы вежливо высказать всё, что думаю о сложившейся вертикали власти в нашем небольшом отряде… Но не успеваю даже ухмыльнуться, поймав его растерянный взгляд.
Что-то вытянутое и скользкое опережает мою ухмылку. Врезается в Лихову грудь – и отбрасывает парня на добрые пять локтей. Чтобы так же быстро втянуться обратно в заросший тоннель.
Мне чудится, будто удар опередил сам звук удара. Хлесткий, но хлюпающий звук. Смажь нагайку растопленным жиром, взмахни – и будет точно он.
Когда в туннеле набухает опять, я пячусь. Наружу выплескивается большое, бесформенное… Вязкий сгусток, каким-то образом народившийся из сора и слизи, скоро вытягивается в длинную маслянистую фигуру. Расправляет отростки, выдувает голову, скошенную посреди лба…
Бульк – и на ней всплывают два глаза. Без зрачков или белков; непроницаемо-черные, как у рака.
– Шишига, – озвучиваю я догадку.
Словно поняв мои слова, тварь угрем ныряет вниз. Растворяется в свалке с удивительной грацией, а дно ходит ходуном: то вздыбливается, то проседает, – и движение это с каждым разом всё ближе и ближе.
Вдруг из компоста вышмыгивает зверек. Тот самый, одноглазый и тощий, не больше кошки – Лих назвал его шрюпом. Шустро взобравшись на спинку разбитого стула, он беспокойно озирается, и лысая шкурка дрожит на костлявом хребте.
Я делаю шаг назад, под подошвой хрустит ветошь. И шрюп, вспугнутый этим хрустом, нервно шипит. Где-то внизу проходит гуд. Кажется, от него даже вода в моих башмаках вибрирует.
– Тихо, дружище, – я прикладываю палец к губам, – давай-ка не…
Договорить я не успеваю.
Там, где только что был шрюп, взметается облако сора. Опрокинувшись на спину, закрываю лицо от щепы и вижу тонкое щупальце, растущее из-под земли. Оно торчит шипом, извивается змеей – а в хватке его мечется желтоглазый щрюп. Зверек успевает лишь коротко взвизгнуть – и умолкает навсегда, затянутый вглубь накопителя.
Я судорожно вскакиваю на ноги – и бегу, бегу! Перепрыгивая через доски, оскальзываясь на рваном шмотье… Соберись, Бруг, ты бил шишиг и раньше – в болотах Глушоты… Но эта времени зря не теряла: отъелась, раздобрела на нечистотах целого города.
Спокойно, Бруг! Большая или маленькая, но ты знаешь, как прикончить шишигу… О Пра, какая же она огромная!
Дрянь и гниль ползут подо мной как живые. Дважды я чуть не падаю снова. Трижды – чуть не влезаю ногой туда, где секунду после разверзнется чавкающая полость.
Краем глаза я замечаю синее копошение вдали. Лих! Живой еще, проныра. Это хорошо, пса крев! Теперь, чтобы выжить, мне не нужно двигаться быстрее шишиги.
Достаточно бежать быстрее Лиха.
Я подлец? Ни черта подобного! Теперь каждый за себя. И уж лучше я буду живым подлецом, чем мертвым героем. Своя куртка ближе к телу! Так что идеалы гребаного цеха идут лесом. А с ошейником Бруг что-нибудь сообразит…
…или нет.
Всплеск, треск, утробное бурчание. Передо мной вздымается вал, нашпигованный заразой и осколками – и хлещет навстречу.
– Шельма! – рычу я, прежде чем меня накрывает с головой.
Я чувствую, как кожа покрывается занозами, а под куртку льёт холодная жижа. Как шаловливые духи проказы и чумы переминаются меж пальцев, лижут шею под воротником, норовят залезть во все возможные отверстия моего таборянского тела.
Какая же тупая и бессмысленная смерть, Бруг! Захлебнуться дерьмом бехровцев!
Нет, Пра тебя подери. Ты не сдохнешь. Ты не сдо…
Неведомая сила выхватывает меня из трясины. Я жадно глотаю воздух, и он уже не кажется таким затхлым и зловонным. Мои ноги теряют опору, и я с удивлением осознаю, что вишу в воздухе. Туго стянутый поперек пояса чем-то скользким, липким, извивающимся…
– Да что ж такое… – скулю я от досады, смахнув с лица грязь.
Передо мной – те самые по-рачьи непроницаемые глаза. Не угадать, куда они смотрят и смотрят ли. Но их взгляд гипнотизирует.
Так бы и загляделся, если б не уродливая харя шишиги. Неестественно-гладкая, туго обтянутая водянистой кожей цвета свежего синяка, она напоминает голову утопленника. Те же вздутые щеки, рваная дырка носа, будто обглоданного рыбами… Но вместо человеческого рта – ворох егозистых отростков. Клубок червей, а не пасть.
Но самое жуткое в шишиге – ее башка, кончающаяся прямо за глазницами. Череп ее обрывается так внезапно, словно боги забыли достроить его до темени. Дальше – только ровная выемка, до краев наполненная сверкающей жидкостью. Когда чудовище склоняет голову, эта жидкость не выливается, не ходит кругами от толчков тела. Она словно существует по своим собственным законам, а по не тем, что даны природой.
– Э-э, как дела? – завожу я разговор, натянуто улыбнувшись твари.
Та туже сжимает меня щупальцем. Под бинтами режет, будто швы разошлись.
– Ну и мразь же ты! – ослепленный болью, я хочу отодрать щупальце, проникнуть в него пальцами, расцарапать насквозь… Но ногтям не за что зацепиться – всё равно что поддевать пиявку иглой.
Шишиге не нравится. Она подносит меня ближе, и я могу разглядеть самый крохотный отросточек на осклизлой роже. Ее червивый рот мельтешит совсем рядом… И тогда я вспоминаю, что самое отвратительное в шишиге – это всё-таки смрадный тандем двух ароматов: тухлых устриц и раскопанного кладбища.
– Ну давай! – напоказ храбрюсь я, не оставляя попыток вывинтиться из хватки чудовища. – Хочешь сожрать Бруга? Да Бруг сам тебя сожрет, пивная ты закуска!
Шишига изгибается и зачем-то опускает меня ниже. Туда, где на гладком теле надулись два пухлых мешка. И каждый мешок – с половину бедняги Бруга.
Глаза мои ширятся, а сердце уходит в пятки.
– Не-не-не! – бешено кручусь в навязанных объятиях, поняв наконец, почему тварь не торопится мной отобедать. – Бруг на это не согласен! Найди другого, приятель!
Я вою пуще жалобницы, но шишиге плевать. Перевожу взгляд с мешков на ротовые щупики, дрожащие в животном нетерпении. Щупальце гладит меня по шее, затягивается ласковой удавкой… Становится дурно.
Воздух рассекает свист – и шишигины щупальца встают торчком. Ее хватка ослабевает, а я взлетаю. Совсем на мгновение – пока мусорная подушка, рыхлая и податливая, не принимает мое упавшее тело.
Я с удивлением замечаю бледный кусок стали, что слабо серебрится чуть пониже мешков. Шишига корчится, свистит вскипевшим чайником. Щупальца невпопад молотят по сторонам, рвут и мечут. Корчатся, сворачиваясь кольцами. Выбивают из накопителя клубы сопревшей трухи.
– Эй! – перекрикивает свист и грохот знакомый голос. – Ты цел?!
– Лих?! – за шишигой мелькает синее пятно. – Лих! Уходи, пса крев!
Тут шишига перестает свистеть, переходя на низкий гуд.
– Не пойду! – криком отвечает Лих, странно подергиваясь. – Не брошу Сираль!
Я с кряхтением поднимаюсь на ноги и вдруг понимаю, почему клинок еще не покинул студенистой плоти. Его уже и не видно почти: обманчиво жидковатые телеса похоронили под собой половину шпаги, накрепко склеились с ней. Только самое острие – жалкий уголочек блеска – дрожит из брюха шишиги.
Тварь теряет ко мне интерес. Одарив меня плевком, она отворачивает голову. Размазывая слизь по лицу и шее, я успеваю заметить, как скошенная черепушка противоестественно плавно, по-совиному очерчивает полукруг на бесформенной «шее». Щупальца ее напрягаются и пружинисто сигают к Лиху.
Парень вскрикивает, но тварь уже нависла над ним смертельной аркой – и отвратные мешки перетекли по телу к добыче. С гадким чревным бульканьем.
– Бруг! – не своим голосом вопит Лих, вдавленный шишигой в самое хламье. – Оно сейчас… Помоги, курва!
Вдруг под кадыком у меня щелкает, и сквозняк гладит по липкой шее. Я подношу руку к горлу – и глуповато ухмыляюсь.
Ошейника нет. Пальцы касаются кожи. Она сопрела, под щетиной зудит нечеловечески – но как же я рад! Всё равно что отрастить конечность из культи, вот на что оно похоже.
Под ногами раздается лязг – так заканчивает свое движение заостренный болт. Он ввинчивается в обломок размокшей фанеры у моего башмака – и дырявит насквозь.
Чертов болт на чертовом ошейнике. Раскрытом, перемазанном слизью ошейнике.
Получай, гремлинова приблуда! Виной тому ошибка механика или слизь шишиги – плевать! Никакому прогрессу не удержать таборянский дух Бруга.
– Бруг! – режет по ушам вопль Лиха. – Быстрее, шрюп тебя…
Голос его захлебывается, и у меня пересыхает во рту. Я вижу, как шишига расползлась над парнем, точно вязкий шатер – и не видно уже ни синего дергания бридж, ни благородного блеска стали.
Я переношу вес на ногу, порываюсь скакнуть к твари… Но какой-то внутренний голос вдруг осекает:
«Что удумал, Бружище?!» – слышу я визгливый укор. – «Поводку кирдык, а ты всё цацкаешься?»
Мозг обманывает меня, рисует Лиха трепыхающимся, хлебнувшим горькой слизи. И следом напоминает о другом Лихе. Том, что проткнул шпагой зверюгу, когда она уж готовилась провернуть со мной непристойную пошлость.
«Беги со всех ног, Бружок!» – истерически верещит голос. – «Спасай свой крепкий зад!»
Надо скрыться в темноте коллектора и тут же выбросить из памяти всё, что знаю о Лихе. Я свободен, пса крев! Почему же тогда ты медлишь? Нельзя привязываться к людям. Они – лишь пометки на полях твоей истории.
А Лих – просто придурок, самовлюбленный мамкин садист с манией дуэлянства. Но разве не такие нравятся Бругу?
Если так, то мир и впрямь станет без Лиха… скучнее.
А еще цех. Хремовцы не оставят меня в покое – настучат констеблям. Спрячут Цепь за десятью замками, а весь город станет гоняться за мной, как волки за зайцем. Нет, Бруг, ты спасешь пацана не из слабости, а из холодного расчета.
«Ты размяк, братан!» – негодует голос. – «Рви отсюда!»
И я, схватив с земли ошейник, рву. Разбегаюсь, отталкиваюсь от помойной кучи – и прыгаю.
Шишига свистит, когда наточенный болт впивается ей в спину. Щупальце лениво дергается, взмахивает над моей головой – словно отгоняя муху. Башмаки скользят, левая рука вязнет в желейной туше, но я упрямо взбираюсь по ней, раз за разом вонзая ошейник в водянистую плоть. Меж пальцев сочится липкая пена, пучась из свежих проколов.
Руки хватаются за ровный край башки-блюдца. Я подтягиваюсь, сажусь на загривок шишиги – и пропадаю в отражении жидкости, что плещется в выемке ее головы.
Лужица идет рябью. Смазывает и горбатый таборянский нос, и глаза – черные, бешеные… Это мои глаза и не мои сразу – ведь смотрят с чуждым мне смятением.
Я шумно выдыхаю. А после, приложившись к выемке губами, начинаю пить.
Первый же глоток сводит горло спазмом.
Глаза слезятся, лицо дергает как от падучей болезни. Я давлюсь, задыхаюсь, но пью. И не перестаю, даже когда шишига свистит и щупальца ее оплетают ноги. Тварь покачивается и опадает подо мной, но холодные отростки всё тянут – да так, что трещат швы на животе.
Последний глоток я чуть не выплевываю обратно; зрение мутит, а пальцы разжимаются сами собой. Загривок шишиги стал вдруг необычно жидким – и я слишком поздно осознаю, что увяз в нем по пояс. И продолжаю тонуть.
"Вот же дрянь, Бруг…" – успеваю подумать я. А потом слизь растворяет все мысли.
ГЛАВА 6. Шваржаг
Догма первая: цеховое братство служит Бехровии и ее народу без оглядки на расу, пол и прожитые лета.
Догма вторая: цеховое братство ставит своим долгом охранять Бехровию от психических и чудовищных угроз, не жалея ни здоровья, ни психики, ни жизней своих.
Догма третья: цеховик обязан почитать мастера как отца своего или мать, ибо мастер – голова братства, а цеховики – тело его.
Догма четвертая: любой, кто вступил в цех добровольно, волен покинуть его, если не занят поручением; любой, кто вступил, спасаясь от казни или каторги, покинет братство лишь в гробу.
Первый мастер цеха неделимого Яков, отрывок из «Догматов Цехового братства»
– Вставай, новобранец, – я пробуждаюсь от резкого толчка. Удар тупой болью отдается в боку.
Распахнув глаза, тут же встаю на четвереньки. И меня начинает тошнить – долго и мучительно. Изо рта хлещет вязкое, со вкусом старой вонючей тряпки, никогда не знавшей стирки… В какой-то момент даже кажется, что гортань вот-вот разорвет, а челюсть вывихнет.
– Фу-у-уф, Пра… – кажется, всё. Кое-как сев, утираю губы рукавом. – Как же погано… Чем мы так напились?..
– Не знаю, дядя, – Лих тяжело опирается на шпагу, одетую в ножны. – Но оно, походу, сдохло.
Обрывки воспоминаний складываются воедино. Всё вокруг в отвратном желе. Я в желе, Лих в желе… Кажется, я сам теперь состою из этого желе.
Самое настоящее Бругожеле. Где-то такое уже было…
Замечаю под ногой Лиха большущую белую чашу. Скорее, гигантский кубок, только дырявый – две дырки поменьше, и одна огромная, откуда еще продолжает капать слизь. А вместо ножки у кубка – коротенький отросток, как бы собранный из толстых позвонков зобра…
– Точно сдохло, дружище, – чихнув остатками студня, подтверждаю я. – На черепушке стоишь.
– О, вона как… – устало покачнувшись, отступает Лих.
Приняв поданную руку, я с трудом встаю. И, превозмогая боль в боку, со всей дури опускаю на череп шишиги тяжелый башмак. Когда мягкие кости лопаются, раскрывшись бледным цветком, запускаю руку внутрь.
– Ну и гадость, – Лих шумно вздыхает, а щеки его бледнеют. – Ты там что, золото хочешь найти?
– Не всё золото, что блестит, дружище, – выудив из ошметков мясистый мешочек, скоблю его ногтем, – но что-то всё-таки золото. Или соль…
– Мудрость дня от Лиха: соль можно купить у бакалейщика, – морщится цеховик.
– Не такую, дружище! – я даже забываю про мерзкий вкус на языке, когда ноготь, разодрав оболочку, чиркает по белым кристалликам. – Это алемброт, пса крев! Редкая штука. Найдешь нужного человека, и деньжат можно на месяц выручить. Ай да шишига, удружила Бругу…
– Так это шишига, – отстраненно протягивает Лих, кутаясь в плащ. – Теперь буду хвастать, что от меня даже у шишиги башню сорвало… Я не я, если она меня не хотела. Видал, как титьки тянула ко мне?
– Тут ты прав, тварь не жрать нас собиралась, – хмыкаю, убирая алемброт во внутренний карман куртки. – Только это был мужик, а не самка. Шишиган, да еще и озверевший в пору гона. Первый раз такого жирного вижу.
– Гонишь, – хлопает глазами Лих, качнувшись вместе с Сиралем, как лист на ветру. – Я же видел у него… У нее титьки! Такие мешки, что…
– Правильно сестра тебя идиотом зовет. Это моло́ки! – я лающе смеюсь, но смех отдается внутри рвотным позывом. – Фуф… В общем, дружище, шишиган к тебе – в самом прямом смысле – хозяйство катил. Я всё гадал, что это за засор там… А это шишиган любовное гнездышко строил. Тебя, панночку, поджидал!
Лих не прыскает в ответ, даже не отшучивается, обидчиво надув губы. Только спрашивает бесцветным голосом:
– У шишигана же есть жало?
– Нет… – нахмурившись, неуверенно отвечаю я.
– Вот курва.
– Он же не… – я оглядываю Лиха с ног до головы, но не нахожу ран, – не «ужалил» тебя?
Лих теперь бледнее поганки. Не говоря ни слова, он распахивает полу плаща.
Чуть повыше колена, на бедре, только что прикрытом винной тканью, вспухла безобразная язва. Нога вокруг укола, словно вывернутого наизнанку, отекла, притом так сильно, что бриджи разошлись. И по брючине теперь стекает что-то мутное. Что-то, напоминающее молочную сыворотку – только розоватую от крови.
– Черт, да он тебя осеменил! – я хочу рассмотреть рану ближе, но Лих с шипением отдергивает ногу.
– Отвали, – хрипит он. – Это типа… очень плохо?
– Ну, мамкой не станешь, если ты об этом, – чешу бороду, слипшуюся в липкий комок. – Но он тебя глубоко, э-э, «ужалил». Повезет, если без ноги останешься…
– Пойдем, дядя. Больше здесь делать нечего, – хмуро бросает Лих.
Он делает шаг – и, оступившись, чуть не зачерпывает лицом остатки шишиги. Еле-еле, в последний момент парень успевает ухватиться за мой локоть.
– Каналья, как же жжет… – почти воет он, мертвой хваткой вцепившись в мою куртку.
«Да что он себе позволяет!» – визгливо раздается в моей голове. – «Братуха, ну-ка врежь ему по дырке! Пусть знает, как меня мацать!»
– Да ты совсем плох, дружище, – качаю головой. Даже и не знаю, откуда, но за ключицами просыпается тянущее чувство. Свербит как будто. Словно мне жаль этого мелкого засран…
Да не, брехня. Просто он знает, где моя Цепь. И Бруг вотрется к нему в доверие.
Хитрый Бруг всё предусмотрел! И никакая это не жалость.
– Давай, пацан, обопрись на меня, – подставляю я плечо.
– Сам дойду, – он кривит потемневшие губы. – Что я, девка, что ли…
– Да не боись, не ужалю! – скалюсь я и сам обхватываю его вокруг талии.
– Отвали, – бурчит он зло.
Но всё равно кладет руку мне на плечо.
– А где типа… Твой ошейник? – вдруг спрашивает Лих, когда мы доходим до середины винтовой лестницы. Той самой, по которой спускались в коллектор с улицы.
– Ну надо же, ты заметил, – язвлю, подтягивая его на следующую ступень. – Потерялся. Этим вашим игрушкам доверия нет. Одна пылинка – и нет навороченного ошейника.
– Выходит, ты мог просто уйти, – Лих морщится, перенеся вес на больное бедро.
– Мог.
– И чего не ушел?
– Наверное, потому что Бруг – славный малый? – прыскаю я. – Или хочет впечатлить твою сестренку, чтобы стать тебе свояком?
– Гонишь, – Лих впервые за долгое время улыбается, пусть и вымученно. – Она слишком стерва.
– Это да, перегнул палку, – соглашаюсь я.
– А если по чесноку? Мог же свалить…
– Ой, помолчи, дружище, – филигранно ухожу от ответа. – Думаешь, легко тебя на горбу тянуть и еще головой думать?
– Да ладно, ладно… – заверяет Лих, но спустя пару ступеней вновь прерывает молчание. – Курва, мы же засор не пробили.
– Рассосется.
– А леперы?
– Кому надо, сам пусть за ними ныряет.
– То есть, дядя, ты теперь согласен, что та рука леперская?
– Нет.
– Тебе что, извиниться западло?
– Продолжишь лясы точить, и я тебя вниз сброшу.
До заветного выхода осталось немного, но Лих будто набрал вес. Моя рука, обхватившая его вокруг пояса, ноет от усталости, да и ногами парень ворочает всё слабее. И пыхтит, что масел-котел.
– Чего расслабился? – кряхчу я. – Может, еще на шею мне сядешь?
– Размечтался… – невесело отвечает Лих. – Передохнуть бы.
– Наверху передохнешь, дружище, – отрезаю я. – Как нога?
– Как чужая, – Лих поднимает взгляд к своду шахты и шумно вдыхает. – Голова кружится… Пусти посидеть, а.
– Не-не-не, хитрец, – фыркаю я. – Ты сейчас отключишься, а мне тебя волоком тащить? Ты это, глаза не закрывай.
– Ладно.
– Смешную вещь хочешь? – не нахожу ничего лучше, чтобы взбодрить Лиха.
– Ну?..
– Внимание, анекдот. Закончился бой. Смертельно раненый респ лежит в лазарете. Тут мимо проходит лекарь, а респ его и спрашивает: «Кум, чую, недолго мне осталось. Скажи, а что будет после смерти?»
– А лекарь ему что?
– А он респу и отвечает: «Перестелим твою койку и положим другого».
Лих только хмыкает.
– Ой, неужели не смешно? – ворчу я.
– Было бы смешнее, – тихо отзывается Лих, – не окажись я сейчас на месте того респа.
На последних ступенях я взваливаю парня почти силой. Прислонив его к прохладной стене караулки, требую у него ключ. Приходится повозиться с замком – впотьмах не сразу-то и скважину найдешь. Но вот два заветных оборота ключа, и дверь со скрипом отворена.
Свет улицы бьет по глазам, и я прикрываюсь ладонью. Воздух Бехровии кажется свежим, как в сосновом бору – и легкие норовят растаять от удовольствия.
– Смешная вещь номер два! – кричу я взад, пытаясь проморгаться. – Почему шутки про утонувших респов всегда поверхностные?
Лих отвечает ворчанием.
– А потому что… – закончить не выходит. Вдруг что-то хлестко, как ветка в бурю, бьет меня по морде. – Шельма!
Лоб и щеку жжет до одури, словно приложился о край раскаленного котелка. Знакомая боль. Она отзывается покалыванием где-то в спине – бугристой от шрамов, на которые не скупился отец.
– Где мой брат, дикарская ты гнида?! – режет слух знакомый высокий голос.
В прорези меж пальцев я замечаю знакомую стерву. Инисто-пшеничная челка, острый нос с горбинкой и злющие – как у бешеной лисицы – глаза. В руке у девчонки раскачивается кнут, а грудь высоко вздымается под плащом цвета мокрого камня.
– Там, – коротко бросаю я, растирая лицо. Красный след мне обеспечен. Ну, хоть не кровит.
Вилка бельтом влетает в караулку, там слышится возня.
– …так задержаться! – эхо девчачьего голоса врезается в уши, что винт ошейника в фанеру. – Обязательно было запирать будку?!
– Давай… потом, сестренка, – вяло откликается ей.
– Что там у тебя? – тон Вилки сходит со злобы до озабоченности, но вновь возвращается к гневу. – Это тебя ублюдок так?!
– Не, это типа… Шишигон, что ли.
– Шишиган, – поправляю я, облокотившись о дверной косяк. Тру лоб, тру щеку – и не могу надышаться Бехровией. – Его к деду надо. Или он прямо здесь откинется.
Вилка возникает в проеме как ужасный дух возмездия. Да уж, Корпус призраков революции по ней плачет – с такой убедительной мимикой ей бы княжичей на допросах раскалывать.
– Что с ним? – рокочущим голосом требует она.
– Шишиган отравил. С ногой беда, – подслеповато щурюсь я. – Еле дотащил его тощую задницу.
– Не думай, что я тебе спасибо скажу. Это ты должен благодарить Табиту, утырок, – цедит она, мысленно уж, наверное, расчленив меня на маленькие Бружочки. – Пошевеливайся! Поможешь дотащить брата до шагохода.
– Не вопрос, моя госпожа, – натянуто улыбаюсь в ответ, но шальная девка не удостаивает меня даже плевком.
Когда Лих кулем развалился на заднем сиденье шагохода, Вилка ловко запрыгнула на переднее, не отворяя дверцы. Ее шагоход оказался мельче тех, что я видел раньше. Похожий окрасом на спелую оливку, вытянутый и привлекательный глазу своей обтекаемостью, он отдаленно напомнил мне безголового зайца. Когда Вилка крутанула внутри колесико, а после не глядя передернула рычажки, шагоход не затарахтел, не задымил, как просмоленная курильщица. Только выдал мягкую вибрацию, точно котенок, и напружинил блестящие шарнирные лапы.
– А Бругу местечка не найдется? – как бы невзначай спросил я.
– Чтобы ты загадил весь салон? – фыркнула Вилка, постучав пальцем по циферблату на передней панели. – Прогуляешься.
Она уперла ногу в пол, и шагоход легко, почти не качнув кабину, переступил с лапы на лапу.
– Стой! – я зашарил рукой под курткой. Грязные пальцы липли к черной подкладке, тоже измазанной слизью.
– Ты меня достал! – рявкнула Вилка, оборачиваясь ко мне. – Что еще?
– Лови.
Вилка, привстав в кабине, хлопком поймала брошенное и с сомнением покрутила его на ладони.
– Что за дрянь?! – чуть не сходя на крик, спросила она, подняв над головой мерцающий перламутровый шарик.
– Алемброт, подруга, – хмуро ответил я. – Отдай Строжке, он разберется.
Бросив на меня последний испепеляющий взгляд, Вилка брезгливо кинула шарик возле бедра, а после вдавила ногу в днище шагохода. Безголовый заяц цвета оливки проворно засеменил по переулку, изредка пыхая белым дымом из-под брюха. И скоро уж скрылся за углом публичного дома.
Выйдя на бульвар, шумевший сотней голосов, я с досадой оглядел ту самую вывеску. Девица в кружевном белье всё так же подмигивала сверху. Только теперь как-то… Жалостливо, что ли.
– Ну и дурак ты, Бруг, – вздохнул я, ощутив голодную пустоту в груди. Там, где кожа еще помнила округлость алемброта. – И снова без гроша на папиросы.
Я тащился по городу бес знает сколько. Когда с обворожительной – в стиле Бруга – улыбкой интересовался у прохожих, который сейчас час, от меня шарахались. Да, грязный. Да, волосы спутались в воронье гнездо, а борода – в хворого черного ежика, ну и что? Пахну навозной кучей? Да на себя посмотри, тюфяк набриолиненный.
С вышки масел-троса меня тоже погнали в шею. Констебль в окошке прокричал что-то вроде: «Прочь, бродяга, пока в карцер не забрал». Я грозился помахать ему перед лицом корочкой цеховика… Но не учел, что цеховик я только на словах. Пришлось бежать.
Кое-как, по наитию я кочевал по линии масел-троса от одной вышки до другой. Разглядывал палаты купеческих гильдий и увеселительные заведения всех сортов. Одни хвастали пухлыми куполами, другие – кровлей, вздыбленной гармошкой, или резными коньками наверху. Но все как на подбор отличались пестрыми вывесками, будто норовя перещеголять соседа. Эти домишки были на порядок веселее и затейливее хмурых строений пригорода, и повсюду: в просторных дворах и на пешеходных бульварах, – броско торчали шатры, будки ларьков… И цветастой змейкой уползали куда-то торговые ряды.
Наконец я добрел до широченного, о гранитных опорах моста, протянутого над водой. Узкая полоса канала с гладью темной, что вороненый металл, резко обрубила парад питейных, борделей, лавок перекупщиков…
Перейдя мост, я вновь очутился меж зубцов прибехровских крыш.
А там уж по старой памяти разыскал скорбную развалину Хремовой кирхи. В обеденной зале трещал свежими поленьями очаг.
– Явился, – кивнула мне Табита, сгорбившаяся над кучей исписанных тетрадей. Рядом стояла вчерашняя бутылка виски, чуть поодаль – стопка пустых стаканов. – Садись, Бруг… – поморщившись, она ухмыльнулась злорадно. – Ух, ну и несёт же от тебя, гамон.
– С почином, – вежливо поздравил Строжка, как бы случайно поднеся к носу платок. Он сидел рядом с мастершей, окруженный компанией лекарских инструментов. Тут же стояла открытая бутылочка с прозрачной жидкостью; пахнуло спиртом. – Сталбыть, нелегонько пришлось-то?
– Дерьмово, – выдохнул я и плюхнулся на стул. – Слишком дерьмово для первого цехового поручения.
– А никто не обещал, что будет просто, ага, – Табита обнажила в полуулыбке широкие зубы. – Тебе налить, сынок?
– Лишним не будет, «тётя», – насмешливо проворчал я.
– На первый раз прощаю, но назовешь так снова, – Табита почесала бычью шею, – язык отрежу, ага? А пока угощайся.
Бутылка звякнула о стакан в руках мастерши, и Строжка пододвинул ко мне заслуженное спиртное. Виски приятно обжег горло. Алкоголь не из изысканных, но я с удовольствием перебил послевкусие шишиги. В желудке благодарно потеплело.
– Как Лих? – справился я.
– Дык легко отделался, – скрежетнул Строжка, натирая платком узкий, как перышко, нож. – Ногу-то спасли, скоро плясать будет, хе-хе. Стоит тебе, братец, должное отдать: без алемброта пришлось бы попотеть старику. Большая удача такой абсорбент заполучить. С ним-то семя шишигино быстро…
– Строжка, давай не за столом, – покосилась на него Табита.
– Да-да, – замялся тот. – В общем-то, всё в порядке, но покамест гуморы в порядок не придут, придется мальчику отлежаться. Если можно, братец Бруг, такой вопросец…
– Спрашивай, старик, – устало разрешил я.
– Про алемброт-то ты откуда прознал?
– Как он зовется, узнал в Эстуре, – признался я. – Там Алые колдуны кругленькую сумму за него отваливали. Я неделями не просыхал… Но, если ты о Глушоте, до́ма его лизали с перепою, – усмехнулся я, вспоминая славные деньки. – Мы его зовем «бодун-соль».
– Познавательно, однако, – нахлобучив очки на крючковатый нос, Строжка вынул из штанов записную книжку и огрызок карандаша. Послюнявив кончик грифеля, дед принялся что-то сосредоточенно чиркать на полях.
Табита жестом дала мне знак, и я катнул ей пустой стакан. Вернула его она наполненным до половины – в отличие от своего, где виски опять плескался до краев.
– Стыдно признаться, Бруг, – облизав губы, она сделала крепкий глоток, – но ты, хоть и гамон, сегодня проявил себя молодцом. Не ожидала, ага.
– И что, даже не пожуришь молодца Бруга за ошейник? – прищурился я, отхлебывая из стакана.
– За то, что гремлинова поделка грязи боится? Не смеши, сынок, – скривилась мастерша. – Там, где ты ошейник оставил, ему самое место. Молодец ты потому, что Лиха не бросил. Поступил как настоящий цеховик, ага. Ой, можешь кривляться сколько угодно, но оно так: мы своих не бросаем.
– Ты даже не представляешь, как я рад за вашу маленькую дружную семейку, – иронично огрызнулся я и, отпив еще, погонял виски во рту. Язык, как ни странно, всё не мог забыть отвратного, с несвежей горчинкой, вкуса слизи. – Но мне бы мою Цепь, раз я такой умница. А то, знаешь ли, голыми руками с шишигами драться – не совсем мой конек.
– Не зарывайся, – Табита грозно сверкнула болотом глаз поверх полупустого стакана. – Моё признание твоих заслуг еще не означает, что я тебе доверяю. Это просто констатация факта, ага. Сегодня ты справился, но что будет завтра? Задушишь этой же цепочкой как последний гамон?
– Да не, подруга, – оскалившись, зло хохотнул я. – Она ведь лопнет на твоей шее!
– Ну и смелый же ты, сынок, – Табита угрожающе понизила голос, но во взгляде ее промелькнула искра веселья. – Когда-нибудь это сыграет с тобой плохую шутку, но пока… Вот, полюбуйся.
Табита потянулась вперед, навалившись на стол мощной грудью, и по дереву, испещренному короедом, скользнула маленькая книжечка. Когда та уж хотела пролететь мимо, я прихлопнул ее ладонью, точно неосторожную мышь. А когда поднял ладонь, брови мои поползли вверх.
Передо мной лежала небольшая, с красный документ Вилли Кибельпотта, книжица. Тонкая, в черной кожаной обложке с круглым оттиском – какая-то колючая башня на фоне очертаний гор.
– Познакомься, – со скучающим видом вставила Табита, – та дылда на гербе – это Глёдхенстаг. Даст Хрем, побываешь там, чтобы познакомиться с местными обитателями. Скажешь им «спасибо» за ошейник.
Обложка сочно хрустнула, добротная желтоватая бумага зашуршала, перевернувшись. На первой странице синела надпись: «Главное цеховое управление Бехровии», – а ниже, под заголовком «Догматы цехового братства» бесконечным списком уходили вниз нудные правила. Читать я их, конечно, не буду.
– Зря догмы пропускаешь, сынок, – усмехнулась в стакан мастерша. – Хорошо бы знать их, если встретишь ублюдков из Белого братства. Чтобы им самим напомнить.
– Мой талант в импровизации, – отмахнулся я, листая дальше.
И на следующей странице виски чуть не встал мне поперек горла.
– Спасибо вам от Бруга, что пихнули его в свой гребаный цех, – начал я, откашлявшись, – но…
– Всегда пожалуйста, сынок, – хохотнула Табита и отсалютовала мне стаканом. Строжка машинально кивнул, не вникая, и продолжил калякать карандашом.
– …но какого беса я теперь «Шваржаг»? – я запнулся; верхняя губа застыла то ли в усмешке, то ли в гримасе отвращения. – «Бруг Шваржаг»?!
– А что? – фыркнула Табита. – По-моему, очень остроумно. С предгорского это переводится как «черная куртка», ага.
– А звучит как «шваль»! – в сердцах захлопнул я цеховую книжку.
– Что тоже очень тебе подходит, – женщина не улыбнулась, но в ее взгляде отчетливо читалось ехидное удовлетворение. Добив виски одним богатырским глотком, Табита коснулась волос над правым ухом – и между пальцев у нее возникла мятая сигарета.
В висках у меня загудело, пересохло во рту. Под кадыком алчуще екнуло.
– Мастер, – внезапно севшим голосом обратился я к ней, – поделись с подчиненным куревом, а?
– Извини, сынок, – Табита вынула из кармана брюк потертую зажигалку, – каждый вечер я беру себе одну-единственную. Тут недалеко продают поштучно.
– Так можем, э-э, – я облизнул губы, – на двоих растянуть?.. Пополам, как цеховик с цеховиком.
– Извини, – повторила она, зажав сигарету между зубов, – для меня это что-то вроде символа. Успешного окончания дня, ага? А половина сигареты будет значить, что и день успешен наполовину. Согласен с мастером?
Я рывком поднялся из-за стола, громко грохнув стулом. Строжка испуганно вздрогнул, и очки съехали с его узловатой переносицы на самый крючок носа.
– Жмотяра! – рявкнул я.
– Братец Бруг, – аккуратно встрял старик, вновь промокнув платок спиртом, – коли нужно будет обмыться, то бадью, сталбыть, у выхода возьми… И да, энтот твой след на лице…
Кожа будто вспыхнула с новой силой там, где ее погладил кнут Вилки.
– Сам разберусь.
Раздраженно глянув на Строжку, заткнув цеховую книжку за пояс, я мухой вылетел из обеденной. Дожидаться, пока Табита закурит, а по залу поплывет заветный дым, не хотелось. Не ровен час запрыгну на стол и с боем отберу окурок, точно оголодавший дворовый кот – сосиску.
Уж слишком давно я не курил. До дрожи в коленях давно.
Сложно нести бадью и одновременно подниматься по лестнице. Ступеньки узкие, а бадья такая гигантская, что я в ней помещусь целиком. Приходится неустанно пялиться под ноги, чтобы не скатиться кубарем вниз, ведь впереди, застилая взор, маячит это необхватное дощатое нечто. А еще воду носить…
Дневной междусобойчик с шишигой дает о себе знать, и я уже вспотел как полёвка. Мда, видел бы меня отец… Добравшись до второго этажа, опускаю бадью на пол, надеясь перевести дух.
И беззвучно ругаюсь. Прямо напротив, облокотившись спиной о дверь моей комнаты, стоит Вилка.
– От тебя убийственно пасёт. Просто убожество, – презрительно выплевывает она, не поднимая на меня холодных серо-голубых глаз. Вернее, только одного глаза: другой скрыт длинной челкой, зачесанной набок и доходящей до острого подбородка.
– А я-то подумал, день не может стать еще хуже, – парирую я, разминая затекшую поясницу. – Решила, что мне на сегодня недостаточно одного чудовища, и пришла сама?
Как будто мало того, что руки ее скрещены на груди, она еще и ногу в колене сгибает. Узкие штаны из вельвета скрипят и, натянувшись на голени, оголяют изящную лодыжку. Закрытая поза высшей степени.
– Ты слишком высокого мнения о себе, раз думаешь, что мне есть до тебя дело, – Вилка морщит нос. – А мне всё равно… пока ты не выдашь свою гнилую натуру, таборянин.
Она качает головой, и высокий хвост ее волос цвета заледеневшей нивы рассыпается по плечам
– Это очередной комплимент или что? – закатываю глаза и тоже скрещиваю руки на груди. Моя куртка согласно скрипит, точно соревнуясь в музыкальности со штанами девчонки. – Строишь из себя белую и пушистую, а язычок у тебя тоже как у таборянки.
Вилка дует на челку, и та обнажает второй глаз. Как и его брат-близнец, он смотрит на меня с нескрываемой неприязнью.
– Тебе следовало уйти, когда была возможность, – упрекает девушка. – Не боишься, что найду для тебя другой такой ошейник?
– Так хочется меня приручить? – усмехаюсь я. – Что, тётушка Табита не разрешает завести щенка?
– Нет, – она делает шаг мне навстречу, порывисто, как шквал штормового ветра. – Только хочу понять, что нужно сделать, чтобы ты исчез из нашего дома, – Вилка щурит глаза. – Заплатить? Отравить? Зарезать во сне?
– Для начала, красотка, – я вздыхаю, – дать мне вымокнуть в водичке часик-другой. Можешь потереть работяге Бругу спинку, если нечем заняться.
В ответ она неестественно смачно, по-мужски сплевывет на пол.
– Так я и думал, подруга, – я пожимаю плечами. – Кажется, любезности кончились.
Подхватив бадью на руки, я ровным шагом направляюсь к двери. Вилка настороженно, как дикое животное, обходит меня полукругом и оказывается сзади. Я же пытаюсь нащупать ключом замочную скважину.
– Зачем ты вытащил Лиха? – вдруг спрашивает она.
– Чего? – переспрашиваю я, ковыряя дверь. – Не знаю. Надо было бросить его помирать там, что скажешь? А тут Бруг что-то… – ключ проникает в отверстие, – сглупил.
– И это всё? – скалится она, вновь недоверчиво скрестив руки. – Единственное, что держит здесь таборянина, это его таборянская тупость?
Дверь поддается с натужным скрипом, и я заталкиваю бадью внутрь.
– А еще жратва, теплая постель и его таборянская Цепь, – заканчиваю я, обернувшись к Вилке лицом. – Бругу жу-у-утко дорога его Цепь.
– Мой тебе совет: получишь цепь – уходи. И помни, лишь один косяк, и…
– Непременно, подруга, – ослепительно улыбаюсь на прощание и закрываю дверь перед носом Вилки. Но замок не звякает, а дверь резко останавливает ход, будто наткнувшись на камень. Виной тому туфля Вилки, втиснутая между дверью и косяком в последний момент.
– Спасибо, – напоследок бросает Вилка. От нее это слово звучит так, словно сказано нечаянно и впопыхах. – За брата.
Туфля так же быстро исчезает из щели. А когда я наконец нахожусь с ответом, мягкие шаги уже слышатся на лестнице – отдаляясь с каждой секундой.
– Обращайся, – невольно отвечаю я, застигнутый врасплох.
И тут же запираю дверь – как бы испугавшись неуместности оброненных слов. Или того, что обронил я их самому себе.
«Не верь никому, Бруг-Бружок!» – верещит в голове тот самый голос из коллектора. – «Уж мы-то с тобой два сапога пара! Бруг и его верная куртка! И когда все киданут, твой кожаный братуха останется с тобой», – шнуровка куртки растягивается сама собой, точно в плетеной усмешке. – «Да? Да?! Ну да! Вот только достанем цепочку – и ништяк! А пока… М-м-м, отмоем твой крепкий зад до блеска».
ГЛАВА 7. Нимфа
Шесть бехровских цехов – преступление против цивилизованного мира. Хотя их создание оправдывают борьбой с нечистыми тварями и одержимыми, цеха по сути своей являются кучкой разбойничьих банд. У каждой – свой главарь, своя философия, свои божки-покровители и даже требования к новобранцам. А единственный мотив их службы – банальная жажда наживы. Иными словами, цеховое братство – поистине олицетворение алчности, идолопоклонничества и идейной раздробленности. То есть всего того, с чем Республика поклялась сражаться.
Мацей Бжештот, «Моя Революция»
В этом городе каждый вечер ошеломляет – своим одиночеством. Людей здесь, что клопов в подстилке бродяги, и все они бесконечно чужие. Иной раз хочется выть волком, тоскливо так выть…
Но я Бруг. А Бруг не воет. Не с кем потрепаться? Ну и плевать. На улице льет как из ведра, а на душе горчит? А вот срать я хотел на это всё.
«Да, Бруги-вуги!» – поддакивает кожаная куртка. – «Шли ты их всех подальше, ведь только ты здесь настоящий красавчик! Ты – непонятый герой! И как только можно быть таким опупенным?! Ну же, спроси себя! Спроси!»
Спрашивал – а как же. Но ответ один: я просто замечательный. Так бы сказала мамаша, знай она меня. Да и батя тоже, не будь он конченым ублюдком.
О плечи тарабанят мелкие капельки. Собираются под воротом куртки в ручейки и стекают вниз. Чтобы шмякнуться затем о башмаки с окованными носами – брызжа, как слюни бойцового пса.
Дверь у хозяина великанская, а дрожит от моего башмака как забитая нищенка. Стучу снова. Без изменений. Мой спутник, не побоюсь этого слова, коллега по цеху, не подает вида. Он редко вообще вид подает, а если и подает, то вид вусмерть тоскливый. Я не жду от него многого – деда всё–таки удар хватил – но он мог бы хоть изредка улыбаться на мои шутки. Впрочем, улыбается он тоже тоскливо: перекошенным от инсульта ртом. И взгляд еще такой безучастный… Будто я пошутил когда–то давно, потом умер, а дед вспоминает моё чувство юмора с ностальгией.
– Строжка, может, у тебя хоть покурить есть? – прерываю молчание.
– А? – он поправляет очки в толстой оправе, но смотрит куда–то сквозь. – Не, у меня нету. От цигарок желчь в голову даёт… А мне хватит в голову, хе-хе. Жмых-жижа есть… Жижу будешь?
Куртка оживляется, бодро поскрипывая.
«Давай! Давай, Бруг-Бружок!» – скрипит она. – «Вмажемся по самые ноздри!»
Меня передергивает. Жижа – та же папироска, только доза медвежья. Один раз расслабишься, так потом весь вечер ни нюха, ни вкуса, ни желания жить дальше. Нет уж, хватит в нашей компании одного паралитика.
– Ладно, забудь, – вздыхаю, – в другой раз. Лучше скажи, сколько ждать еще. Не отпирают нам, черти, точно и не звали.
– Ждать нам – сколько потребуется. А ты чего это, братец Бруг? Волнуешься никак?
Строжка разлепляет губы, но выходит криво. Словно обе его щеки не могут договориться и действуют наперегонки. Неужели ухмыляется?
– Я бы чувствовал себя лучше, если бы мастер вернула мои вещи. С какой это стати я хожу на дело с голыми руками? Даже у беспризорников есть ножики.
– Ты же сам оплошал тогда, братец Бруг, – напоминает дед. – Сурьезно оплошал.
– Завалил парочку выродков, которые сами на меня полезли? Ваш город смертельно болен, раз самооборона тут вне закона.
– Убийство – всегда убийство, братец, – философски задвигает Строжка.
– Убийство. Как громко сказано! – фыркаю я. – Это была чистка. Волки – санитары леса, а я – санитар ваших улиц. Только вот волками восхищаются, малюют серых на гербах. А меня, практически героя, лишают оружия и шлют разгребать дерьмо.
– Ишь ты, герой выискался… Сказал бы, кхе, спасибо, что мастер не упекла тебя в карцер, а дала испытательный срок.
Беседа изживает себя, и безмолвие вновь обнимает наши рабочие будни. Не то чтобы мне было невмоготу стоять на крыльце чужого особняка или я боялся промокнуть… Не-а, Бруг не неженка! Просто такие вечера – они для простого мужицкого «поразмыслить». Впору стрельнуть папиросу, наконец – и курить с таким хмурым выражением лица, что никто не усомнится в тяжести твоего существования.
Колокола в соборе Двуединого отзванивают половину одиннадцатого.
– Да уж, давненько я в ночь не выходил… – дед заводит старую шарманку. Раз второй или третий за сегодня. И снова ни с того ни с сего. – Как тебя арестовали тогда, так и не берут больше старого на дела. Как же тебе, Бруг, не стыдно-то у Строжки хлеб отбирать?
– Сам же знаешь, что не стыдно.
– Экий ты! – взгляд его рассеянно блуждает где-то в районе моего уха. – А бывали времена, когда я жульё своими-то руками крутил. Вот в прошлом году еще…
Я смиренно жду окончания истории. Если задавать вопросы или огрызаться, рассказ становится только длиннее и обрастает новыми подробностями – я проверял. Причем подробности всегда разные: то ли память не та, то ли на ходу выдумывает.
– …ну и прут я подобрал, значит. Ну, такой вот, с сажень авось или поболее…
Главное, не встревать. Так он заговорится и увязнет в воспоминаниях, как в болоте.
– …ну и хрясь ему по тулову. А он, такой-сякой, всё равно встает…
Так, а вот и новые краски. В предыдущем рассказе «такой-сякой» не встал.
– …а я что? Пришлось ему показать, как у нас в городе принято. И вот тогда…
Двуединый, милостивое ты божество… Будь добр, а?
Заставь колокол биться чаще в своем гребаном соборе.
Нас встречает просторная прихожая. Она велика настолько, что здесь поместится скромное кабаре – со сценой для плясок, барной стойкой… А вынести отсюда вешалку и исполинский, вдвое выше меня гардероб, так влезет еще и гримерка для танцовщиц, разодетых в перья и блестки.
– Вы уж извините меня, пожалуйста, что так долго. Запирала библиотеку на втором этаже, а там и не слышно совсем, что в дверь стучатся. На то она и библиотека, чтобы тишина стояла. И дом-то объемистый, а я сегодня одна тут кручусь: господин Миртски привратнику выходной дал… Да и всем дал – чтоб вам работалось спокойно. Одна я без выходного, но мне грех жаловаться: хозяин у нас щедрый и не бьет за просто так…
Если бы ты знала, милая девушка, сколько мне пришлось выслушать, пока твои юбки подметали в кладовой. У-у-у, только спроси Строжку о прошлом – и коса твоя поседеет досрочно, а пальчики задрожат алкоголически.
– Вы, если вымокли, – запыхавшись, продолжает камеристка, – оставьте верхние платья в прихожей. Я развешу хорошенько, не опасайтесь: просохнут еще раньше, чем работу кончите.
Строжка послушно закидывает габардиновый плащ на вешалку и расправляет складки; под ним на полу становится мокро. Я пропускаю слова камеристки мимо ушей и только расстегиваю куртку. Куртка довольно урчит, называет меня «настоящим дружищем». Не бросил ее одну, молодчина. Бруг – настоящий друг!
Дед, заправляя белую сорочку в коротковатые штаны, щедро обшитые карманами, критически меня осматривает. Это дается ему с трудом – с таким-то расфокусом.
– Ты бы, кхем, расчехлился как я, – морщится тот половиной лица. – А то ж у тебя и так наружность бандитская: волос чёрен, борода как смоль. А тут еще и куртка эта… Того и гляди – разбойник, а не цеховик.
«Чего сказал?!» – надсадно верещит куртка. – «Это стиль, это имидж! Изнанка черной души Бруга!»
– Какой цех, такая и наружность, – едко замечаю я. – Зачем давать людям ложное представление?
Камеристка тут как тут – с глазами цвета гешира с молоком, слегка красноватыми от недосыпа. Невинный румянец щек, аккуратный клинышек носа – всё это симпатично. Но мало кого красит серая косынка с лоскутком паутины, случайно подцепленным где-то впотьмах. Еще менее красят мозолистые ладони, воспаленные от мыла и порошка. Девчушка пытается их прятать, сжимать в кулаках на запыленном фартуке – но иногда забывает. Кажется, таких девиц и пишут на полотнах престарелые рисовальщики. С эдакими еще одухотворенными подписями внизу: «Дама в платке», «Портрет служанки» или вовсе как-нибудь загадочно – иногда инициалами.
Увлекался б я высокохудожественной мазней, так и называл: «Камеристка госп. Миртски, несчастна, служит жлобу за гроши».
– Извините, пожалуйста, что спрашиваю, – камеристка осторожна, как молодой заяц. Не удивлюсь, если хобби господина Миртски – перегибать палку с дисциплиной, – а вы из какого цеха будете? В нашем квартале Белое братство, вроде, порядком заведует, но вы на них не очень…
Девушка останавливается на полуслове, боясь ляпнуть лишнее.
– Не очень «что»? – хмыкаю. – Не очень похожи? Оно и неудивительно, крошка, ведь Белое братство – сплошь сборище расистов и фанатиков. А мы нет – мы цех порядочный и веротерпимый… Прямо-таки образцовый! Правда же, старик?
Щеки камеристки покрывает румянец. Строжка же ёжится и втягивает седую голову в плечи, будто пытаясь спрятаться от того, что я наговорил.
– Мой братец… Мой брат по цеху имел в виду, дочка, – он судорожно ощупывает пуговицы на сорочке, – что у мастера Белого братства… Ну, у мастера, то бишь у господаря Кибельпотта, семейные неурядицы, – бегло косится в мою сторону, – и оттого их цех нынче занят.
– О-о-очень занят! – поддакиваю я. – Расизмом.
– И вот, значит, дело к нам перенаправили. А мы-то сами из цеха Хрема, в пригороде трудимся. Маленький такой цех, небольшой. Да ты про нас и не слышала небось…
– Не слышала, – коротко отвечает камеристка, нахмурившись. – А господин Хрем тоже бог? Как Двуединый или Упавший?
– Ага, типа того, – я демонстративно зеваю, – такой же молчаливый разгильдяй, только непопулярный и без храмов.
Строжка, вздрогнув, непримиримо шикает на меня:
– Коли боги не отвечают тебе, Бруг, дык в том вина тебя одного.
– Просто «Бруг»? – посмеиваюсь. – А чего вдруг не «братец Бруг»?
Старик промакивает рукавом перекошенный рот. Верно, пытается стереть с губ мое нечестивое имя.
– Оттого что ты богохульник, каких поискать.
Повисает неловкая пауза. Строжка молчит от обиды, а я – потому что не ожидал от него такого религиозного рвения. Цех цехом, но зачем так обзываться?
Замечаю, как камеристка нетерпеливо топчется на месте. Я собираюсь задать ей напрашивающийся вопрос, но меня опережает старик.
– Что, лупит тебя господарь-то?
Раз даже он заметил, то…
– Нет, что вы! – лицо камеристки наливается пунцовым и тут же зеленеет, выдавая ее с потрохами. – Просто огорчится очень, что я вас задерживаю. Извините… Пойдемте скорее, пожалуйста!
Особняк изнутри – мрачный лабиринт коридоров и проходных комнат. Зайдешь в одну комнатку, с камином и напольными часами под самый потолок, а в ней уже двери в другую, очень похожую по планировке – но с бархатной тахтой и журнальным столиком. Света мало или нет вовсе: окна плотно занавешены, а лампы горят в каждой второй или третьей зале, – время позднее, и хозяин уж готов отойти ко сну.
Вверх по бесконечной лестнице, где скрипит каждая ступенька – и мы на втором этаже. Элишка – представилась камеристка как бы невзначай – ведет нас по причесанным коврам, ловко маневрируя меж метровых вазонов и миниатюрных тумб. В руке она сжимает масел-фонарь, но мы со стариком то и дело давим друг другу ноги… Я даже чуть не порвал штанину о чучело безымянного карликового козла. А в длинной анфиладе* так вообще – ощутил чье-то давящее присутствие.
Но оглядевшись, выдыхаю. По обе стороны из золоченых рам взирают лики женщин: с одинаково лошадиными лицами, сидя в одинаковых позах и с одинаковыми же прическами, они напоминают множество отражений одного человека – но всё же чем-то неуловимо различаются. Женщины, женщины, снова женщины – чертова дюжина скорбных близнецов следит за каждым твоим шагом. И готов поклясться, что стоит резко обернуться – и заметишь, как дернулся нарисованный зрачок.
И как же велико моё удивление, когда я вижу последний портрет, четырнадцатый.
Стройный мужчина с располагающей полуулыбкой. Яркие тона, щегольские усики и жабо с яшмовой заколкой… Вместо сдержанного черного дублета на нем – светло-ореховый, вместо траурного гобелена на фоне – охотничьи трофеи вокруг очага.
– Элишка, – не могу удержаться, – а чего там на всех картинах были почтенные тётки, а тут вдруг – усатый франт?
Камеристка оттараторивает заученной фразой.
– Слугам не должно распространяться о личной жизни своих господ, – опустив фонарь у портрета мужчины, Элишка стучит колотушкой на двойных дверях в самом конце анфилады. По другую сторону слышится неразборчивое мужское «входите», но девушка медлит чуть дольше, чем требует этикет.
– Помогите ей, – добавляет она шепотом. И дергает ручку на себя.
В глубине кабинета, за столом красноватого палисандра, обтянутого зеленым сукном, я вижу… Двойника, вернее, неудачную копию – мужчины с того четырнадцатого портрета. Усы его заметно выросли и воинственно загнуты кверху, а на выпяченном подбородке появилась жадная ямочка. Подозреваю, что ямочка была там всегда, просто художник ее мастерски проигнорировал.
– Добрый вечер, но я ждал не вас, – голос хозяина звучит концентратом претенциозности, а под усами ни намека на ту «картинную» полуулыбку. – Кто эти люди, Элишка?
Камеристка набирает в грудь воздуха.
– Господа цеховики, вашество, – выпаливает она на выдохе.
– Я знаю всех и каждого в Белом братстве. А их не знаю.
– Это другой цех, цех Хрема, вашество.
– Кого? Ладно, разберемся, – Миртски щурится. – Иди-ка ты в зеркале посмотрись, на кого похожа. А поговорим с тобой ночью.
Элишка, ничего не говоря, стрелой вылетает из кабинета. И только перед тем, как захлопнуть дверь с другой стороны, мельком кивает мне. Миртски же плюет на средний палец и начинает перелистывать одну из учетных тетрадей. А их на столе палисандрового дерева целая стопка.
– Хрем, Хрем, Хрем… – надиктовывает он, пока не доходит до какой-то исписанной страницы. – Ага, вот. Зона вашей компетенции, я погляжу, распространяется только на Прибехровье. Ха, немудрено такое, когда в цеху три калеки, две чумы.
– Да уж, приходится вылезать из своей помойки, когда Белое братство не справляется, – в длинном списке моих недостатков нет сдержанности.
– Не переживайте, в свою помойку вы вернетесь уже очень скоро, – презрительно заверяет хозяин. Он вынимает из ящика стола тонкую папку и кидает на сукно. – Ума не приложу, чем так занят Кибельпотт… Но Братство уже провело осмотр моей супруги, так что вам осталось только подписать бумаги и забрать ее в соответствующее учреждение. Кто из вас врач?
Строжка, поправив очки, без лишних слов принимается за чтение. Я, заглядывая ему через плечо, вижу на листе крупное заглавие: «Признание угрозы одержимости». И чуть пониже приписочка: «пациент – графиня Катаржина Клаугет».
– Ого, – присвистываю, – да ты никак граф. Только в фамилии у твоей жены опечатка – во всех буквах. Или «Миртски» – это псевдоним?
– Там нет опечатки, – цедит хозяин сквозь зубы. – Хотя вряд ли вам, простолюдинам, известно понятие морганатического брака.
– Какого брака? Маргаритического?
– Господарь Миртски говорит о мезальянсе, братец Бруг, – бурчит дед себе под нос, не отрываясь от чтения.
– Если менять одно непонятное слово на другое, ни черта понятнее не становится, – скрещиваю руки на груди.
– Это неравный брак, значит, – Строжка доходит до последней страницы в папке. – То бишь, женившись на графине, господарь не стал графом. Проще сказать, кхем, что господарь Томаш Миртски – тоже простолюдин, как и мы, братец Бруг.
Мне трудно разобрать, когда старик шутит, а когда нет – фактура у него такая. Но в том, что Строжка надавил заносчивому сукину сыну на болючий прыщ, я уверен на все сто.
Я прыскаю в бороду:
– Да не может быть! У простолюдинов не бывает портретов!
– Подписывайте и убирайтесь, – багровеет Миртски. – А уж продолжите паясничать в том же духе – и я заявлю на вас куда надо. Простым предупреждением сверху не отделаетесь!
– Не могу подписать бумагу-то, – внезапно выдает Строжка.
– Как? Почему?! – Миртски подпрыгивает в кресле, всплеснув руками.
– Дык в соответствии с Догматом номер семнадцать, коли один цех провел осмотр, опись или прочее, прочее… В общем, другой цех, заступая в дело, обязан совершить переучет, – старик пожевывает губами. – То бишь мне должно супругу вашу осмотреть повторно.
– Ах переучет?! Ну-ну!
Томаш Миртски срывается с места и пружинисто, широкими шагами пересекает кабинет. С поры написания портрета он серьезно прибавил в талии.
– О, так даже лучше! – обманчиво-радостно заявляет он; желваки его ходят ходуном. – Дотошные цеховики сами всё увидят!
Из нагрудного кармашка Миртски извлекает маленький ключ и долго возится у дальней стены. Там, в тени необъятного книжного шкафа, прячется дверца, драпированная органзой.
– Катя, приведи себя в порядок, – властно приказывает Миртски, – к тебе гости.
Пока Томаш мешкает, я вскользь просматриваю письменный стол. Ничего необычного: куча смет, пара газетных рулонов… И аккуратная стопка конвертов пастельных цветов.
В замочной скважине гремит бородка ключа, поскрипывает дверца.
Я «случайно» рассыпаю стопку по сукну – и что же? Женские имена, выведенные крупным почерком с завитушками. Мария, Ханна, Андроника… И никаких Катаржин.
Одержимым женам писем не пишут.
– Ты смотришь конвертики, – дрожит воздух у самого моего уха.
Это не вопрос, не восклицание. Это констатация факта от Катаржины Клаугет. Констатация неровным, скачущим тембром – тембром неиссякаемого возбуждения. Тембром вечных переживаний.
В нос ударяет землистый запах тлена. Вонь немытого тела – тоже. Мурашки по спине.
– Какого…
Сжавшись в большой комок отвращения, я отшатываюсь от стола – и поступаю верно. Промедли я на секундочку, и эта старая кукла прижмется ко мне вплотную. Белая и изможденная, старая брошенная кукла. Становится не по себе, когда видишь изорванный сарафан в подозрительных разводах, длинные чулки до колена, стертые на ступнях до дыр. Она худа настолько, что сарафан висел бы как на вешалке – если б не вздутый живот. Неестественно правильной формы, обтянутый тканью так туго, что не остается складок.
– Графиня, присядьте, будьте добры, – Строжка пододвигает ей стул, приставленный к стене. – Я доктор, буду вас, значит, осматривать.
Серьезно, Строжка? По-твоему, всё в порядке?
– А это кто? – спрашивает она, садясь и тыкая в меня пальцем.
Пусть графиня и намазала губы вызывающе красной помадой, мимика ее неживая. И рот, напомаженный вкривь, зияет свежей раной. Ее лицо сморщилось сухофруктом, и, когда она говорит своим убегающим куда-то голосом, сухофрукт не меняется абсолютно. Только глаза, эти два вытаращенных шара, вдавленные в продолговатый череп, наполнены жизнью. Они живы как никто и ничто в этой комнате.
Они страшно косят, и оттого я никак не пойму, в какой из глаз мне смотреть. Левый, правый? Хрен разберешь, какой из них видит – но оба смотрят пронзительно. Еще чуть-чуть, и проедят в тебе дырки.
– Вы из похоронного бюро, – уверенно заявляет женщина.
– Почему? – я отвожу взгляд.
– Потому что уснула Зоечка. Моя любимая девочка, – она продолжает смотреть, кожей чую. – А вы одеты в черное. Когда вдруг уснула моя матушка, тоже пришел хороший мальчик в черном. Но Зоечку я не отдам, я спрятала ее под подушкой.
– Зоечка – это кошка, – с отвращением поясняет Миртски. – Она спит с дохлой кошкой.
Личико Катаржины спокойно мертвецки.
– Когда ты уснешь, Томаш, мы снова полежим втроем. Как раньше.
– Тьфу ты! – шепотом негодует Миртски. – И вы еще сомневаетесь?
Строжка невозмутимо кладет руку графини, крючковатую бледную палку, себе на колени. Он разглядывает дряблую кожу, простукивает пальцем синие прожилки вен. А потом опускает ладонь на…
Черт, старик…
– Живот-то твердый, водянистый, – замечает дед. – Сталбыть, паразиты?
– Это потому что у меня нимфы, – отвечает Катаржина не задумываясь. – Я заразилась ими, когда доставала старые ящики из-под шкафа.
– Дык нимфы же венерические, – бровь старика недоверчиво выгибается за толстыми стеклышками очков.
– Да, венерические! – графиня вскакивает со стула. – Я знаю!
Она вышагивает конвульсивные па, держась за полы сарафана. Мне чудится, что всё это – просто мой очередной идиотский сон. Ужасающий спектакль в театре абсурда, и Катаржина в нем – заслуженная прима.
В какой-то момент графиня задирает сарафан выше некуда. Но я не успеваю среагировать. То, как Катаржина Клаугет трясет ссохшимися ягодицами, как бы «выгоняя» невидимых нимф, отпечаталось у меня на сетчатке глаза. Я опускаю веки – но спрятаться от этого зрелища теперь негде.
– Вот они нимфы, глядите! – истерически хохочет женщина. – Ловите их, чтобы не разбежались!
Моя куртка еле сдерживается. Моя куртка близка к истошному крику.
– Сумасшедшая… – выплевывает Миртски. – Супруга лжёт. Она заразилась этой дрянью, когда мы ездили в Предгорные княжества. Переспала с каким-то княжичем, вот Двуединый и наказал лоно хворью. После того она обесплодела, сплошь выкидыши.
«И поделом», – добавляет он беззвучно.
– Томаш врушка! Томаш врёт! – причитает графиня, заламывая руки. – Томаш первый изменил мне. Он изменил мне раз, изменил два… И я стала изменять ему каждый раз! – женщина охает. – Но мой супруг совсем перестал со мной любиться. А я так добренько наряжаюсь для него…
Катаржина умолкает, погруженная в неровности сарафана. Она кажется глубоко загипнотизированной всеми этими пятнами да дырочками – и даже что-то нашептывает себе, точно в состоянии транса.
– Господарь Миртски, – возникает Строжка; всё это время он чиркал пером доклад Белого братства, – вас можно поздравить, значит.
– То есть? – хозяин вскидывает голову. Мимолетное замешательство сменяется полуулыбкой. Да, той самой полуулыбкой. – Поставили подпись? Сразу бы так, гости дорогие! Я прикажу Элишке паковать Катины вещи и…
– Нет-нет, господарь. Мы не можем забрать графиню Клаугет, коли та бесом не одержима или не находится на грани.
У меня как камень с души упал. Я, может, и неисправимый альтруист, но вот перспектива тащить эту женщину в Башню Дураков… Через весь город… Нет уж, хватит с меня на сегодня безумных. Прости, Элишка, если обнадежил – но я пас.
– Не одержима?! – усы Миртски гневно колышутся. – Вы слепые?!
– Вены не расширены, рисунок сосудов не нарушен, – читает Строжка протокольные правки, – деформации мышечных тканей и внутренних органов не обнаружены. Склонность к насилию тоже не…
– Насилие? – Катаржина озабоченно вытягивает шею, шарит взглядом по комнате. – Хотите изнасиловать меня?
– Стоять! – хозяин цепляется за соломинку. – В Братстве приносили прибор. Ну, мать его, этот… Чтобы психику мерить!
– Психоскоп? – догадывается старик. – Бесполезный инстурмент, господарь. Завышенные показатели психики, знаете ли, присущи не только лишь тем, кто бесами одержим. А вот внешняя-то морфология…
Беспокойные зрачки Катаржины находят меня. Намалеванный рот раскрыт в щербатой гримасе.
– Тебе придется постараться, если хочешь насиловать, – я догадываюсь: так она улыбается мне. – Графиня станет царапаться, когда ты будешь насиловать.
Графиня пятится к шторке органзы – и манит пальцем вслед.
– И что ты хочешь этим сказать? – у Миртски дрожит ямочка на подбородке. – Что она здорова?!
– Нет, господарь, ваша жена душевнобольная, – уступает Строжка, – но не одержимая. Помешанные очень чутки на дуновения из мира бесов, Эфира то бишь. Оттого и психика зашкаливает.
Стоит за шторой. И делает вид, что прячется – но смотрит, смотрит, смотрит. Дерганый глаз в просвете органзы. Нитка слюны, красная от помады.
– Не стесняйся… Моего мужа нет дома.
Тощая нога в приспущенном чулке. Нога, что зазывно скользит из-за шкафа.
– Ну а ты что? – окликает меня Миртски. – Ты-то какого черта заткнулся?
Мне требуется пара секунд, чтобы оправиться. Господин Томаш побеждает оцепенение гораздо быстрее. Но он не опешил, нет – он взбешен.
– Катаржина! – гаркает хозяин. – Пошла вон отсюда!
– А как?! – взвизгивает та. – А любить меня кто? Ты будешь любить?
Господин Томаш сжимает кулаки. Его страсть – перегибать палку с дисциплиной. Другая страсть, очевидно – мезальянсы, а третья – изменять поехавшей жене.
Сегодня господин Томаш, думается, отменил променад с красавицей-соседкой, чтобы принять гостей из Белого братства. Затем узнал, что пришедшее братство – совсем не Белое. И вдобавок это Небелое братство отказывается упечь жену в Башню Дураков… А теперь и вишенка на торте – потрясающий танец кабаре от госпожи Клаугет.
Чаша терпения Миртски закипает, и пена валит через край.
– Да никто тебя не любит, кобылья ты рожа! – бурлят остатки флегмы. – Страшная никчемная выдра! Да если б не твоя богатенькая мамаша, плевал бы на тебя с высокой колокольни.
– Томаш…
– Я уж думал, раз спятила – так и дело с концом. Так нет же! Морганатический, сука, брак! «Теряете всё, господин Миртски!» «Состояние закреплено за графиней, господин Миртски!»
Беспокойные глаза Катаржины меркнут, покрываясь соленой пеленой.
– Ни-ког-да тебя не любил.
Сначала думалось, женщина просто уйдет в себя. Провалится в бездну своего безумия, придавленная признанием супруга. А снаружи останется пустой кокон – из дряблых белых нитей с синей сеточкой, весь в подозрительных разводах.
Катаржина задирает голову, чтобы зайтись воем раненой волчицы – но молчит. Из глаз, слепых от горя, хлещут слезы. От слез сильнее течет помада, и на сарафане – у самого ворота – распускаются розовые бутоны новых пятен.
– Господарь Миртски, будьте пожалостливее, – тихонько советует Строжка.
– С какой это стати?
– Сильный-то стресс, знаете ли, как любое переживание, утончает границы нашей психики.
Скрипит и затворяется дверца, драпированная органзой. И по ту сторону режет рыданием – самым отчаянным и ненастным из всех, что я слышал.
– Какие границы? Она и так психичка! – рычит Миртски.
– Как же «какие», господарь? С Эфиром же.
Если ты когда-нибудь посчитаешь себя одиноким, несчастным… Или, быть может, ненужным – приходи тогда к Бругу, и он изобразит тебе, как кричит Катаржина Клаугет.
– Да мне уже по боку на ваши научные россказни, – фыркает хозяин, торопливо следуя к выходу в коридор. Тот, что с портретами.
– Я, если позволите, советовал бы графине терапию, – суетится старик. – Периоды помешательства обыкновенно сменяются порами ясности, и…
Плач Катаржины Клаугет – шрифт для слепых, высеченный на барабанной перепонке Бруга.
– Уж не беспокойтесь, время позднее, – подгоняет нас Миртски, – а завтра я обязательно выужу себе кого-нибудь из Братства…
Крик Катаржины бесконечен и пуст. Как бесконечна и пуста бездонная яма.
– …Писарь, кладовщик, поломойка – да самый дрянной цеховик из Белых будет толковее вас!
– Замолчи, – осекаю я Миртски.
– Да ты никак оборзел!
– Тихо! – толкаю его в грудь. – Прислушайтесь.
Строжка с Томашем недоуменно переглядываются.
– К чему?! Нет ничего!
– Оно и правда: ни шороха не слышно, братец Бруг.
– Вот именно, – предчувствие у меня наипаскуднейшее. – Но разве она не должна реветь?
Сочный деревянный треск. Как будто вокруг кипит морская баталия, и нашу мачту расщепило снарядом надвое. Но трещит не в кабинете, и даже не в коридоре – звук глухой, словно…
