История России. Московско-царский период. XVI век
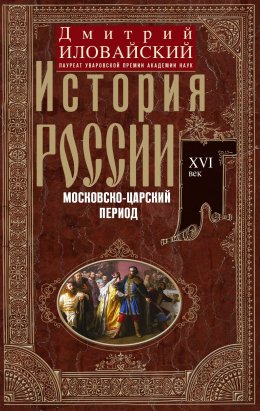
Дмитрий Иванович Иловайский
© «Центрполиграф», 2024
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024
Настоящим томом автор заканчивает времена первой русской династии, которую можно назвать или по имени Игоря Старого, то есть первого исторически известного ее родоначальника, или по имени Владимира Великого и Святого, то есть самого выдающегося из ранних Игоревичей. За прекращением этой династии следует перелом в русской политической жизни, известный под именем Смутного времени. Этот бурный перелом отделяет Древнюю Русь от новой, первую династию от второй, Игоревичей от Романовых. Хотя внешними формами быта общественного, на первый взгляд, XVII век мало отличается от XVI, однако, присматриваясь ближе, мы видим уже некоторые довольно существенные перемены. На переднем плане тут представляется значительно более развившееся государственное начало. Старая династия хотя и собрала воедино большую часть раздробленных русских земель, однако она до самого конца не могла отрешиться от системы уделов. Последний удельный князь, царевич Димитрий Углицкий, погиб почти одновременно с прекращением самой династии. После означенного бурного перелома это явление уже более не повторяется в русской истории. Укрепленное особенно трудами Ивана III и Василия III, патриархальное и вместе строгое самодержавие московское при Иване IV, как мы видим, приняло характер восточной деспотии или жестокой, ничем не умеряемой тирании. При второй династии это самодержавие является уже с более мягкими чертами, с более общественным и государственным значением. Тем не менее всякий истинно русский человек с чувствами признательности и уважения должен вспоминать о первой династии, вместе с которой русский народ, на глазах истории, пережил более шести веков своего существования, исполненных и великих дел, и великих бедствий; под водительством которой он сложился в могучую нацию, приобрел обширную территорию и занял подобающее ему место среди других исторических народов Европы и целого мира.
Наука русской истории, несомненно, делает большие успехи. Особенно в последнюю эпоху выступило на ее поприще много молодых, свежих сил. Исторический материал, благодаря по преимуществу усердным поискам в архивах и книгохранилищах, растет не по дням, а по часам. Хотя разработка этого материала далеко отстает от его роста, однако и на этом поле видим немало деятелей, которые своими трудами подвигают вперед, так сказать, деятельную обработку отечественной истории. Постоянно появляются на свете монографии и исследования по разным отделам нашей специальности. Некоторыми из самых новейших детальных работ автор успел воспользоваться только в примечаниях к настоящему тому. А некоторые бытовые стороны русской жизни, представляющие тесную связь XVI века с XVII, имеют быть рассмотренными в следующем томе.
Москва. 1890 г. 20 октября
I
Литовские отношения и последние уделы при Василии III
Мир с Казанью. – Михаил Глинский и король Сигизмунд I. – Возмущение Глинского и отъезд его в Москву. – Жалобы псковичей на московского наместника. – Василий III в Новгороде и поимание псковских лучших людей. – Посольство дьяка Далматов а. – Василий III в Пскове, вывод псковичей и переустройство Пскова. – Дьяк Мисюрь Мунехин. – Кончина королевы Елены Ивановны. – Новый разрыв Литвы с Москвой. – Троекратная осада и взятие Смоленска. – Измена Глинского и оршинское поражение. – Посредничество императора Максимилиана. – Перемирие. – Татарские отношения. – Присоединение Рязани к Москве. – Нашествие Махмет-Гирея. – Присоединение Северской земли
Заняв великокняжеский престол, Василий Иванович прежде всего постарался оградить его от притязаний племянника и бывшего соперника своего Димитрия Ивановича, когда-то торжественно венчанного на великое княжение. Димитрий подвергся еще более тесному тюремному заключению, которое и свело его в раннюю могилу спустя года три с половиной. Оставленное им духовное завещание показывает, что, лишенный свободы, он как бы взамен ее был наделен значительным имуществом, то есть деньгами, платьем, дорогой «рухлядью» и селами.
Мы видим, что последние дни Ивана III были омрачены восстанием казанского царя Махмед Аминя против московской зависимости и нападением на русские пределы. Василий III начал с того, что породнился с семьей казанских ханов. Один из сыновей хана Ибрагима, взятый в плен при Иване III, по имени Худай-Кул, по его собственной просьбе был торжественно окрещен в реке Москве и получил имя Петра (в декабре 1505 г.). Месяц спустя великий князь выдал за него свою Евдокию. Этот царевич Петр занял видное место при московском дворе среди русских князей и бояр.
Дождавшись весны (1506 г.), Василий послал для усмирения казанцев Федора Бельского и других воевод с многочисленной ратью; пехота отправилась по обычаю на судах, а конница сухим путем. Главное начальство великий князь вверил своему брату Димитрию Ивановичу, прозванием Жилка, который оказался вождем неопытным и малоспособным (как это нередко бывает с предводителями, назначенными не по заслугам и талантам, а по высокому рождению). Прибыв под Казань с судовой ратью, он не стал дожидаться конницы и сделал приступ, но потерпел поражение; когда же подошла конница, он, не дожидаясь посланных к нему подкреплений, опять сделал приступ, и опять так неискусно, что вновь был разбит, и со стыдом отступил в Нижний Новгород. В Москве начали готовиться к новому походу и завязали сношения с враждебными Казани ногайскими татарами, когда явилось посольство от Махмед Аминя с просьбой помириться на прежних условиях и с предложением воротить всех пленных. Великий князь, по совету бояр, согласился на эту просьбу, и мир был заключен (1508 г.)1.
В то время главное внимание московского правительства вновь сосредоточилось на отношениях к своему западному соседу, Великому княжеству Литовско-Русскому.
Король Польский и великий князь Литовский Александр Казимирович, узнав о смерти своего тестя Ивана III, думал воспользоваться изменившимися обстоятельствами и завязал с Василием переговоры о вечном мире, требуя возвращения отнятых у Литвы областей. Разумеется, такое требование было отвергнуто, и Александр начал готовиться к новой войне с Москвой, опять приглашая к участию в ней литовского магистра Вальтера Плеттенберга. Но, во-первых, Плеттенберг на этот раз не показывал усердия к войне; а во-вторых, в это время произошла у короля сильная распря с литовскими вельможами: виновником ее был его любимец, князь Михаил Львович Глинский.
Сей последний происходил от одного знатного татарского выходца времен Витовта; он получил образование за границей, побывал в Испании и Италии, где изменил православной вере своих родителей и перешел в католицизм. Некоторое время он служил при дворе и в войске императора Максимилиана, а также у курфюрста Саксонского, славился знанием военного дела, владел обширными землями и многими замками в Литовско-Русском княжестве и в качестве литовского надворного маршала сделался самым приближенным и доверенным лицом короля Александра. Один его брат, Иван Львович, занимал важный уряд в Юго-Западной Руси; он был воеводой киевским. Другой брат, Василий Львович, также владел в Западной Руси многими поместьями и замками. Отличаясь гордостью и властолюбием, Михаил Глинский вооружил против себя многих вельмож, которые, конечно, завидовали его влиянию на короля. Однажды, по его просьбе, Александр отнял Лидское староство у пана Ильинича и отдал его Андрею Дрожжи, клиенту Глинского. Ильинич обратился с жалобой к литовским панам-радам, во главе которых стояли Войтех Табор, епископ Виленский, Николай Радзивил, воевода виленский, Ян Заберезинский, воевода трокский, Станислав Янович, староста жмудский, Станислав Глебович, воевода полоцкий, и Станислав Кишка, наместник смоленский. Эти радные паны сослались на обязательство, данное Александром при возведении его на литовский престол, не отнимать ни у кого урядов, за исключением таких преступлений, за которые полагалось лишение чести и жизни. На этом основании литовская рада не допустила Дрожжи до Лидского староства и возвратила его Ильиничу. Король, находившийся в Кракове, услыхав о том, сильно разгневался на литовских панов. Есть известие, что, возбуждаемый Глинским, он задумал схватить их и посадить в заключение; для чего призвал их на сейм в Берестье. Но коронный канцлер, Ян Лаский, предостерег о том литовских вельмож, и они отказались войти в замок. Вместе с духовником королевским он отговорил Александра от насильственных действий; тем не менее король отнял Трокское воеводство у Заберезинского, велел Ильинича посадить в тюрьму, а остальным ослушникам запретил показываться себе на глаза. Но потом простил их по просьбе польских панов. Вскоре самого Александра постигло несчастье: его разбил паралич. Если верить одному западнорусскому летописцу, это произошло на следующем сейме в Радоме, именно после речи епископа Войтеха Табора, который напомнил королю его присягу соблюдать литовские привилегии и пригрозил небесной карой всякому их нарушителю. От неудачного лечения болезнь вскоре приняла опасный характер. Приехав в Литву, больной король собрал сейм в городе Лиде; но тут пришло известие о вторжении крымских татар.
Занятые своими внутренними распрями, король и литовские вельможи мало занимались обороной южных пределов, и татарские хищники стали делать почти ежегодные набеги. Особенно сильное вторжение произвели они в августе 1506 года, явясь в количестве двадцати или более тысяч под начальством двух своих царевичей, сыновей Менгли-Гирея. Миновав Слуцк, они остановились табором около замка Клецка и распустили свои загоны во все стороны. Пожарное зарево обозначило пути этих хищников, которые принялись повсюду грабить и захватывать людей в плен. Некоторые загоны появились в окрестностях Лиды. Король принужден был спасаться в Вильну, куда отправился на носилках, привязанных между двумя конями, сопровождаемый своей супругой, Еленой Ивановной, епископом Войтехом и коронным канцлером Ласким. До десятка тысяч наскоро собранного литовского войска он поручил великому гетману Литовскому Станиславу Кишке и своему любимцу Михаилу Глинскому. Последний поспешил ударить прямо на главный стан прежде, нежели возвратятся к нему распущенные отряды или загоны. В походе Кишка сильно захворал, и все начальство над войском сосредоточилось в руках Глинского. Он напал на татарских царевичей под Клецком и одержал над ними блистательную победу; не только почти все пленные были отбиты, но и большая часть хищников или пала, или была взята в плен. Когда известие об этой победе достигло Вильны, король находился уже на смертном одре. Лишенный языка, он мог только глазами и слабым мановением руки выразить свою радость о победе и вслед за тем скончался. Он оставил по себе память государя чрезвычайно щедрого на подарки и раздачу имений своим вельможам и слугам, чем совершенно истощил государственную казну, и раздарил едва не все казенные земли. Его брак с Еленой Ивановной был бездетен.
Согласно с желанием покойного короля, канцлер Лаский хотел везти тело его для погребения в Краков; но литовские вельможи воспротивились тому; они должны были бы сопровождать его; а между тем в их отсутствие Глинский мог воспользоваться своей славой победителя и собранным войском, чтобы захватить в свои руки верховную власть в Литовско-Русском княжестве. Короля погребли в Вильне. Вскоре затем прибыл сюда и выбранный великим князем Литовским младший Казимирович Сигизмунд, князь Глоговский. Опасения против Глинского не оправдались. Он первый выехал навстречу Сигизмунду и приветствовал его, обещая со своей стороны верную службу. Вслед за тем и польские паны-рады выбрали Сигизмунда своим королем.
Когда весть о кончине Александра Казимировича достигла Москвы, Василий Иванович отправил послов под предлогом навестить свою сестру, вдовствующую королеву Елену Ивановну. Но главная цель посольства была иная: он поручал ей внушить литовской раде, «чтобы похотели его государства и службы бы похотели», то есть чтобы выбрали его, Василия, на литовский престол, обещая ни в чем не нарушать свободы католического вероисповедания. Послам поручено было переговорить о том же предмете с епископом Виленским Войтехом, Николаем Радзивилом и другими членами рады. Королева отвечала, что, по завещанию ее покойного супруга и по избранию рады, престол уже занял Сигизмунд Казимирович. Любопытно, однако, как рано в Москве проявляется идея о воссоздании Западной Руси с восточной не одной только силой оружия, но и другими способами2.
Сигизмунд, самый младший из сыновей Казимира, вскоре показал, что он далеко превосходил своих старших братьев умом, энергией и политической ловкостью. Природа одарила его, сверх того, величественной наружностью, а также замечательной телесной крепостью и силой: он легко ломал подковы. Едва вступив на польский и литовский престол, он возобновил приготовления своего предшественника к войне с Москвой, чтобы отнять у нее завоеванные Иваном русские области, потеря которых была слишком чувствительна для Литвы. Время для того казалось благоприятным. Москвитяне только что потерпели важные неудачи под Казанью. Сигизмунд вошел в сношение с Магомет Аминем Казанским и его отчимом, Менгли-Гиреем Крымским, подговаривая их одновременно с литовцами идти на Московское государство. К участию в этом наступательном союзе он приглашал и ливонского магистра Плеттенберга. Приготовляя такую коалицию против Москвы, Сигизмунд отправил к Василию Ивановичу посольство с известием о своем восшествии на престол и вместе с новым требованием об уступке литовских областей, захваченных в предыдущей войне. В Москве на это требование дали прежний ответ, что великий князь никаких чужих вотчин за собой не держит, а держит города и волости свои собственные, наследованные от своих прародителей. На жалобы литовских послов относительно некоторых пограничных обид и захватов со стороны московских людей московское правительство отвечало исчислением таковых же обид от литовских людей. Дело в том, что благоприятные для Сигизмунда обстоятельства уже миновали. С Казанью Василий успел помириться и мог теперь собранные против нее силы обратить в другую сторону. Крымская орда ограничилась набегом на московские украйны (летом 1507 г.); а затем Менгли-Гирей медлил своей помощью, хотя Сигизмунд старался задобрить его большими подарками. Потворствуя его тщеславию, он взял у крымского хана, как бы у прямого наследника Золотой Орды, ярлык не только на земли, которыми владел, на Киевскую, Волынскую, Подольскую, Смоленскую, но и на те города, которые находились под Москвой, каковы: Чернигов, Новгород-Северский, Курск, Путивль, Брянск, Мценск, Великий Новгород, а также Псков, Рязань и Пронск. Ливонский магистр Плеттенберг отказывался от участия в войне и, при посредничестве императора Максимильяна, хлопотал о заключении с Москвой вечного мира. А главное, в самой Литовской Руси произошло тогда открытое восстание, поднятое Михаилом Глинским.
Со вступлением на престол Сигизмунда князь Глинский утратил свое первенствующее значение при литовском дворе; мало того, новый король оказывал ему явную холодность и недоверие. Последнее особенно выражалось в том, что у брата его, Ивана Львовича, Сигизмунд отнял Киевское воеводство, вместо которого дал Новогродское, гораздо менее значительное. Со своей стороны враждебные литовские паны старались оскорблять и унижать гордого князя. Ян Заберезинский прямо обвинял его в тайных замыслах и называл его изменником. Глинский тщетно просил короля дать ему суд с Заберезинским. Напрасно он ездил в Венгрию к королю Владиславу, Сигизмундову брату, с просьбой вступиться в его дело. Пылая мщением, он удалился в свои туровские поместья. Говорят, будто, уезжая, он сказал про короля, что вынужден им покуситься на такое дело, о котором после оба они будут горько сожалеть.
В Москве, как видно, зорко следили за всем, что происходило в Литовской Руси. Сюда явились посланцы Василия Ивановича с грамотами, которые приглашали братьев Глинских поддаться со своими землями великому князю Московскому, конечно, подобно тому, как поддались князья Воротынские, Одоевские, Белевские, Новосильские и другие. Не вдруг Михаил Львович склонился на эти предложения, и, вероятно, только обещания посадить его на древний княжеский стол, киевский или смоленский, побудили его оставить колебания и открыто поднять оружие (1507 г.). Московские войска уже завоевали литовские пределы со стороны Смоленска. Михаил Глинский начал с того, что с семьюстами всадников явился под Гродном; здесь внезапным нападением захватил своего главного врага Заберезинского, велел отрубить ему голову и бросить ее в озеро. Потом он соединился со своими братьями, Иваном и Василием, и начал распространять восстание по Западной Руси. Братья имели множество приятелей и клиентов между русскими боярами и шляхтой и, очевидно, хотели стать во главе русской православной партии, которая была недовольна католической литовской династией, то есть начинавшимися притеснениями своей церкви, и мечтала о восстановлении утраченной самобытности. В следующем, 1508 году Глинский широко распустил свои загоны, чтобы препятствовать сбору литовских войск; ему удалось взять Туров, Мозырь и еще некоторые города и занять их своими гарнизонами. Но его предприятия против Слуцка и Минска не удались. Напрасно он звал к себе на помощь московских воевод, которые воевали земли по верхнему Днепру. По приказу Василия Ивановича сам Глинский должен был идти туда же на соединение с московскими войсками и вместе с ними осаждать крепость Оршу. Но эта осада затянулась. Между тем Сигизмунд собрался с силами и лично пришел на помощь осажденным. При его приближении московские воеводы, вопреки убеждениям Глинского, уклонились от решительной битвы и отступили за Днепр. Остановись в Смоленске, король поручил начальство над войском гетману литовскому, князю Константину Острожскому. Это тот князь Острожский, который был разбит москвитянами и взят в плен на Ведроше при Иване III. Василий Иванович выпустил его на свободу под условием службы и пожаловал вотчиной. Острожский дал клятвенную запись служить верой и правдой и никуда не отъехать, за поручительством митрополита Симона, нескольких архимандритов и игуменов. Великий князь поставил его в числе своих воевод; а Константин Острожский, известный своей приверженностью православной церкви, воспользовался первым удобным случаем и бежал в Литву, в то самое время, когда католик Михаил Глинский, наоборот, передался московскому государю.
Впрочем, на этот раз война продолжалась недолго и окончилась в начале следующего, 1509 года. С одной стороны, Сигизмунд опасался, что восстание, поднятое Глинским в Литовской Руси, может распространиться и повести к новому отпадению областей в московское подданство, а с другой – Василий Иванович убедился, что помощь, оказанная ему этим восстанием, далеко не соответствовала его ожиданиям. Поэтому он охотно согласился на мирные предложения Сигизмунда. Мир был заключен на основании status quo; но важно то, что за Москвой утверждены спорные области, захваченные Иваном III. За то братья Глинские поплатились своими владениями в Литовской Руси и должны были искать убежища и новых вотчин у великого князя Московского.
Вслед за этим миром Ливонский орден тоже просил о продолжении истекшего перемирия, заключенного с Иваном III. Перемирие было продолжено на 14 лет3.
В Москве сознавали непрочность мира с Литвой и воспользовались временным отдыхом, чтобы покончить с самобытностью Пскова – этой последней на Руси вечевой общины. Василий Иванович, верный отцовским преданиям, поступил в этом случае с великим расчетом и крайней осторожностью.
Последнее время псковской самобытности сопровождалось внутренними распрями и смутами. При частой перемене великокняжеских наместников, присылаемых из Москвы уже без всякого согласия с Псковом; при явном упадке вечевого и посаднического авторитета; при усилении черни, покровительствуемой Москвой, – псковское вече приобрело более шумный и беспорядочный характер; им завладели крикуны, не слушавшие друг друга и часто не понимавшие того, что сами говорили. Вместе с тем упадало правосудие, а безнаказанность поощряла лихих людей; появилось такое хищение общественных сумм, о котором дотоле не было слышно. В 1509 году был пойман в воровстве пономарь Троицкого собора Иван: он брал деньги из ларей, то есть из общественной казны, хранившейся в кладовой этого собора, и всего успел наворовать 400 рублей. Псковичи пытали его на вече кнутом и заставили во всем признаться. Это было на Масленице, а весной после Троицына дня живого сожгли на реке Великой.
В начале того же 1509 года Василий Иванович отозвал из Пскова князя Петра Васильевича Великого, а на его место прислал князя Ивана Михайловича Репню-Оболенского (из рода суздальских князей), прозванного Найденом. Прозвание это псковичи дали ему по следующему поводу. Обыкновенно, при въезде нового князя-наместника, псковичи выходили к нему навстречу с духовенством и с крестами, причем служили молебен, а потом отводили его в Троицкий собор и там совершали торжественный обряд посажения на стол. Но в Москве такие церемонии считали уже излишними, а потому Оболенский не предупредил о своем приезде и прямо остановился на загородном княжьем дворе, где псковичи его и нашли (оттуда и прозвание Найдена). Впрочем, они после того отслужили молебен на Торговой площади и все-таки совершили обряд посажения в Троицком соборе. Этот князь-наместник оказался лют и немилостив до псковичей, особенно до класса зажиточного, помещичьего, так что своими притеснениями и вымогательствами скоро вызвал жалобы великому князю со стороны псковских детей посадничьих и боярских. По-видимому, уже самое назначение Репни-Оболенского во Пскове было сделано с расчетом на его характер и на эти жалобы. Великий князь отвечал псковичам, что даст им управу, как скоро приедет в Великий Новгород. В октябре 1510 года он действительно прибыл сюда, окруженный многочисленной военной силой. Целью этого военного похода был, конечно, не Новгород Великий, а именно Псков; но псковичи в это время действовали, как бы пребывая в какой-то слепоте, и сами помогали против себя великому князю.
Услыхав о приезде Василия в Новгород, псковичи отправили туда послами двух посадников, Юрия Елисеевича и Михаила Помазова, и по боярину с каждого конца. Посольство поднесло великому князю в дар полтораста новгородских рублей и било ему челом от его отчины Пскова на обиды князя Ренни и его людей. Василий принял дар и ласково отвечал, что он хочет «свою отчину жаловати и боронити», а князя Репню обещал обвинить, как скоро соберутся на него многие жалобники. Воротясь в Псков, послы на вече передали полученный ими ответ. После того князь Репня-Оболенский сам поехал в Новгород к государю с жалобами на псковичей, которые его будто бы «бесчествовали». Меж тем посадники собирали тех, кто имел какое-либо челобитье на князя-наместника; посылали разыскивать таковых же по пригородам и всех отправляли в Новгород. В том числе поехали и такие псковичи, которые желали воспользоваться великокняжеским судом во взаимных своих распрях. Так, старый посадник Леонтий бил челом на посадника Юрия Копыла. Последний должен был также ехать в Новгород, чтобы тягаться со своим противником. Этот Юрий вскоре прислал во Псков грамоту с такими словами: «Аще не поедут посадники изо Пскова говорити противу князя Ивана Репин, ино будет вся земля виновата». Очевидно, великий князь не довольствовался собравшейся в Новгороде толпой псковских челобитчиков, а желал вызвать к себе как можно более начальных или лучших людей из Пскова. Тут только в душу граждан запало предчувствие чего-то недоброго или, по выражению их летописца, «псковичем сердце уныло». Однако они исполнили совет; в Новгород отправились еще девять посадников и купеческие старосты всех рядов. Но великий князь все еще не давал им никакой управы и говорил только: «Копитеся, жалобные люди, на Крещение дам всем управу». Когда настал этот праздник (6 января 1510 г.), псковичам велено было идти на водосвятие на реку Волхов, куда прибыл великий князь со всеми своими боярами и с духовенством. На ту пору в Новгороде не было владыки: после Серапиона, удаленного в Москву за распри с Иосифом Волоцким, новый владыка еще не был назначен. Воду святил епископ Коломенский. После водосвятия все пошли в Софийский собор, а псковичам великокняжие бояре кликнули, что государь велел им всем копиться на владычнем дворе, где он даст им управу. Когда они все собрались сюда, московские бояре отделили псковских посадников, бояр и купцов и ввели их в палату, а молодшие, то есть простые люди, остались на дворе. Двери палаты накрепко затворили за лучшими псковскими людьми. Настала решительная минута.
«Пойманы есте Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси!» – громко молвили им московские бояре.
Этим лучшим людям уже не суждено было увидеть свой родной Псков: им предстоял вывод, то есть невольное переселение в Московскую область. Их поместили в том же архиерейском доме в ожидании, пока прибудут из Пскова их семьи. А молодших людей, переписав, раздали новгородцам, чтобы те кормили и стерегли их впредь «до управы».
В это самое время один псковский «купчина» Филипп Попович, ехавший с товаром в Новгород, остановился на Веряже (западный приток оз. Ильмень). Тут он услыхал о насильственном задержании своих сограждан. Бросив товар, Попович погнал назад и, прискакав в Псков, объявил народу, что «князь великий посадников и бояр и жалобных людей переимал». Псковичи были поражены скорбью и страхом. Созвали вече и начали спрашивать друг друга: «ставить ли щит против государя» и приготовлять ли город к обороне? Но тут вспомнили о своем крестном целовании великому князю, а главное, о том, что в его руках находится значительная часть их посадников, бояр и других лучших людей, без которых трудно было что-либо предпринять. Пока граждане раздумывали, не зная, на что решиться, из Новгорода приехал один из задержанных там купцов, по имени Онисим Манухин, с грамотой от своих товарищей. Московские бояре уже успели войти в переговоры с захваченными псковскими лучшими людьми, объявив им, что государь за неправды их посадников и судей должен возложить на них свою великую опалу, но что он, однако, оказывает им милость и требует только снятия вечевого колокола и водворения своих наместников, которые будут судить в Пскове и по пригородам. В противном случае великий князь грозил войной и большим кровопролитием. Лишенные свободы, псковичи согласились на эти требования и принесли присягу на верное служение государю. В грамоте, которую привез Онисим Манухин, они извещали своих сограждан, что уже дали государю крепкое слово на его требования за себя и за всю Псковскую землю. Выслушав эту грамоту, псковское вече отправило в Новгород гонцом сотского Евстафия со смиренным челобитьем, чтобы государь сжалился над своей «старинною отчиною». Очевидно, псковичи надеялись изъявлением полной покорности смягчить великого князя и отдалить от себя судьбу, постигшую их старшего брата, то есть Великий Новгород. Наивная надежда.
В Псков приехал от великого князя дьяк Третьяк Далматов. 12 января, в субботу, уже довольно поздно, собралось вече у Св. Троицы. Подле Троицкого собора находился возвышенный помост или «вечевая степень». Далматов взошел на степень и, прежде всего, сказал Пскову поклон от великого князя. А затем объявил две его воли: первая, чтобы вече более не было и колокол вечевой снять; вторая, чтобы посадников более не было, а быть в городе двум наместникам и по пригородам тоже быть наместникам. «А только тех двух воль не сотворите, – заключил дьяк, – ино как государю Бог по сердцу положит, ино у него много силы готовой, и то кровопролитие на тех будет, кто государевы воли не сотворит; да государь наш князь великий хочет побывати ко святей Троицы во Псков». Окончив свое слово, Далматов сел тут же на степени, в ожидании ответа.
Хотя суровые московские требования уже не составляли никакой неожиданности, однако псковичи были сильно смущены и молча проливали слезы. Наконец попросили сроку до следующего утра, чтобы подумать об ответе.
Тяжела была наступившая ночь; в городе слышались плач и стенания, граждане, очевидно, не могли придумать ничего другого, кроме покорности.
На рассвете воскресенья 13 января вечевой колокол в последний раз собрал псковичей на вече. И тут посадник, от имени города, дал такой ответ Далматову: «В наших летописцах записано крестное целование псковичей прадеду, деду и отцу государя на том, чтобы нам не отойти от великого князя, который будет на Москве, не отойти ни к Литве, ни к немцам, а если сие учиним или начнем жить без государя, то да будет на нас гнев Божий, глад, и огонь, и потоп, и нашествие поганых; а если государь наш великий князь не учнет нас в старине держати и то крестное целование не будет соблюдать, на него такой же обет, как и на нас. А ныне волен Бог да государь в своей отчине во граде Пскове и в нас, и в колоколе нашем. А мы прежнего своего целования не хотим изменити и на себя кровопролитие приняти, и на государя своего руки поднята, и в городе заперетися не хотим. А государь наш князь великий хочет Живоначальной Троице помолитися и в своей отчине побывати, и мы своему государю рады всем сердцем; да не погубит нас до конца».
Вечевой колокол немедленно спустили с Троицкой звонницы. Смотря на него, граждане горько плакали о своей старине и минувшей вольности. В ту же ночь Третьяк Далматов повез его в Новгород к великому князю.
Спустя несколько дней в Псков прибыли с передовым военным отрядом московские воеводы: князь Петр Великий, Хабар и Челяднин и начали приводить граждан к присяге. За ними следовал сам государь с главными силами. Псковские посадники, бояре и дети боярские отправились встречать его в селение Дубровну, то есть на самую границу своей земли. 24 января в четверг Василий Иванович вступил в Псков. Граждане вышли к нему навстречу за три версты от города и ударили ему челом в землю. Василий спросил их о здоровье.
«Ты бы, государь, наш князь великий, царь всея Руси, был здоров!» – получил он в ответ.
Прибывший наперед его коломенский владыка Вассиан Кривой сказал псковским священникам, что великий князь не велел им выходить далеко к нему навстречу с крестами. Поэтому духовенство ожидало его с крестами на Торговой площади. Тут Василий слез с коня, принял благословение от владыки и отправился со своей свитой в собор Св. Троицы, где отслужили молебен и пропели многолетие государю. После чего владыка Вассиан, осенив великого князя крестом, сказал: «Да благословит тебя Господь Бог, Псков вземши».
Услыхав такое приветствие, бывшие в церкви псковичи оскорбились и горько заплакали. Очевидно, москвичи не ценили их покорность и относились к ним как к побежденному неприятелю. «Бог волен да государь, а мы исстари были отчиною его отцов, и дедов, и прадедов!» – говорили граждане.
Но мера их страданий еще далеко не исполнилась.
В ближнее воскресенье, 27 января, великий князь позвал на свой двор псковских посадников, детей посадничьих, бояр, купцов и житьих людей, говоря: «Хочу вас жаловати своим жалованьем». Когда псковичи собрались на двор, повторилось то же, что произошло в Новгороде. На крыльце стоял князь Петр Васильевич Великий, бывший прежде наместником в Пскове и, следовательно, хорошо знавший лучших людей: он выкликал поименно посадников, бояр и старейших купцов, приглашая их войти в гридню. Там вошедших московские бояре немедленно «отдавали за приставы», то есть под стражу московским детям боярским. А молодшим людям, оставшимся на дворе, Петр Васильевич сказал: «До вас государю дела нет, а до которых государю дело есть, тех он к себе емлет того для, что вы бивали на них челом не одинакова, что вам от них чинится продажа и сила великая, а вас государь пожалует грамотою своею жалованною, как вам вперед житии». С тем отпустил их со двора. Лучшим же людям, задержанным в гридне, объявлено, что «во Пскове им оставаться непригоже по причине многих на них жалоб и что государь жалует их своим жалованьем в Московской земле». На другой же день их с женами, детьми и легким имуществом отправили в Москву в сопровождении отряда боярских детей. С ними посланы также жены и дети тех псковичей, которые были прежде задержаны в Новгороде. Всего тогда выведено было из Пскова 300 семей. На место их во Псков переведено было столько же семей из торгового сословия разных московских городов. При самом размещении их в Пскове приняты такие меры, которые лишали его всякой возможности затеять какое-либо возмущение против московского государя, подобное новгородскому 1480 года. Во-первых, псковский детинец, или Кром (т. е. Кремль), был совершенно очищен от построек или клетей, наполненных частным имуществом (которое хранилось здесь для большей безопасности). На их месте назначено построить государев двор и его хлебные житницы. Далее, в Среднем городе, примыкавшем к Довмонтовой стене детинца, все дворы отобраны также на государя и розданы переселенцам из Москвы, а прежние их обитатели переведены в Окольний город и на посад. В Среднем же городе помещены были дворы московских наместников, а при них, в виде гарнизона, тысяча московских боярских детей и пятьсот новгородских пищалыциков. Сообразно с этой мерой уничтожен и главный городской торг, находившийся в Среднем городе. Вместе с тем изменены и самые условия торговли: прежде в Пскове торговля была свободная; в городе не было застав или колод для взимания пошлин с привозимых товаров, а теперь московские гости, по приказу великого князя, установили московскую тамгу; въезды и выезды стали охраняться московскими пищальниками и воротниками. Деревни псковских бояр, сведенных в Москву, великий князь роздал своим боярам и служилым людям. В Пскове он посадил двух наместников, Григория Федоровича Морозова и Ивана Андреевича Челяднина, и двух дьяков – Мисюря Мунехина и Андрея Волосатого; назначил 12 городничих, которые заведовали городскими укреплениями, огнестрельным снарядом, пищальниками и воротниками (вероятно, двух для Пскова, а остальных – для его десяти пригородов). Кроме того, определил 12 старост из коренных обывателей и столько же их новых, то есть московских переселенцев. Эти 24 человека должны были по очереди присутствовать на суде наместников и их тиунов. В память псковского взятия Василий Иванович велел соорудить тут церковь во имя Ксении, ибо он прибыл в Псков в день ее памяти. Целые четыре недели он прожил здесь, перестраивая старую вечевую общину на московский лад. На второй неделе поста в понедельник Василий наконец выехал из Пскова, причем захватил с собой и другой, меньший, вечевой колокол, или так называемый Корсунский вечник.
Хотя великий князь, согласно помянутому его обещанию молодшим людям, дал Пскову новую уставную грамоту, по которой его наместники в городе и по пригородам должны были творить суд и правду, однако с его отъездом немедленно начались жестокие притеснения населению и вымогательства от наместников и их тиунов. Так, например, их приставы начали с подсудимых взимать от поруки по пяти, семи и даже десяти рублей; а если псковитин не дает этих денег, ссылаясь на грамоту великого князя, то его подвергали нещадным побоям. Присутствие на суде выборных городских старост, очевидно, не сдерживало произвола московских чиновников, смотревших на суд как на средство наживы. От их насилия и поборов многие жители покинули свои дома и семьи и разбежались по иным городам; многие уходили в монастыри и постригались; торговые иноземцы также разъехались по своим землям; остались только те псковичи, которым некуда было деться; так как, по выражению их летописца, «земля не разступится, а вверх не взлететь».
Живо и поэтично изображает этот летописец картину бедствий, обрушившихся на его родной город: «О славнейший граде Пскове великий! почто бо сетуешь и плачешь? – Отвечает прекрасный град Псков: как мне не сетовати, не плакати и не скорбети о своем опустении? Прилетел на меня многокрылый орел, исполненный львиных когтей, и взял от меня три кедра Ливанова, красоту мою, богатство и чада мои похитил. Божьим попущением землю пусту сотворили, град наш раззорили, люди мои пленили; одни торжища мои раскопали, а другие коневым калом заметали; отцов и братию нашу развели туда, где не бывали отцы и деды и прадеды наши, а матерей и сестер наших в поругание дали. Многие во граде постригались в чернецы, а жены в черницы, не хотя идти в полон во иные грады… Мы не покаялись, но на больший грех превратились, на злые поклепы и лихия дела и на вече кричание, не ведая главою, что язык глаголеть; не умея своего дому строити, хотим град содержати… И у наместников, и у их тиунов, и у дьяков великого князя правда их, крестное целование, взлетела на небо и кривда в них нача ходити, и нача быти многая злая от них, были немилостивы до пскович; а псковичи бедные не ведали правды московския».
Великий князь, однако, не одобрил поведение своих первых двух наместников во Пскове. В следующем, 1511 году он сменил их; а на их место назначил уже знакомого псковичам князя Петра Великого и князя Семена Курбского. Местный летописец замечает, что эти наместники были добрые, и при них начали возвращаться на родину те псковичи, которые разбежались было от насилия их предшественников. Великий и Курбский оставались в Пскове четыре года. Вообще, наместники здесь менялись довольно часто; но один из двух назначенных сюда дьяков, Мисюрь Мунехин, заведовавший приказными делами, оставался неизменно до самой своей смерти (1528 г.). Пользуясь доверием великого князя и умея поминками задабривать его приближенных, этот опытный, умный дьяк сосредоточил в своих руках почти все управление вновь присоединенной области, то есть ее дела гражданские и церковные, руководил ее внешними отношениями к соседям-немцам и постройкой новых укреплений в Пскове. Мунехин явился здесь самым видным проводником московской государственности и московских обычаев. Между прочим, любопытны его отношения к сфере церковной.
Верстах в пятидесяти от Пскова, почти на самом рубеже с Ливонией, незадолго до того времени возникла небольшая обитель с двумя храмами, одним пещерным во имя Успения Богородицы, другим нагорным во имя преподобных Антония и Феодосия – очевидно, в подражание монастырю Киево-Печерскому. Во время предыдущей Ливонской войны она подверглась разорению. Дьяк Мисюрь вместе со своим подьячим Ортюшою-псковитином излюбили это место, начали посещать его в богородичные праздники в сопровождении многих людей, одели и кормили братию. Это привлекло и других богомольцев; слава обители росла вместе с молвой о совершавшихся в ней исцелениях. Мисюрь на собственное иждивение раскопал гору; возвел при старой пещере новый храм и братские кельи; возил по большим праздникам отсюда великому князю просвиры и святую воду и, таким образом, сделал эту обитель известной и чтимой в самой Москве. Возобновленный им и устроенный Псково-Печерский монастырь явился потом не только одной из главных святынь Псковской земли, но и важным оплотом ее от литвы и ливонских немцев, благодаря своим крепким каменным стенам с башнями. Далее, Василий Иванович, по-видимому, имел намерение осуществить давнее стремление псковичей к самостоятельной епархии, то есть к церковному отделению от Новгорода: теперь обе общины были присоединены к Москве, и она могла бы беспрепятственно произвести это отделение. Когда в 1528 году новгородский владыка Макарий приехал в Псков на обычный месячный подъезд, тут неожиданно для него дьяк Мунехин показал ему великокняжескую грамоту, по которой ему дозволялось оставаться в Пскове не целый месяц, а только десять дней. Вероятно, эта мера должна была служить переходом к отделению псковской епархии от новогородской. Однако дальнейших мер не последовало, и прежнее положение удержалось еще на целых шестьдесят лет. Но именно в том же 1528 году умер скоропостижно дьяк Мунехин и погребен в помянутом Печерском монастыре. Может быть, с его-то смертью и пришла в забвение мысль об основании псковской епархии. После его смерти, по приказу великого князя, производился какой-то розыск об его «животах», то есть о его имуществе, причем близкий Мунехину человек, подьячий Ортюша, подвергся пытке. По-видимому, дело это возникло по жалобе племянников Мунехина, обманувшихся в надежде получить от него большое наследство. У него найдены были только записи, кому и сколько денег он роздал на Москве (или в долг, или в поминок), боярам, дьякам и детям боярским. Великий князь велел все эти деньги взыскать в собственную казну. Летописец иронически замечает, что после Мисюря дьяки часто менялись и были они «мудры, а земля пуста, и начала казна великого князя во Пскове множиться, а из дьяков ни один не съехал по здорову в Москву, все воевали друг на друга». В псковских городах московские наместники утесняли и разоряли граждан, в особенности «подметом и поклепом», то есть привлекая их к суду с помощью ложно взводимых преступлений.
Так окончила свое почти двухсотлетнее самобытное существование псковская община. Зависимость от Москвы была уже настолько велика, а меры, принятые Василием III, были так обдуманы, что присоединение Пскова совершилось без всякого пролития крови. Впрочем, материальными силами и политическими преданиями он не мог тягаться со своим старшим братом – Великим Новгородом. Не захотел он также изменять общерусскому отечеству и искать союза с исконными своими врагами немцами или вступать в подданство католического короля Польши и Литвы, чтобы противопоставить их Москве. К тому не встречаем никаких даже попыток, хотя в Пскове не было, конечно, недостатка в людях, предвидевших близкое падение самобытности. С глубокой скорбью, но тихо, с молчаливым достоинством подчинился Псков своей участи и в этом отношении остался верен своему общему историческому характеру, бесспорно имеющему многие светлые, симпатичные стороны. Объединение Псковской земли с Московским государством, как мы видели, сопровождалось насильственным выводом или переселением ее лучших людей (впрочем, далеко не в таких огромных размерах, как в Новгороде) и важными перемещениями в самом городе. Все это, конечно, стоило больших экономических или имущественных потерь; затем объединение земли усилилось от грубости и неправосудия московских наместников, тиунов и дьяков. Объединение, смешение с московскими переселенцами и влияние московских порядков не замедлили обнаружиться и на самих нравах. По замечанию наблюдательного иностранца той эпохи (Герберштейна), на место прежних гуманных и общительных псковских нравов появились испорченные московские; прежде в торговых делах псковичи отличались честностью и верностью своему слову, а теперь стали прибегать ко лжи и обманам. Хотя подобное свидетельство не чуждо пристрастия и преувеличения, но, несомненно, оно заключает в себе долю правды. Огрубение нравов, впрочем, по разным признакам, и здесь началось уже прежде4.
Покончив с псковской самобытностью, московский государь возобновил борьбу с польско-литовским королем.
Заключенный в 1509 году мир оказался только небольшим перемирием. Пограничные ссоры и взаимные обиды не прекращались и служили постоянным предметом жалоб и пререканий с обеих сторон. Но главным поджигателем к новой войне, по-видимому, служил Михаил Глинский с его неудовлетворенным честолюбием и обманутыми надеждами. Сигизмунд опасался этого беспокойного врага и не раз, хотя тщетно, просил его выдачи, обвиняя его то в смерти своего брата, Александра Казимировича, то в изменнических сношениях с датским королем. Глинский, в свою очередь, воспользовался положением вдовствующей королевы Елены Ивановны, чтобы обострить московско-литовские отношения. Устраненная по смерти мужа от всякой политической роли, Елена предавалась хозяйственной деятельности и попечениям о своих литовских имениях, данных ей Александром и Сигизмундом, разъезжала по своим волостям, выдавала разные грамоты относительно их управления и, верная привычкам своего рода, копила себе большую казну. Василий Иванович, при частых посольских сношениях с польско-литовским двором, постоянно справлялся, нет ли каких обид его сестре, не принуждают ли ее к латинской вере, держат ли в чести? Очевидно, высшее католическое духовенство Польши и Литвы продолжало с неудовольствием смотреть на вдовствующую королеву, столь непоколебимую в своем православии; а под влиянием духовенства литовские католические вельможи также стали относиться к ней недружелюбно; вероятно, кроме того, они с завистью смотрели на ее имения и богатую казну. Как бы то ни было, только в 1512 году в Москву пришла следующая жалоба от Елены Ивановны: собралась она из Вильны, по обычаю, ехать в свое имение, в город Бреславль, куда послала уже наперед себя своих людей. Вдруг воеводы виленский Николай Радзивил и трокский Григорий Остыков с другими панами не только не пустили ее в Бреславль, но вывели ее из храма Пречистые, взяв за рукава; насильно посадили в сани и отправили в Троки, говоря, будто она хочет уехать в Москву со всей своей казной, а из Трок отвезли ее в жмудское местечко Бирштаны; имения и казну у нее отняли, людей ее разогнали и держат ее в неволе.
Василий немедленно послал к Сигизмунду с запросами и укоризнами. Сигизмунд отвечал, что никакого насилия Елене не было, а только ее просили не ездить в Бреславль по причине небезопасности пограничных мест. Но вслед за тем пришло из Литвы другое, более скорбное известие: Елена, находясь в неволе, внезапно скончалась. Дело не обошлось, конечно, без молвы о том, что смерть была насильственная. Такую молву особенно поддерживал Михаил Глинский, который узнал даже подробности этого темного дела и подал о них запись государю. А именно: Елена из своей неволи посылала к королю Сигизмунду жалобу на своих притеснителей, но король никакой управы не учинил. Тогда помянутые литовские паны умыслили на ее жизнь; они подкупили трех человек из прислуги, в том числе собственного ключника королевы, Митьку Иванова, и прислали им лихое зелье. Это зелье подмешали в мед и дали испить королеве в четверг на всеедной неделе. К вечеру ее не стало. С той вестью пригнал в Вильну к панам ключник Митька. Николай Радзивил принял его на свою службу и наградил имением. Правда ли все это, о том историку приходится сказать вместе с русской летописью: «Бог весть». Но невероятного тут ничего нет.
Другая, еще более важная причина разрыва заключалась в коварной политике Сигизмунда по отношению к Крымской орде. Усердными подговорами, подарками хану, его царевичам и вельможам Сигизмунду удалось разрушить долголетний союз Менгли-Гирея с Москвой и вооружить против нее орду. Несмотря на недавно заключенный мир с Василием, король вступил в тайный договор с ханом и обязался платить ему ежегодно по 15 000 золотых, если татары будут воевать Московское государство. Менгли-Гирей был уже стар и не мог держать власть твердой рукой, а его буйные сыновья жаждали добычи. В течение 1512 года крымские татары, под начальством царевичей Ахмата и Бурнаш-Гирея, сделали три набега на белевские и рязанские украйны и подступили, хотя безуспешно, к самой Рязани. С этого времени открылся длинный ряд опустошительных набегов Крымской разбойничьей орды, имевших неисчислимые последствия для всего Московского государства.
Москва имела в Крыму своих доброхотов и немедленно узнала о договоре Литвы с ханом, а также о военных приготовлениях Сигизмунда. В думе великокняжьей решено было предупредить врага. Василий послал королю «складную грамоту», или объявление войны, и вслед за тем зимой 1513 года сам выступил в поход с Михаилом Глинским, воеводами Даниилом Щеней и Репней-Оболенским. На этот раз предпринятая война имела определенную цель: возвращение от Литвы древнего русского города Смоленска с его областью. Осада этого города продолжалась шесть недель. Смоленск, расположенный по крутым холмам днепровского берега, был хорошо укреплен. Великий князь попытался взять его нечаянным ночным приступом и для ободрения людей велел им выкатить бочку меда и пива. В полночь полупьяные пищальники полезли на укрепления, а «посоха» (пешая рать, набранная из крестьян) несла за ними примет; но приступ был отбит с большими потерями. Василий воротился в Москву, а летом того же года он вновь осадил Смоленск. Меж тем другая рать, собранная в Новгородской и Псковской области, ходила на Полоцк, а оттуда пришла также к Смоленску. Хотя москвитяне выиграли открытую битву под Смоленском, однако осада его и на этот раз не удалась. Московский пушечный «наряд», огражденный турами, громил стены, но действовал неискусно; а то, что он разрушил днем, осажденные успевали исправлять ночью. Опять Василий воротился в Москву, ограничась опустошением литовских пределов. Однако решено было добывать Смоленск во что бы ни стало, и не медля начали готовиться к новому походу. С особенным усердием хлопотал о том Михаил Глинский, которому, как говорят, Смоленск был обещан на правах удельного княжения. Он посылал верного человека в Силезию, Чехию и к немцам, чтобы нанимать там в московскую службу людей, хорошо знавших военное дело. Такие люди, действительно, были наняты и прибыли в Москву через Ливонию.
Император Максимилиан не только держал сторону Москвы, но и усердно возбуждал ее к войне. Он имел виды на Чехию и Венгрию, которыми владела тогда династия Ягеллонов, в лице старшего Сигизмундова брата Владислава Казимировича. Этим видам Габсбургского дома сильно противодействовала национальная венгерская партия, во главе которой стоял знатный магнат граф Иоанн Заполыя; а король Польско-Литовский Сигизмунд не только дружил с этой партией, но и вступил в брак с сестрой Иоанна Заполыи, Варварой, в 1512 году, чем сильно вооружил против себя Максимилиана. Этот последний предложил свой союз государю Московскому и к тому же союзу привлек молодого тевтонско-прусского магистра Альбрехта Бранденбургского, который хотя по матери и был родной племянник Сигизмунда польско-литовского, но стремилея уничтожить вассальную зависимость своего ордена от польского короля и воротить прусские города, отнятые поляками при Казимире IV. Кроме Тевтонского ордена, Максимилиан старался привлечь к тому же союзу датского короля Христиана II, женатого на его внучке Изабелле. Михаил Глинский, хорошо знакомый с отношениями германских владетелей и с некоторыми из них самих, был душой их переговоров о союзе с Москвой против Польши.
Зимою 1514 года цесарский посол (Шнитценпайнер) прямо от тевтонского магистра Альбрехта прибыл в Москву, где именем императора заключил с великим князем формальный договор о союзе против польского короля. С договорной грамотой он отправился в Германию в сопровождении московских послов, и Максимилиан присягой подтвердил договор. А летом того же года Василий Иванович в третий раз подступил к Смоленску. На этот раз москвитяне выставили большое количество пушек и пищалей, которыми принялись громить город неустанно; в то же время делали частые приступы. Смоленский воевода Юрий Соллогуб продолжал мужественно обороняться и отбил несколько приступов. Наконец разрушение и пожары, произведенные в городе московскими ядрами, привели жителей в уныние, и они начали требовать сдачи. (Есть известие, что Глинский вошел с ними в тайные переговоры.) Тщетно Соллогуб говорил, что сам король вскоре явится на выручку города; русские граждане и духовенство, с владыкой Варсонофием во главе, ударили челом великому князю, чтобы он унял свой меч, и отворили ему ворота. 31 июля, по распоряжению Василия, Даниил Щеня вступил в город, привел его жителей к присяге на верность своему государю и сменил литовский гарнизон московским. На следующий день сам великий князь со своими братьями и боярами торжественно въехал в Смоленск, встреченный на посаде народом и духовенством с иконами и крестами. В соборном Успенском храме пели благодарственный молебен, после которого протодьякон с амвона велегласно провозгласил многолетие великому князю, повторенное епископом со всем освященным собором и певчими на обоих клиросах. Епископ благословил государя крестом и сказал: «Божией милостию радуйся, преславный царю Василий, великий князь, всея Руси самодержец на своей отчине и дедине града Смоленска, на многие лета!» После того подходили к Василию с тем же поздравлением его братья, бояре, воеводы и прочие московские люди, а также местные бояре и граждане. Смольняне обнимались с москвичами и друг с другом, радуясь своему освобождению от Литвы, под которой находились более ста лет. Было общее ликование. Отслушав литургию и побывав на древнекняжеском дворе, великий князь воротился в свой стан. Сюда призывал он смоленских бояр, лучших граждан и детей боярских, угощал их обедом, оделял соболями, бархатом, аксамитом, камками, деньгами. Те западнорусские служилые люди, которые остались и вступили в службу московскую, получили награды по два рубля и по сукну на платье, а которые не захотели остаться, получили по рублю и отпущены в Литву. Юрий Соллогуб пожелал воротиться к своему королю и был отпущен; но в Польше его судили как изменника и отрубили ему голову. Вообще Василий Иванович обошелся с смольнянами очень милостиво, совсем не так, как с псковичами. Не было ни вывода, ни отобрания имущества. В Москву переселялись только желающие, и тем давали при этом вспоможение. Особой жалованной грамотой Василий подтвердил за духовенством, боярами и прочими смоленскими людьми их земли и владения, а также те льготные судебные и гражданские уставы, которые даны были смольнянам великими князьями Литовскими, причем освободил их от ежегодной сторублевой дани, взимавшейся с города прежними государями5.
Спустя несколько дней по занятии Смоленска, Василий Иванович отправил воевод для отобрания других городов Смоленской земли. Князь города Мстиславля сам передался москвитянам и оставлен в своем Мстиславском уделе. Жители Кричева и Дубровны также добровольно присягнули на московское подданство. Меж тем Сигизмунд, шедший с польско-литовским войском и наемными отрядами чехов, немцев, венгров и прочими на выручку Смоленска, достиг Минска, когда узнал о взятии этого города. Василий отрядил навстречу неприятелю Глинского, двух братьев Булгаковых, Челяднина и некоторых других воевод. Москвитяне стояли под Друцком, а король подвинулся к Борисову, когда обнаружилась измена Глинского. Великий князь, конечно, не для того возвратил России Смоленск, чтобы создавать из него особое княжение для литовского выходца; а этот честолюбец, обманувшись в своих расчетах, задумал изменить Василию и вновь перейти в Литву, о чем и завел тайные переговоры с Сигизмундом. Король был рад отнять у своего противника такого энергичного и сведущего в военном деле помощника и обещал Глинскому разные милости. Но во время их взаимных пересылок один королевский посланец попался в руки москвитян; найденные у него грамоты обнаружили все дело; а по другим известиям, собственный слуга Глинского донес о его бегстве в королевский стан. Князь Михаил Булгаков-Голица тотчас поскакал с конным отрядом в объезд, опередил беглеца и устроил ему засаду. Глинский и его люди попали на эту засаду и были схвачены. Василий велел его заключить в оковы и отослал в Москву. Хотя изменнику не удалось уйти в неприятельский лагерь, однако измена его не замедлила отразиться на перемене военного счастья. Очевидно, он успел раскрыть врагу наши слабые стороны и приглашал его к решительным действиям. Король двинул свое войско с берегов Березины к Днепру, поручив главное начальство великому литовскому гетману князю Константину Острожскому. Теснимые им, московские отряды отступили на левый берег Днепра и остановились против Орши. Сюда приспели и другие московские полки. Если верить хвастливым польским известиям, число московской рати будто бы достигало 80 000 человек, тогда как неприятелей было 35 000.
Из многих московских воевод, собравшихся под Оршей, главное место занял боярин и окольничий Иван Андреевич Челяднин, вельможа заслуженный, но дотоле не отличившийся какими-либо военными подвигами. По-видимому, не все воеводы охотно ему подчинялись из-за местнических счетов. Высокомерие и недальновидность его простирались до того, что, по тем же иноземным известиям, он будто бы, вопреки советам, не хотел напасть на половину неприятельского войска, переправившуюся на левый берег Днепра, а ожидал, пока переправится все войско, надеясь разбить его и забрать в плен с помощью великого своего превосходства в силах. Сообразно с тем, он растянул свои оба крыла так, чтобы окружить неприятеля. Битва была очень упорна и длилась до самой ночи; долго победа колебалась на ту и на другую сторону. Наконец Константин Острожский притворным отступлением навел большой московский полк на то место, где стояли пушки, и они произвели такое разрушительное действие, что москвитяне не выдержали и бросились назад. Тогда неприятели дружным ударом довершили наше расстройство и поражение. Между Оршей и Дубровной впадает в Днепр речка Кропивна; эта речка, говорят, была запружена телами москвитян, тонувших в ней во время бегства, так что течение ее на время остановилось. Челяднин, оба брата Булгаковы, два брата Колычевы, князь Иван Пронский, два князя Ромодановских и много других князей и бояр были взяты в плен; а дворян и детей боярских захвачено до полутора тысяч, вместе со всем нашим снарядом и обозом. Всего мы потеряли около половины войска, и только наступившая ночь помогла спастись остальным. Дело происходило в первой половине сентября 1514 года. Велика была радость неприятелей от этой победы. Константин Острожский, забыв собственную измену русской народности, велел петь благодарственные молебны и давал обеты построить новые церкви. Сигизмунд рассылал папе Льву X и другим государям вместе с известием о победе и русских пленников в подарок. А Челяднина и некоторых его товарищей он велел в оковах посадить в тесное заключение. Спустя несколько лет один иноземный посол (Герберштейн) посетил в Вильне этих несчастных узников, слышал их жалобы и дал им взаймы несколько золотых. Московский государь, по-видимому, наказал их за поражение совершенным пренебрежением к их участи.
Непосредственным следствием оршинского поражения было отпадение к Литве князя Мстиславского, а также городов Дубровны и Кричева, несмотря на их недавнюю присягу. В самом Смоленске ободрилась партия, неприязненная Москве, и тайно призывала короля, обещая сдать ему город. Главой заговора, говорят, был епископ Варсонофий. Но здесь бодрствовал московский воевода князь Василий Шуйский. Извещенный верными гражданами о затеянной крамоле, он схватил епископа и отослал его к великому князю, который тогда стоял в Дорогобуже. В надежде на смоленских изменников Константин Острожский спешил сюда с небольшим отборным войском. Но, вместо отворенных ворот, он нашел город приготовленным к мужественной обороне, а на стенах его увидал заговорщиков повешенными в тех самых собольих шубах, камках, бархатах, с серебряными чарками и кубками на шее, которыми дарил их великий князь после взятия Смоленска. Острожский попытался было на приступ, но был отбит и со стыдом ушел назад. Таким образом, главная цель войны – Смоленск все-таки остался в наших руках. Но гром оршинской победы, конечно, немало поднял дух противной стороны и надолго вселил ей пренебрежение к московским силам в открытом поле6.
Взятие Смоленска и Оршинская битва составляют два самых крупных события в девятилетней русско-литовской войне (1513–1522 гг.). После них обе стороны как бы утомились сделанными усилиями, и хотя продолжали войну, но с очевидной неохотой, с перерывами, избегая решительных действий, завязывая постоянно мирные переговоры, но постоянно неудачные. Дело в том, что московский государь, достигнув своей главной цели, то есть Смоленска, на этот раз ни к чему более не стремился, кроме удержания завоеванного; а польско-литовское правительство никак не хотело уступить такой важный пункт, но в то же время не имело достаточно сил, чтобы отвоевать этот пункт обратно. Пользуясь превосходством вооружения, обучения и тактики, королевские полководцы могли иногда одерживать победы над отсталыми в военном деле, нестройными московскими ополчениями; но польско-литовский король в своем государстве не пользовался такой властью над военно-служебным сословием, как московский государь в своем. Сбор денежных средств и военных людей и выступление в поход сопровождались там многими препятствиями и затруднениями; уже в ту эпоху едва ли не главную роль в военное время стали там играть войска собственно наемные, набранные из иноземцев. А в умении брать хорошо укрепленные города поляки-литвины были почти так же неискусны, как и москвитяне. Кроме того, обе стороны были отвлекаемы другими внешними отношениями: Москва татарскими, а Полыпа-Литва прусскими, турецкими и отчасти татарскими.
При таких условиях воюющие стороны были не прочь от иноземного посредничества, чтобы достичь мира.
Король Сигизмунд первый начал хлопотать об отвлечении Максимилиана от союза с московским великим князем; хотя император Германский, вопреки заключенному в 1514 году договору, и не думал воевать с поляками, но он возбуждал против них других врагов. Посредником в примирении Сигизмунда с Максимилианом явился брат первого, венгерский король Владислав; причем польский король отказывался от своего противодействия видам Габсбургов на будущее венгерское наследство и соглашался на условленный еще в 1507 году двойной брачный союз между внуками Максимилиана и детьми Владислава. Назначен был съезд трех государей, во владениях Владислава, именно в венгерском городе Пожоге (Пресбург), куда Сигизмунд прибыл с многочисленной и роскошно убранной свитой из польских и литовских вельмож. Но император заставил себя долго ждать и, наконец, пригласил обоих королей-Ягеллонов к себе в Вену. Здесь в один и тот же день (в июле 1515 г.) совершено торжественное обручение десятилетнего Владиславова сына Людвига с внучкой Максимилиана Марией и тринадцатилетней дочери Анны за раз с обоими внуками императора, Карлом и Фердинандом, предоставляя будущему окончательный выбор между ними. Таким образом, политика Максимилиана увенчалась успехом: эти брачные союзы приготовили будущее господство немецкой династии в Чехии и Венгрии. Со своей стороны, Максимилиан обещал отступиться от союза против Польши с магистром тевтонским и государем Московским, содействовать примирению Сигизмунда с последним и, если возможно, привлечь Москву к союзу христианских государей против страшных в то время османских турок.
Сближение Сигизмунда с Максимилианом еще более укрепилось, когда в следующем, 1516 году умер Владислав, король чешско-венгерский, и оба они сообща заведовали опекой над малолетним его преемником Людовиком. Около того же времени скончалась польская королева Варвара Заполыя, не оставив королю наследииков мужского пола. Сигизмунд задумал вступить в новый брак и, при посредстве того же Максимилиана, просил руки итальянской принцессы Боны из дома миланских герцогов Сфорца. На этот выбор повлияли красота и богатое приданое принцессы. Предложение его было принято. (Брак с нею состоялся в 1518 г.) Меж тем Василий Иванович, узнав о переходе своего высокого союзника на противную сторону, не скрывал неудовольствия, и приезжавшие в Москву Максимилиановы посланцы, хлопотавшие о примирении Москвы с Польшей, не имели никакого успеха. Тогда император для этой цели назначил большое посольство, во главе которого поставил барона Сигизмунда Герберштейна, не только хорошего дипломата, но и мужа весьма образованного, изучившего, между прочим, славянский (виндский) язык на своей родине в Крайне.
18 апреля 1517 года Герберштейн со своей свитой имел торжественный въезд в Москву, происходивший по установленному здесь для таких случаев церемониалу. Посольство поместили в доме князя Ряполовского, куда доставляли все нужные для него припасы; но назначенные к нему приставы строго следили за всеми действиями посла и даже за его разговорами. Спустя три дня, его с обычными церемониями проводили во дворец, где он представлялся великому князю и вручил свою верительную грамоту, а затем был приглашен к царскому обеду. Двое знатных бояр, один казначей, один дворецкий и три дьяка были назначены для ведения переговоров с послом. Участие в них бояр было более номинальное, а главным лицом явился тут великокняжий казначей грек Юрий Малый, муж весьма сведущий и опытный в делах – один из тех греков, которые приехали в Москву вслед за Софьей Палеолог и служили еще отцу Василия Ивану III. В первом же совещании с этими лицами Герберштейн, восхвалив могущество, родственные и дружеские связи своего государя, римского цезаря Максимилиана с другими европейскими владетелями, объявил, что главную его заботу составляет утверждение общего мира в христианстве; так как неверные, то есть турки и татары, пользуясь несогласием христианских правителей, все более и более распространяют свои завоевания, поэтому он очень желает прекратить пагубную для христианства брань между Москвой и Польшей. Великий князь через бояр ответил, что готов заключить мир, если польский король пришлет своих послов. Герберштейн предложил, чтобы послы обеих сторон съехались на границе или, так как пограничные места опустошены войной и города выжжены, устроить съезд в Риге. Но московская дипломатия прежде всего заботилась о сохранении достоинства своего государства: при Иване III и во время предыдущей войны Василия польско-литовские послы приезжали в Москву для заключения мира, а не наоборот, и бояре объявили это уж обычаем или такой стариной, от которой Москва не отступит. Герберштейн отправил своего племянника фон Турна к польскому королю с просьбой прислать в Москву своих послов.
В начале октября королевские послы – католик Ян Щит и православный пан Богуш Боговитинов – действительно прибыли к Москве. Но в то же время пришло известие, что литовский гетман князь Константин Острожский осадил псковский пригород Опочку. Король думал этим нападением подкрепить свои требования и произвести, так сказать, давление на московское правительство. Он ошибся в расчете: ничто не могло поколебать твердости этого правительства. Королевское посольство не было впущено в город и помещено в подмосковной слободе Дорогомилове; а Герберштейну объявлено, что литовские послы останутся там, пока воеводы великого князя «не переведаются» с Константином Острожским. Пришлось ждать три недели. Наконец прискакали гонцы с известием, что московские воеводы Федор Оболенский, Лопата Телепнев и Иван Лятцкой литовское войско побили, и Константин Острожский ушел от Опочки. Тогда литовские послы были введены в город и получили аудиенцию у великого князя. Переговоры возобновились, но были безуспешны. Сначала обе стороны предъявили невозможные условия: великий князь потребовал казни тех панов, которые учинили насилие его сестре Елене, возвращения ее казны и волостей, отдачи Киева, Полоцка, Витебска и других городов, составляющих отчину его прародителей; а король желал не только получить обратно Смоленск, но еще половину Новгорода, Псков, Тверь и всю Северскую землю. Разумеется, такие требования были несерьезны и предъявлялись только с целью делать как бы уступки. При посредничестве Герберштейна дальнейшие переговоры свелись к одному пункту: к Смоленску. Литва хотела непременно его воротить, а Москва ни за что не уступала. Несмотря на всю дипломатическую ловкость и наружное беспристрастие императорского посла, великий князь ясно видел, что он хлопочет в пользу противной стороны. Напрасно Герберштейн составил увещательную записку, где вздумал ссылаться на исторические примеры Филиппа Македонского, оказавшего умеренность после победы над афинянами, на царя Пирра, утратившего в один час все плоды прежних побед, на своего государя Максимилиана, великодушно возвратившего Верону венецианам, на самого Ивана III, который царство Казанское отдал назад татарам. Умные московские дипломаты, промолчав о древних царях Македонском и Эпирском, ответили от имени великого князя: «Ино то брат наш Максимильян, избранный цезарь римский и наивысший король, ведает, которым обычаем венецеяном Верону отдал, а мы того в обычае не имеем, ни имети хотим, чтобы нам своя отчина отдавати». О царстве же Казанском объяснили, что государь Иван Васильевич не отдавал его татарам, а просто посадил там царя «из своих рук», то есть зависимого от Москвы. Вообще в течение этих долгих переговоров московская дипломатия показала себя верной завету Ивана III и достойной своих греческих учителей. Ясно сознаваемая цель, вежливый язык, обстоятельные суждения и твердость в национальной политике – вот те качества, которые надолго усвоила себе эта дипломатия.
По упорству обеих сторон, около половины ноября мирные переговоры были наконец прерваны. Послы королевские покинули Москву, а вслед за ними был отпущен Герберштейн, осыпанный ласками и знаками почета со стороны великого князя. Перед окончанием переговоров посол передал просьбу цезаря отпустить к нему Михаила Глинского. И эту просьбу великий князь отклонил; бояре его ответили, что Глинский за свою измену должен был подвергнуться казни, но он изъявил желание воротиться в греческую веру своих родителей, о чем бил челом митрополиту Варлааму; поэтому его освободили от казни и отдали митрополиту на испытание. С Герберштейном Василий Иванович отправил к императору своего дьяка Племянникова.
Несмотря на неудачу, Максимилиан не отказался от посредничества и вновь присылал своих послов в Москву. Но эти сношения были прерваны его смертью в 1519 году. Между тем военные действия продолжались; московские полки еще несколько раз вторгались в литовские владения и их опустошали; в 1518 году они осаждали Полоцк, а в следующем доходили до самой Вильны. Взаимные пересылки Василия с магистром Тевтонского ордена Альбрехтом о союзе против Сигизмунда повели наконец к открытой войне ордена с Польшей в 1520 году; причем великий князь, несмотря на свою расчетливость, помог Альбрехту деньгами для найма военных отрядов в Германии. Около того же времени крымские татары сделали несколько опустошительных набегов в литовско-русские области. Московское правительство, пользуясь стесненным положением Польско-Литовского государства, старалось вызвать («позадать») короля на мирные переговоры, и он вновь присылал своих послов в Москву; но опять не сошлись в условиях, и тем более, что Москва требовала возвращения пленных, взятых в «великой битве» (Оршинской). В следующем (1521) году обстоятельства уже переменились: Альбрехт был побежден поляками и заключил с ними четырехлетнее перемирие, а на востоке оба татарских царства, Крымское и Казанское, выступили против Москвы соединенными силами. Наконец, только в 1522 году воюющим сторонам удалось заключить пятилетнее перемирие; причем Москва удержала за собой Смоленск, но отказалась от возвращения пленных.
При заключении перемирия предположено было продолжать переговоры о вечном мире. Чтобы добиться этого мира и окончательной уступки Смоленска, на которую король ни за что не соглашался, Василий Иванович вновь обратился к посредничеству германского императора, которым тогда был внук Максимилиана Карл V, король Испанский. Московские послы (князь Засекин и дьяк Борисов) ездили для того к Карлу в Мадрид (в 1524 г.). Император и его брат, эрцгерцог Австрийский Фердинанд, благосклонно отнеслись к этому делу и отправили в Москву великое посольство, во главе которого были поставлены граф Нугароль и тот же барон Герберштейн, которые прибыли в Москву в апреле 1526 года. Вскоре сюда же приехал и с той же задачей посол папы Климента VII Иоанн Франциск, епископ Скаренский, сопровождаемый ездившим в Рим московским послом Димитрием Герасимовым. Римская курия пыталась воспользоваться московско-польской войной для заветной цели, то есть для подчинения Русской церкви папскому главенству. Она также предлагала свое посредничество для заключения мира; кроме того, предлагала короновать великого князя королевским венцом, а московского митрополита возвести в сан патриарха; вместе с тем старалась привлечь Василия к союзу европейских государей против турок, маня его «константинопольским наследством». За все эти блага требовалось только признание Флорентийской унии. Потери, которым подверглось тогда папство со стороны начинавшейся Реформации, побуждали его тем настойчивее хлопотать о подчинении себе Русской церкви, и пересылки наши с Римом продолжались уже несколько лет. Все подобные ухищрения курии, по обыкновению, остались бесплодны. Москва, со своей стороны, не прочь была поддерживать эти сношения, но только до тех пор, пока считала их нелишними для своих политических целей; а затем решительно уклонилась и от унии, и от войны с отдаленной от нее турецкой державой.
В октябре 1526 года приехали литовские послы: плоцкий воевода Петр Кишка и литовский подскарбий Михаил Богуш-Боговитинов. Начались переговоры при посредничестве послов императорских и папского. Но Смоленск опять послужил неодолимым препятствием для вечного мира. Согласились только продолжить пятилетнее перемирие еще на шесть лет. Императорские послы получили от великого князя в подарок парчовые кафтаны, подбитые соболями, и значительное количество дорогих мехов. Прямой своей цели двукратное посольство Герберштейна не достигло, но оно имело важные последствия в другом отношении. Плодом его явились знаменитые «Записки о Московии», которые возбудили большой интерес в Западной Европе, впервые дали ей обстоятельный и довольно правдивый очерк Московского государства и надолго послужили главным источником, откуда черпали свои сведения последующие иноземные писатели о России7.
В предыдущем, 1525 году бывший союзник Василия магистр прусского духовно-рыцарского ордена Альбрехт уступил напору распространившегося в Северной Германии лютеранства, вместе со своим орденом отказался от монашеских обетов и произвел секуляризацию (обращение в светский характер) его владений. В качестве наследственного герцога Восточной Пруссии он заключил со своим дядей королем Польским вечный мир, признав свое герцогство вассальным владением польской короны и получив на него в Кракове от Сигизмунда торжественную инвеституру. Благополучно окончив эту польско-прусскую распрю, Сигизмунд вслед за тем совершил другое, еще более важное и выгодное для своего королевства дело: присоединение Мазовии. Здесь княжили юные сыновья Конрада III, Станислав и Януш, под опекой матери своей Анны, происходившей из фамилии Радзивиллов. Вдруг оба княжича один за другим сошли в могилу (в 1524 г. и 1526 г.); вместе с ними прекратилась мужская линия Мазовецких Пястов, и это вассальное княжество должно было воротиться под владение польской короны. Неожиданная и быстрая кончина братьев возбудила большие толки между мазовецкой шляхтой: прошел слух об их отравлении, и некоторые прямо обвинили в том супругу короля Бону Сфорца, которая, как истая итальянка времен Макиавелли, не стеснялась в выборе средств для достижения цели. Чтобы успокоить взволнованные умы, Сигизмунд поспешил в Варшаву, отправил торжественное погребение последнему княжичу, то есть Янушу; устроил временное управление княжества под ведением той же вдовствующей княгини Анны Радзивилловны, подтвердил за шляхтой ее местные права и привилегии и расставил свои гарнизоны в мазовецких городах. Так мирно и легко был воссоединен этот древнепольский край с Великой и Малой Польшей; Сигизмунд Ягеллон довершил дело объединения, начатое Владиславом Локетком. Но в том же 1526 году династия Ягеллонов понесла великую потерю с другой стороны: в августе под Могачем, в битве с турками, пал племянник Сигизмунда молодой чешско-венгерский король Людовик, не оставив потомства. Тогда прекратилась династическая связь Польши с Чехией и Венгрией; оба последние королевства достались эрцгерцогу Австрийскому Фердинанду, брату императора Карла V. Вышепомянутые браки, предусмотрительно заключенные их дедом Максимилианом, привели Габсбургский дом к его заветной цели. В самом Польско-Литовском государстве Ягеллова династия грозила скоро угаснуть. От первого брака Сигизмунд имел одних дочерей. И только вторая его супруга Бона родила ему единственного сына, Сигизмунда Августа (1520 г.). Отец постарался обеспечить за ним обе короны: едва мальчику минуло девять лет, как он был выбран на великое княжение Литовское, Русское и Жмудское и посажен на стол в виленском соборе Св. Станислава (1529 г.); а в следующем году совершилось его коронование в Кракове. Таким образом, в Литве и Польше повторилось то же самое венчание наследника и как бы соправителя, какое мы видели в Москве за тридцать лет до того, во времена Ивана III.
Обратимся теперь к отношениям татарским при Василии III.
Частые пересылки с Менгли-Гиреем продолжались по-прежнему; послы московские отправились с подарками в Крым, а крымские ездили за подарками в Москву; но перемена в отношениях сказывалась и в их приеме. Вот что сообщал московский посол боярин Морозов о тех притеснениях и обидах, которым он подвергался в столице крымского хана. Боярин, в сопровождении присланного за ним Аппак-мурзы и своей свиты, поехали в ханский дворец править свое посольство и представить хану подарки (состоявшие из шуб и другого платья, а также из соболей, кусков сукна и т. п.). У городских ворот он сошел с коня и по обычаю «каршевался» (здоровался) с сидевшими тут крымскими князьями и мурзами; но один из них, Кудояр-мурза, назвал посла холопом и отнял у его подьячего шубу, которую несли в числе подарков. Затем стоявшие у дверей дворца есаулы потребовали с посла посошной пошлины за допущение к хану, бросив перед ним свои посохи; но Морозов имел приказ не платить этой пошлины, ссылаясь на шертную (клятвенную) грамоту, по которой русские послы освобождены от всяких платежей. Не отвечая есаулам, он переступил их посохи и вошел к хану, который принял его в присутствии своих царевичей, огланов (высших татарских сановников) и князей. Хан спросил посла о здоровье великого князя, а царевичи с ним «каршевались». Отправив посольство, Морозов был приглашен к ханскому столу. Тут по обычаю хан отлил из чаши вино и велел ее подать послу; то же сделали царевичи и князья; но, когда очередь дошла до Кудояр-мурзы, Морозов отказался пить из одной с ним чаши и стал жаловаться хану на помянутые выше обиды. Хан старался его оправдать; а когда посол ушел, то он разбранил Кудояра и отнял у него шубу. Однако это не помешало царевичам с угрозами упрекать посла в недостаточности сделанных им подарков и требовать большего. Когда летом следующего, 1510 года Морозов воротился в Москву, с ним приехали крымские послы и жена Менгли-Гирея Нурсалтан. Она желала повидаться здесь со своим младшим сыном Абдыл-Летифом; а отсюда ездила в Казань повидаться с Магомет-Аминем, другим своим сыном (от первого мужа, казанского хана Ибрагима). По возвращении из Казани Нурсалтан опять побывала в Москве и уехала в Крым, осыпанная от великого князя почестями и подарками и сопровождаемая его послом к Менгли-Гирею. По-видимому, она только подкрепила добрые отношения Москвы к ханствам Казанскому и Крымскому. На деле, однако, вышло противное, и вскоре обнаружилось стремление крымцев и казанцев к тесному взаимному союзу, направленному против Московского государства.
Менгли-Гирей был уже стар и дряхл и не мог сдерживать своих буйных сыновей, жаждавших добычи. Король Польский Сигизмунд, как мы видели, золотом и обещанием богатой дани склонил хана на свою сторону и заключил с ним тайный договор против Москвы; последствием чего открылись набеги царевичей на московские и рязанские украины. Хотя эти набеги иногда встречали отпоры, но открывшаяся новая война с Сигизмундом, конечно, мешала Москве принимать деятельные меры для обороны южных границ. Менгли-Гирей умер (1515 г.), и место его заступил старший сын его Магмет-Гирей, уже известный своим нерасположением к Москве. Побуждаемый польскими сторонниками, он не замедлил обратиться к великому князю с разными надменными требованиями; между прочим, он потребовал возвращения Смоленска королю Польскому, присылки московской судовой рати на помощь крымцам для завоевания Астрахани, увеличения ежегодно присылаемых «поминков» (подарков) и прочее. Московский посол Мамонов подвергся в Крыму еще большим обидам и вымогательствам, чем вышеописанные. (Этот Мамонов не воротился и умер в Крыму.) Меж тем внезапные нападения крымцев на наши украины возобновились. Дела казанские послужили поводом к решительным столкновениям.
Казанский хан Магмет-Аминь тяжко заболел: все тело его покрылось гноем с червями и своим смрадом заражало воздух. Говорят, будто он считал свою болезнь небесной карой за вероломное избиение русских купцов и свои измены великому князю. Хан прислал Василию 300 коней, богато убранных, с иными дорогими дарами и просил назначить ему преемником его брата Абдыл Летифа. Василий изъявил согласие и пока пожаловал Летифу в кормление город Каширу. Но случилось так, что Летиф внезапно умер (1517 г.), а в следующем году за ним последовал и Магмет-Аминь. С их смертью пресеклась династия основателей Казанского царства, Улу-Махмета, его сына Мамутека и внука Ибрагима. В живых оставался еще один из сыновей Ибрагима; но это был крещеный царевич Петр (Худай-Куль), который уже не мог занять мусульманский престол. Еще ввиду близкой смерти Аминя Магмет-Гирей хлопотал о том, чтобы обеспечить этот престол брату своему Саип-Гирею. Он прислал в Москву торжественное посольство, поставив во главе его князя Аппака, известного между крымскими вельможами за московского сторонника; посол должен был просить о помощи для завоевания Астрахани и подготовить согласие великого князя на посажение Саип-Гирея в Казани, взамен чего обещал союз против польского короля. Вслед за тем, действительно, сын Магмет-Гирея Калга-Богатырь с 30 000 крымцев сделал вторжение в Литовскую Русь, несмотря на продолжавшуюся дружбу с Сигизмундом; разбил литовского гетмана Константина Острожского, пожег и попленил множество селений и с огромной добычей воротился домой. В бытность Аппака в Москве новый царь Казанский был назначен Василием; но не кто-либо из фамилии Гиреев. В Москве отнюдь не желали способствовать усилению этой разбойничьей фамилии и подчинению ей Казани и Астрахани, то есть всех бывших частей Золотой Орды. Напротив, выбор великого князя пал на потомка враждебного Гиреям рода золотоордынских ханов. В конце княжения Ивана III из Астрахани выехал в Москву царевич Шейх Авлиар, племянник известного хана Ахмата (и внук Кучук-Магомета). Василий III потом сделал этого служебного царевича ханом в Мещерском городке, то есть в Касимове; а после его смерти передал Касимовское ханство сыну Авлиара Ших-Алею. И вот теперь, когда освободился престол Казанский, Ших-Алей был посажен ханом в Казани из рук великого князя Московского (1519 г.); причем он женился на вдове Магмет-Аминя и тем приобрел поддержку со стороны ее родни8.
Магмет-Гирей на время затаил жажду мести, отчасти сдерживаемый турецким султаном, с которым Василий Иванович поддерживал дружеские сношения и который имел общего с ним неприятеля в короле Польском. Но втайне крымский хан уже готовился нанести Москве сильный удар, действуя своими происками не только в Казани, но и в краю, связанном с Москвой гораздо более тесными узами, именно в княжестве Рязанском.
Мы видели, часть Рязанской земли уже перешла к великому князю Московскому еще при Иване III (по духовному завещанию). Василий Иванович между прочими своими титулами уже именовал себя и «князем Рязанским». Остальная Рязанская земля была теперь единственным из больших уделов, еще не присоединенным к Московскому государству. За малолетством ее князя Ивана Ивановича этой землей управляла его мать Агриппина (урожденная княжна Бабич), которая была верной исполнительницей приказаний, получаемых из Москвы. Но, кроме московских сторонников, при княжеском дворе в Рязани, несомненно, была и партия бояр противного направления, то есть поборников старой рязанской самобытности, враждебно смотревшей на московскую зависимость. Когда Иван Иванович достиг юношеского возраста, он мог возбудить на некоторое время надежды этой партии, потому что характером своим не походил на кротких, уступчивых предшественников. Советники молодого князя указывали ему на Крым и Литву, при помощи которых еще возможна была борьба с Москвой и которые со своей стороны, вероятно, подсылали с теми же внушениями. Иван начал с того, что силой отнял власть у матери, которая все хотела продолжать свою опеку. В Москве пока промолчали и сделали вид, что довольствуются представленными объяснениями: там, очевидно, ждали только удобного случая, чтобы покончить с самой тенью рязанской самостоятельности. Вдруг Василию донесли из Рязани его доброхоты, что рязанский князь ведет тайные переговоры с Магмет-Гиреем и даже хочет жениться на его дочери; Василий послал его звать в Москву. Молодой князь видел опасность и не знал, на что решиться, так как всякая помощь была далека, и время открытой борьбы еще не наступило. Главным советником Ивана был боярин Симеон Коробьин. Он принадлежал к одной из тех боярских фамилий, которые происходили от выехавших из орды крещеных татарских мурз и которых особенно было много на Рязани. Московский великий князь с помощью подкупа привлек Симеона Коробьина на свою сторону, и тот уговорил рязанского князя исполнить желание Василия. Но едва Иван Иванович прибыл в Москву, как его посадили под стражу; Агриппину заключили в монастырь; а в рязанские города были посланы московские наместники. Главный город, то есть Переяславль-Рязанский, поручен знаменитому московскому воеводе Ивану Васильевичу Хабару-Симскому. Это произошло около 1520 года.
Так ловко, без пролития крови, было подготовлено и совершено присоединение к Москве последнего из великих уделов Северо-Восточной Руси, и притом такого, который пользовался политической самобытностью в течение целых четырех столетий. Однако последующее затем татарское нашествие по всем признакам произошло не без связи с этим рязанским переворотом.
Происки крымского хана в Казани действовали тем успешнее, что Ших-Алей и без того возбудил против себя народ усердным повиновением великому князю Московскому. Невоинственный, лишенный всякой энергии, этот хан отличался и наружностью весьма непривлекательной. Поэтому, когда брат Магмета Саин-Гирей весной 1521 года явился с отрядом крымцев под Казанью, вельможи отворили ему ворота и посадили на царство. Ших-Алей отпущен; но русские купцы были ограблены и захвачены. Вслед за тем из Крыма к великому князю от его доброхотов (конечно получавших от него подарки) пришла весть, что Магмет-Гирей собирается с большими силами на Москву. Но эта весть пришла слишком поздно: татары уже подходили к Оке. Василий наскоро выслал небольшую рать, чтобы загородить им дорогу при переправе. Но предводительство было поручено еще молодому, мало способному брату великого князя Дмитрию Бельскому и еще менее способному брату великого князя Андрею. Татары успели перейти реку и обратили в бегство московский отряд. Под Коломной к Магмету присоединился его брат Саин, который со своими казанцами успел уже опустошить области Нижегородскую и Владимирскую. Соединенная орда бросилась прямо к Москве. Возобновились времена нашествия Тохтамыша и Эдигея. Василий был застигнут врасплох и поступил так же, как его предки, то есть уехал на север собирать войско. А столицу он поручил свояку, крещеному татарскому царевичу Петру, и боярам. Но здесь господствовали паника и страшный беспорядок. Население окрестностей бросилось спасаться в город, особенно в кремль, и произвело здесь такую тесноту, что воздух, пропитанный зловонием, угрожал появлением моровой язвы. Но Магмет-Гирей не воспользовался удобным моментом для захвата города и ограничился опустошением окрестностей. Он принял дары и вступил в переговоры. На его требование, чтобы великий князь обязался платить известную ежегодную дань, бояре отвечали согласием и даже выдали ему о том грамоту за великокняжеской печатью. Хан после того ушел назад, очевидно опасаясь прибытия большой московской рати. На обратном пути он остановился под Переяславлем-Рязанским, с намерением отнять у москвитян этот бывший стольный город, только что ими присоединенный. Враги могли рассчитывать на то, что многие жители были недовольны этим присоединением. Вдобавок распространилось известие, что рязанский князь Иван Иванович, пользуясь суматохой, происшедшей в Москве при нашествии татар, убежал из своего заключения и, вероятно, с татарско-литовской помощью будет добиваться возвращения своего стола. Обстоятельства действительно были критические. Но в Переяславле-Рязанском бодрствовал энергичный воевода Хабар-Симский. Он заранее распорядился собрать местных бояр и детей боярских к владыке Сергию и вновь укрепить их присягой на верную службу Василию Ивановичу, чтобы без измены биться как с татарами, так и с самим бывшим князем Рязанским. Кроме сильного гарнизона, городские стены оборонялись еще огнестрельным снарядом, которым заведовал наемный немецкий пушкарь Иордан.
Видя крепость города, Магмет-Гирей попытался заманить к себе Хабара и послал звать воеводу в свой стан, извещая, что государь его теперь уже данник ханский. Хабар попросил показать ему самую великокняжескую грамоту в доказательство, что это правда. Хан послал ему грамоту. В татарском войске находился присланный Сигизмундом вспомогательный отряд днепропетровских казаков с их предводителем Евстафием Дашковичем, который при Иване III отъехал было из Литвы на службу в Москву, а при Василии III, подобно Константину Острожскому, бежал опять в Литву. Этот Дашкович задумал взять Рязань хитростью. Приблизясь к стенам, он завел сношения с гражданами о выкупе их пленных земляков, причем дал возможность некоторым пленникам убежать в город. Подошли татары и стали требовать беглецов назад; граждане их выдали. Во время этих переговоров толпы неприятелей все более и более подвигались к городу, намереваясь неожиданно в него ворваться. Вдруг Иордан произвел оглушительный залп из своей артиллерии, и татары в ужасе побежали от стен. Хан потребовал было выдачи Иордана. Хабар не только отказал ему в этой выдаче, но и удержал у себя помянутую грамоту. После того Магмет-Гирей ушел в свои степи, побуждаемый, с одной стороны, известиями о враждебных действиях астраханцев, с другой – опасаясь прибытия московской рати и потери своего полона. А этот полон был огромный. (Молва преувеличивала его количество до 800 000 человек.) Крымцы потом продавали русских пленников и пленниц на базарах в Кафе, а казанцы в Астрахани. Тех пленников, которые не шли в продажу, то есть старых, больных и младенцев, варвары морили голодом или отдавали их своим детям, чтобы последние учились на них искусству убивать людей саблями, стрелами, камнями и тому подобное.
Бежавший из Москвы рязанский князь действительно несколько дней скрывался где-то в окрестностях Переяславля и успел даже войти в сношения с некоторыми преданными ему рязанскими боярами и детьми боярскими; но сношения эти были открыты. Видя полную неудачу, он ускакал в Литву и нашел гостеприимство у короля Сигизмунда. Магмет-Гирей очень жалел, что упустил из своих рук такое удобное орудие для того, чтобы пугать Москву и заводить смуты в Рязанской области. Поэтому он завязал с королем переговоры об отпуске в Крым Ивана Ивановича, обещая возвратить ему Рязанское княжение. Но никакими обещаниями ему не удалось заманить к себе Ивана. Последний рязанский князь получил от короля на свое содержание литовское местечко Стоклишки с принадлежавшими к нему селами (в Ковенском повете Трокского воеводства); прожил еще около пятнадцати лет и окончил дни свои в безвестности. Меж тем московское правительство, для закрепления за собой Рязанской области, повторило здесь те же меры, какие оно употребило в отношении к Новгороду и Пскову: большое число жителей с их семействами было переселено в другие области, а на их место присланы иные обыватели. Хабар-Симский за свою службу потом был награжден саном боярина.
Огромный полон, выведенный из Восточной Руси, так разлакомил хищную орду, что Магмет-Гирей велел своим князьям, мурзам и всем татарам откармливать коней и готовиться на осень того же года к новому походу на Москву; о чем велел прокликать по трем главным торгам полуострова: в Перекопи, Крыму и Кафе. Осенний поход, однако, не состоялся; а на весну 1522 года великий князь уже выставил многочисленные полки по берегам Оки и вывел в поле огнестрельный снаряд, устроив главный стан под Коломной. Зимой этого года, как мы видели, удалось заключить перемирие с Литвой и тем развязать себе руки для действий против Крыма и Казани. Судьба вскоре избавила Москву от самого злейшего ее врага, Магмет-Гирея. С помощью ногайского мурзы Мамая крымский хан завоевал наконец дружившую с Москвой Астрахань. Но тот же Мамай, опасаясь излишнего усиления хана, выманил его из завоеванного города в поле, где вероломно напал на Магмета во время пира и умертвил его со многими людьми. После того ногаи вторглись в самый Крым и сильно его опустошили; а бывший союзник Магмета Дашкович, пользуясь обстоятельствами, сжег Очаков и разорил татарские улусы в западной части Крымского ханства, то есть около нижнего Днепра (1523 г.). На ханский престол турецким султаном был возведен брат Магмета Сайдет-Гирей.
Собранные против крымцев силы Василий Иванович обратил против Саип-Гирея Казанского, который перед тем вероломно велел убить его посла и пленных московских купцов. Летом того же 1523 года судовая и конная рати ходили воевать Казанскую землю. Во время сего похода московские воеводы основали город при впадении в Волгу реки Суры, составлявшей нашу границу с этой землей, и назвали его именем великого князя (Васильсурск). Сей город составил важный опорный пункт для наших дальнейших предприятий против Казани. В следующем году поход возобновился. Саип-Гирей ушел в Крым, где сделался калгой-султаном, то есть вторым лицом после своего брата хана Сайдет-Гирея (а впоследствии некоторое время занимал ханский престол). В Казани он оставил своего племянника юного Сафа-Гирея. Русские подступали к самому городу; но не взяли его; а потому Василий согласился на просьбу казанцев утвердить на их престол Сафа-Гирея в качестве своего подручника. Однако враждебные отношения продолжались. В 1530 году был новый большой поход, под начальством князей Ивана Бельского и Михаила Глинского. Русские воеводы едва было не взяли город, но уступили просьбам казанцев, обещавших полную покорность великому князю. Действительно, вскоре потом они изгнали от себя Сафа-Гирея, и по их просьбе Василий дал им в цари младшего Шихалеева брата царевича Еналея, владевшего дотоле Касимовом. Таким образом, после многих трудов и усилий мятежная Казань к концу Василиева княжения казалась усмиренной. Однако разные происки и беспокойства с этой стороны не прекращались. Так, дотоле преданный и покорный Москве, бывший казанский царь Ших-Алей, получивший от великого князя в свое кормление Серпухов и Каширу, оскорбился тем, что в Казани посадили теперь царем не его самого, а его младшего брата, и завел какие-то тайные сношения с казанцами и с другими землями. Узнав о том, великий князь лишил его удела и сослал на Белоозеро; а бывших при нем татарских огланов, князей, мурз, псарей и прочих людей развели по разным городам, именно в Тверь, Новгород и Псков (1533 г.).
Неоднократные вероломные захваты, ограбления и избиения русских купцов казанцами великий князь наказал тем, что запретил своим купцам ездить на ярмарку, происходившую под Казанью на так называемом Гостинном острове, а велел им съезжаться для обмена товаров во вновь основанном Васильсурске, то есть на пограничье. На первое время это запрещение произвело вздорожание тех предметов, которые привозились из Персии, Закавказья и Астрахани; особенно вздорожали лучшие сорта волжской рыбы9.
Присоединением Рязани окончилось объединение собственно Северо-Восточной Руси под московским владычеством, и крупные уделы уничтожены. Существовали еще, так сказать, промежуточные удельные владения, занимавшие переходное положение между Русью Литовской и Московской, именно в земле Чернигово-Северской. Мы видели, что при Иване III некоторые князья этой земли перешли из литовского подданства в московское. Наиболее мелкие из них скоро утратили характер удельных владетелей и вступили в ряды московских боярских фамилий (Бельские, Воротынские, Одоевские, Мстиславские и пр.). Великий князь давал им поместья в иных областях, держал их на службе при своем дворе и, сверх того, так же как и с других почему-либо ненадежных бояр, брал с этих князей клятвенные записи за поручительством митрополита и епископов в том, что князья сии будут верно служить ему и его детям, не отъедут «к Жигимонту королю Польскому и великому князю Литовскому, и не будут ссылаться с ним без ведома государя своего великого князя Василия Ивановича, и к лиходеям его не пристанут никакими делы, ни которою хитростию». Но в числе князей, перешедших из литовского в московское подданство, оставалось еще два довольно значительных удельных князя в Северской земле, принадлежавшие к потомкам Ивана Калиты, именно Василий Семенович Стародубский и Василий Иванович Новгород-Северский. Первый был внук Ивана Можайского, а второй Димитрия Шемяки – известных врагов Василия Темного. Они пока усердно служили московскому государю, а Шемячич даже прославился своими подвигами в войнах с крымскими татарами. Но политика государственная требовала упразднения и этих уделов, особенно ввиду их положения на границе с враждебным нам Польско-Литовским королевством. Василию помогло то обстоятельство, что оба этих князя находились в непримиримой взаимной вражде и посылали друг на друга доносы в Москву; ибо во время войны с Литвой с ее стороны действительно были попытки переманить их на свою сторону. По одному из обвинений в сношениях с Литвой Шемячич приезжал в Москву, оправдался перед великим князем и с честью отпущен в свое княжество. Прошло пять лет; Василий Шемячич успел изгнать князя Стародубского из его волости и завладеть ею. Но вдруг его самого вновь потребовали в Москву. Он приехал только после того, как получил клятвенную охранную грамоту в своей безопасности, скрепленную подписью великого князя и митрополита. Но здесь, вопреки этой грамоте, северского князя схватили и посадили в темницу; а княжество его присоединили к Москве. Предлогом к тому послужило какое-то изменническое письмо, которое он будто бы написал польскому королю (1523 г.). Иностранный писатель (Герберштейн) сообщает, что, когда Шемячич прибыл в Москву, один юродивый стал ходить по улицам с метлой в руках и на вопросы любопытных отвечал: «Государева земля еще не совсем очищена; теперь удобная пора вымести последний сор». Этот рассказ, во всяком случае, показывает, что москвичи сознательно относились к своей задаче государственного объединения и стремились довести ее до конца.
Кроме помянутых выше отношений к литве и татарам, при Василии продолжались сношения с другими ближними и дальними соседями. Так, со Швецией, Данией и Ливонией были по нескольку раз возобновлены мирные договоры. В 1514 году было заключено десятилетнее перемирие с семьюдесятью ганзейскими городами, возвращены немцам их церковь и дворы в Новгороде. Но их торговля здесь уже не могла быть восстановлена в прежней силе. Кроме того, Василий III старательно поддерживал дружеские посольские сношения с турецким султаном, надеясь (хотя и без особого успеха) посредством его сдерживать своих врагов, литву и татар, а также с молдавским господарем и даже принимал посольство от знаменитого Бабура, основателя империи Великого Могола в Индии10.
II
Внутренние дела при Василии III
Церковные вопросы. – Вассиан Патрикеев. – Полемика с Иосифом Волоцким. – О еретиках и монастырском землевладении. – Борьба Иосифа с удельным князем и архиепископом. – Отношения великого князя к Иосифу и Вассиану. – Максим Грек. – Митрополиты Варлаам и Даниил. – Участие Максима Грека в полемике с иосифлянами. – Дело Берсеня Беклемишева. – Осуждение Максима Грека и Вассиана. – Развод и второй брак великого князя. – Построение и расписание храмов. – Развитие придворного строя. – Прием и угощение иноземных послов. – Великокняжья охота под Москвой. – Успехи самодержавия. – Личные свойства Василия. – Его ближние бояре и советники. – Поездки на богомолье и на охоту. – Болезнь, предсмертные распоряжения и кончина Василия III
Обращаясь к внутренним московским делам и отношениям времени Василия III, мы на первом плане видим здесь борьбу двух противоположных течений в сфере вопросов церковных и придворно-политических. Вопросы эти перешли в наследство Василию от Ивана III.
Ересь мниможидовствующих хотя и была сломлена соборным приговором и жестокими казнями 1504 года, однако не вполне уничтожена, и поднятое ею брожение не прекращалось. Известный противник этой ереси, игумен Иосиф Волоцкий, продолжал настаивать на конечном истреблении еретиков, не доверяя их раскаянию. Великий князь Василий Иванович еще при жизни отца показал себя усердным сторонником Иосифа в борьбе с ересью, и последний мог рассчитывать теперь на полную победу своих увещаний. Однако этого не случилось. На сем поприще он встретил достойного себе противника в лице инока Вассиана Косого. Этот Вассиан, в миру Василий, был сын Ивана Юрьевича Патрикеева, вместе с отцом постриженный в монахи во время опалы Ивана III на старую боярскую партию, по известному делу о престолонаследии. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре и предаваясь книжным занятиям, Вассиан сделался ревностным учеником и последователем известного поборника пустынножительства и главы заволжских старцев Нила Сорского, который был пострижеником того же монастыря и основал свою пустынь неподалеку от него. Монашеская мантия не смирила гордого, горячего нравом князя-инока. Владея начитанностью и литературным талантом, он принялся пером развивать идеи своего учителя Нила Сорского и смело вступил в книжную полемику с Иосифом Волоцким. В эпоху собора 1504 года, когда Иосиф написал послание Василию Ивановичу с увещанием казнить еретиков и со ссылками на примере строгости из ветхозаветной истории, со стороны заволжских старцев последовал на это послание едкий ответ, главным автором которого считают Вассиана Косого11.
Приведем некоторые черты из сего ответа: на слова Иосифа, что «Моисей скрижали разбил», старцы возражают: «Когда Бог хотел погубить Израиля, поклонившегося тельцу, Моисей стал вопреки и сказал Господу: аще сих погубиши, то меня прежде сих погуби, и Бог, ради Моисея, не погубил Израиля». На примеры апостола Петра, разбившего молитвой Симона Волхва, и Льва, епископа Катанского, сжегшего своей епитрахилью волхва Лиодора, старцы отвечают: «И ты, господне Иосифе, сотвори молитву, да иже недостойных еретик или грешников пожреть их земля». И далее: «А ты, господне Иосифе, почто не испытавши своея Святости, не связал архимандрита Касьяна своею мантией, донележе бы он сгорел, а ты бы в пламени его держал, а мы бы тебя, яко единого от трех отроков, из пламени изшед, да прияли». По поводу ссылки Иосифа на ветхозаветные примеры строгости (Моисея, Илию Пророка и др.) старцы укоряют его самого в сочувствии иудейству и напоминают, что теперь царствует уже не ветхий закон, а благодать Христова, которая запрещает осуждать брату брата и единому Богу оставляет судить согрешения человеческие.
Иосиф, со своей стороны, горячо защищал строгие меры. Заволжские старцы в другом своем послании доказывали, что если еретики ничем своей ереси не обнаруживают, то не должно истязаниями вымучивать от них признание, а если еретик принесет покаяние, то следует его допустить в церковь и даже ко св. причастию. Иосиф на такое, по его словам, «любопрепирательное послание» отвечал посланием к старцам о повиновении соборному определению. Тут он, между прочим, советует не только выпытывать признания в ереси, но в случае надобности для открытия ее прибегать к хитрости или «богонаучному коварству», с помощью которого Флавиан, патриарх Антиохийский, выпытывал признание у начальника мессалианской ереси. В заключение Иосиф убеждает старцев оказать повиновение соборному определению (1504 г.); в противном случае им самим угрожает отлучением от св. причастия.
В этой полемике о еретиках между Иосифом Волоцким и представителем заволжских старцев Вассианом Патрикеевым сочувствие многих современников оказалось на стороне последнего, как проповедника более гуманных, более христианских воззрений. Сам великий князь Василий Иванович некоторое время показывал большую милость Вассиану и приблизил его к себе, как умного, правдивого советника и своего дальнего родственника. (Они были троюродными братьями по бабке Вассиана, сестре Василия Темного.) Переехав в Москву, Вассиан проживал то в Симонове, то в Чудове монастыре. Он усердно печаловался за еретиков и написал по поводу их целый ряд посланий (или «тетрадей») против Иосифа; причем его самого за излишнюю строгость к заблудшимся уподоблял еретику Новату. Но энергический игумен не оставался в долгу; своими увещаниями, обращенными к одному из ближних бояр великого князя (Василию Андреевичу Челяднину) и к самому «Державному», он добился того, что последний велел схватить всех известных еретиков и держать в темнице до самой смерти.
Одновременно с препирательством о еретиках между Иосифом и Вассианом Патрикеевым шла жаркая полемика о другом, еще более жгучем вопросе, поднятом теми же заволжскими старцами (на известном соборе 1503 г.), то есть о монастырском землевладении. После соборного определения, решившего вопрос в пользу этого землевладения, Нил Сорский замолчал; но за него продолжал борьбу ученик его Вассиан. Сему последнему приписывают пространное рассуждение о неприличии монастырям владеть вотчинами. Здесь он обвиняет противников в том, что самые ссылки их на писания отцов церкви бывают часто неправильные и ложные, и современных ему иноков изображает людьми жадными к стяжанию и мирским благам, отступившими от древнего благочестия. Впечатление, произведенное этим рассуждением, заставило Иосифа Волоцкого написать опровержение, которое он назвал «Отвещание Любозазорным» и в коем по преимуществу указывает на иноческие труды знаменитых русских подвижников начиная с Антония и Феодосия.
В эпоху этой полемики Иосифу пришлось не только писанием, но и самим делом отстаивать неприкосновенность монастырского имущества.
Иосифов монастырь, как известно, находился в уделе Волоцком; когда умер благодетель монастыря князь Борис Васильевич, удел его разделился между двумя сыновьями: младший (Иван Борисович Русский) умер еще при Иване III и отказал свою часть великому князю Московскому; оставался в живых старший, Федор Борисович, которому принадлежал самый Волок-Ламский. Этот князь Федор любил разгульную жизнь и, нуждаясь в деньгах, захотел воспользоваться казной находившихся в его земле монастырей. Между прочим, он брал из Иосифова монастыря разные вещи, взял значительную сумму денег под видом займа и вообще начал его притеснять. Выведенный тем из терпения, суровый игумен решился наконец на открытую борьбу. Он послал одного из старейших иноков требовать возврата занятой суммы; князь грозил бить кнутом посланного. Однажды Федор Борисович пред своим приездом в монастырь прислал сказать игумену, чтобы готовил пир и «держал бы про него меды, а квасов бы не держал». Игумен ответил, что устав запрещает иметь хмельные напитки в монастыре. Иосиф купил жемчуг на ризы и епитрахиль; князь прислал просить этот жемчуг себе на венец к шлему и получил отказ. Тогда князь погрозил разорить монастырь, чернецов казнить кнутом. Иосиф начал советоваться с братией, что предпринять, и, желая испытать ее, предлагал разойтись по другим монастырям. Но братия подняла ропот; многие иноки, вступив в монастырь, сделали значительные вклады, надеясь спокойно провести в нем остаток жизни, а теперь нищими должны были скитаться по чужим обителям. Решили отправить в Москву челобитье великому князю и митрополиту, чтобы заступились за монастырь и приняли бы его в Московскую державу. Иосиф, конечно, заранее рассчитывал на благоприятный ответ и не ошибся. Мелкий удельный князь не посмел противиться государевой воле; зато он постарался возбудить против волоцкого игумена гнев местного церковного владыки.
Волоцкой удел принадлежал к Новгородской епархии. Архиепископом в Новгороде был тогда преемник Геннадия Серапион, бывший игумен Троице-Сергиевой лавры. Иосиф обратился с челобитьем в Москву, не предупредив о том своего владыку, и, так сказать, самовольно исключил монастырь из его епархии, не взяв владычного благословения. Он отговаривался после тем, что посланный им чернец не был пропущен за новгородский рубеж заставой, которая была временно учреждена по случаю свирепствовавшей в той земле моровой язвы (мор железою). Однако Серапион, напрасно прождав еще около двух лет какого-либо отзыва со стороны Иосифа, отважился на решительный шаг: он послал игумену неблагословенную грамоту, отлучающую его от священства и св. причастия. Такой поступок повлек за собой важные последствия. По жалобе Иосифа Серапион неволей привезен в Москву и предан суду духовного собора. Председателем на соборе был покровитель Иосифа, митрополит Симон, а вторым после митрополита лицом тут заседал младший брат волоцкого игумена, Вассиан, незадолго возведенный в сан архиепископа Ростовского. Серапиона обвинили в неуважении к митрополиту и великому князю. В особую вину поставили ему следующее выражение его неблагословенной грамоты Иосифу: «Что еси отказался от своего государя в великое государство… ино еси отступился от небесного, а пришел к земному». Конечно, это было написано в том смысле, что игумен променял Царство Небесное на земные блага, а его истолковали таким образом, что небесным тут назван князь Федор, а земным сам великий князь. На соборе Серапион утверждал, что он был прав, и давал иногда резкие ответы. Так, на вопрос своего явного неприятеля Вассиана, архиепископа Ростовского, на основании каких священных правил он отлучил и не благословил Иосифа, Серапион с запальчивостью отвечал: «Волен я в своем чернеце, а князь Федор волен в своем монастыре, хочет – жалует, хочет – грабит». По соборному определению, Иосиф был разрешен от владычнего запрещения и ему послано благословение священнодействовать. А Серапион лишен святительского сана и заключен в монастырь (сначала Андроников, потом Троице-Сергиев). Но дело тем не кончилось.
Серапион написал оправдательное послание, обращенное к митрополиту и направленное против Иосифа. В Новгороде он успел приобрести расположение граждан, и там о нем сожалели; в самой Москве многие приняли его сторону и считали волоцкого игумена неправым в этом деле. Так думали даже некоторые приверженцы последнего из среды бояр; они смущались помянутым его отлучением и высказывали желание, чтоб он просил прощения у своего бывшего владыки. Тогда Иосиф некоторым таким боярам (например, Ивану Ивановичу Третьякову-Ховрину и Борису Васильевичу Кутузову) написал пространные и энергичные послания, в которых вновь разбирал всю историю своего спора с архиепископом; обвинял его в гордости и непокорности высшим властям; доказывал, что Серапион неправильно отлучил его, не дав ему никакого суда, и что по правилам Св. Отцов самый суд над священником должен совершаться вместе с другими епископами. Тут же Иосиф коснулся и вообще неприкосновенности монастырских имуществ. Этот вопрос затем он развил в особом сочинении «О грабителях церкви». Неприкосновенность церковных имуществ он старался доказывать не только ссылками на примеры библейской и церковной истории, на канонические правила и узаконения греческих императоров, но также ссылками на жития святых или собственно на их чудеса. Здесь он рассказывает о разных карах, которым подверглись святотатцы, поднимавшие руку на церковную собственность. Особенно грозный пример кары он приводит из жития Стефана Сербского: один князь хотел ограбить обитель этого святого; но во сне явился ему сам Стефан и так избил нечестивца, что после того все тело его сгнило заживо. А в примере передачи монастырей в «великое государство» от обиды удельных князей он указывает некоторые случаи, бывшие при Василии Темном и Ионе митрополите. Эти красноречивые послания, в свою очередь, сильно задели противников монастырского землевладения, и Вассиан Патрикеев отвечал на них целым рядом полемических рассуждений, исходивших совсем из другой точки зрения. Между тем как Иосиф держался оснований исторических и канонических, Вассиан стоял на почве строго евангельской и нравственной. Этот последний, кроме того, по примеру своего учителя Нила Сорского критически относился к ссылкам своего противника на жития святых, особенно на сказания об их посмертных чудесах, вошедшие в позднейшие редакции житий, и старался отыскивать древнейшие, более краткие и менее украшенные редакции. Поэтому Иосиф обвиняет его и Нила Сорского в том, что они не верят чудесам русских святых и «изметают их от писания». Вассиан отвечал, что Нил не выкидывал чудес, а только исправлял их с «правых списков». «И ты, Иосиф, лжешь на него как человеконенавистник», – прибавляет он.
По всем признакам, литературная полемика таких видных противников немало занимала умы современников и оживляла борьбу партий при великокняжьем дворце. Сам великий князь, без сомнения, с интересом следил за их спором. Однако он не повторил попытки своего отца к отобранию церковных имуществ на государственные нужды (он не сделал этого также при взятии Пскова, Смоленска и Рязани). Легко было на нравственных основаниях отрицать некоторые порядки, сложившиеся исторически, но трудно было бы привести эти отрицания в дело. Государственная власть опасалась затрагивать материальные интересы самого могущественного своего союзника – церковной иерархии. Иосиф Волоцкий в своих сочинениях являлся не только горячим сторонником этого союза, но также красноречивым поборником возникавшего московского самодержавия; тогда как в рассуждениях Вассиана ясно проглядывали симпатии к отживающей старине с ее удельно-дружинным или княжеско-боярским строем. Сочувствие великого князя поэтому клонилось более на сторону Иосифа, хотя он продолжал оказывать расположение Вассиану. Этот князь-инок, «высокоумный», «высокошиявый» и «велехвальный», по выражению своих противников, проповедует бедность и нестяжательность для монахов, сам, однако, если верить местному монастырскому преданию, жил в Симонове привольно, как истый боярин. «Он, – говорит это предание, – не любил ржаного хлеба, щей, свекольника, каши и промозглого монастырского пива, но питался сладкими кушаньями, иногда с великокняжеского стола, а пил нестяжатель романею, мускатное и ренское вино». В самом тоне его полемики слишком высказывался высокомерный боярин; такой тон отнюдь не соответствовал тому евангельскому учению, которого он хотел быть последователем, тем гуманным отношениям к ближнему и той веротерпимости, которые он проповедовал. Этот тон и само положение Вассиана Патрикеева еще более возвысились по кончине митрополита Симона (1511 г.), которому преемником великий князь назначил симоновского архимандрита Варлаама, бывшего приятелем Патрикеева и сторонником аскетического направления заволжских старцев. Самый выбор Варлаама, вероятно, произошел не без влияния князя-инока. Однако и волоцкий игумен до конца сохранил свое значение и милость державного. По смерти бездетного князя Федора Борисовича Волоцкого удел перешел к великому князю (1513 г.), и последний стал ездить туда на охоту, причем посещал обитель Иосифа. Но спустя два года знаменитый игумен скончался, завещав свою обитель непосредственным попечениям государя.
С кончиной Иосифа Волоцкого противники его получили еще большую силу. Мало того, вскоре они нашли себе уважаемого союзника в лице известного ученого монаха Максима Грека.
Максим был родом из албанского города Арты, сын достаточных родителей. В молодости, по примеру многих своих соотечественников, он отправился в Италию, где тогда совершалось возрождение наук и искусств, и здесь докончил свое образование под руководством лучших учителей. Воротясь на родину, он постригся в монашество и поселился на Афоне, в Ватопедском монастыре, где, пользуясь обширной монастырской библиотекой, усердно занимался изучением отцов церкви и вообще богословской литературой. Однажды прибыли на Афон посланцы Василия III с обычной милостыней и с грамотой о присылке к нему сведущего монаха для греческих книг и для разбора богатого собрания греческих рукописей в великокняжьей библиотеке. Выбор старцев пал на Максима. Когда он с двумя другими иноками приехал в Москву (в 1518 г.), то первым делом, порученным ему, был перевод Толковой Псалтыри. Он еще не успел освоиться с русским языком; поэтому в помощь ему дали двух известных толмачей, Димитрия Герасимова и Власия, знавших латинский язык и уже ездивших послами к разным дворам. Толмачи находились при нем по очереди; Максим словесно переводил с греческого на латинский; а они с латинского переводили по-русски и диктовали двум писцам (Михаилу Медоварцеву и троицкому монаху Силуану). В то же время он разбирал великокняжескую библиотеку и делал опись книгам. Окончив перевод Псалтыри и щедро за него награжденный, Максим просил отпустить его обратно на Афонскую гору. Но великий князь и митрополит Варлаам, отпустив товарищей Максима, самого его удержали в Москве и поручили ему кроме переводов еще исправление разных богослужебных славянских книг, в которые вкралось от времени много ошибок и неточностей сравнительно с подлинниками. В Москве очень хорошо оценили ученые достоинства этого афонского инока и оказывали ему внимание и почет.
Максим был помещен сначала в Чудов монастырь, а потом в Симонов, где он скоро и близко сошелся с Вассианом Патрикеевым. Последний, под влиянием своей борьбы против монастырского землевладения, около того времени, с благословения митрополита Варлаама, принялся за составление новой редакции Кормчей книги, чтоб очистить ее от разных противоречий; так, по одним статьям выходило, что инокам запрещается владение селами, а по другим – разрешается. Теперь же с помощью своего нового приятеля, то есть Максима Грека, Вассиан убедился, что действительно в славянских переводах греческого Номоканона неправильно употреблялось слово «монастырские села» со значением населенных мест; тогда как в греческом тексте разумелись тут просто поля и подгородние дачи. После того князь-инок стал называть эти древние славянские правила о монастырских селах «кривилами», а не правилами, и еще с большей, чем прежде, резкостью нападать на монастырское владение вотчинами (хотя в Византийской империи монастыри, несомненно, владели и населенными местами). Максим Грек в этой полемике решительно стал на сторону Вассиана и заволжских старцев. Он написал несколько трактатов по сему предмету. Особенно любопытны рассуждения его, представленные в виде умной, спокойной беседы двух лиц: Филоктимона (любостяжателя) и Актимона (нестяжателя). Кроме того, Максим вооружался против некоторых распространенных на Руси суеверий к астрологии и против священных повестей апокрифического характера, доказывая их несогласие со Святым Писанием (например, так называемая Афродитианова повесть о Рождестве Христове). Вообще, ученый Грек, Вассиан Патрикеев и митрополит Варлаам в это время составляли род церковного триумвирата. Но этот последний существовал недолго. Аскетическое направление митрополита, его неугодливость в отношении светской власти и его обычай печаловаться за опальных и несчастных нередко ставили его в натянутые отношения к великому князю. Неизвестно, что именно послужило поводом к его низложению, знаем только, что Василий удалил Варлаама в один дальний монастырь, а преемником ему назначил человека иного направления, одного из учеников Иосифа Волоцкого, из «иосифлян», как их называли противники, именно Даниила (1522 г.). Этот Даниил, прозванием Рязанцев, прошел в Волоцком монастыре строгую школу его основателя, отличался любовью к книжным занятиям, трудолюбием и гибким, вкрадчивым умом. Перед своей кончиной Иосиф поручил братии самой выбрать себе игумена, и выбор ее пал на Даниила. Умирающий игумен благословил своего преемника. При последующих посещениях монастыря великим князем Даниил сумел приобрести его расположение, а теперь, несмотря на свои еще далеко не старые годы, занял архипастырскую кафедру. С его возвышением немедленно стала усиливаться и вся партия иосифлян. Между прочим, Даниил стал проводить их на епископские кафедры; так два близких родственника Иосифа Волоцкого, Акакий и Вассиан Топорков, возведены в сан епископа, первый Тверского, второй Коломенского.
Несмотря на изменившиеся обстоятельства, Вассиан Косой и Максим Грек продолжали действовать в прежнем духе и, разумеется, сильно возбудили против себя нового митрополита. Первой жертвой его неудовольствия сделался Максим. Этот иноземец, недостаточно понимая людей и отношения, среди которых ему пришлось теперь жить, слишком подчинился неприязненным воззрениям своего друга Вассиана на московские порядки, церковные и политические, и, увлекшись авторитетностью своего высшего образования, принялся писать разные обличительные рассуждения, направленные не только против корыстолюбия и распущенных нравов русской иерархии и русского монашества вообще, но и против некоторых архиереев и самого митрополита. Например, в своем слове против лихоимства он обличает какого-то высшего духовного сановника, который «безпощадно пьет кровь из убогих людей своими лихвами и всякими несправедливостями, а сам разъезжает по городу на великолепных конях в сопровождении многих слуг, разгоняющих народ криком и бичами. Долгими молитвами и черною власяницею он прикрывает свою страсть к сладким яствам и питиям и к дорогим одеждам». В таком обличье видели намек на митрополита Даниила, который, по словам Герберштейна, будучи возведен на высший духовный сан еще в цветущих летах, будто бы всякий раз, являясь перед народом, окуривал свое лицо серным дымом, чтобы сделать его более бледным, то есть более постным. Не ограничиваясь духовенством, Максим направлял свои обличения также против гражданского управления, против лихоимства, хищений и грабительства властей. Мало того, он неосторожно беседовал с некоторыми опальными боярами насчет особы государя, дружил бывшему в Москве турецкому послу (Скиндеру, родом греку), враждебно настроенному против России, и тому подобное.
В числе чиновных лиц, посещавших Максима, преимущественно ради его просвещенной книжной беседы, и читавших его послания или «тетрадки», был и старик Иван Берсень-Беклемишев, находившийся тогда в царской опале. Очевидно, он принадлежал к старой боярской партии, недовольной новыми порядками, то есть усилившимся самодержавием: великий князь хотя и собирал боярскую думу для совещания о государственных делах, но, в сущности, все дела уже заранее решал в тесном кругу своих советников, которых выбирал в особенности из ближних дворцовых чиновников и дьяков. Он не любил слышать противоречия со стороны бояр. Берсень был умный человек, но именно отличался грубой прямотой. Раз он заспорил с государем по поводу смоленских дел. Василий Иванович разгневался и сказал ему: «Поди прочь, смерд, ты мне не надобен». Его отставили от должности и отняли у него городской двор, в котором и поместили супругу Шемячича, бывшего северского князя. Опальный Берсень приходил к Максиму Греку и горько жаловался ему на свое тяжкое положение и на то, что некому за него печаловаться перед государем. Хотя Максим в таких случаях высылал своих домашних и сидел с Берсенем наедине, однако правительству донесли об их беседах. В них участвовал еще опальный дьяк Федор Жареный. По-видимому, донос был сделан одним из келейников Максима. Зимой 1525 года наряжено было следствие. Допросили Берсеня, Жареного и Максима Грека. Последний все рассказал откровенно; а первые сначала заперлись, но потом на очных ставках повинились в своих тайных беседах.
Приведем некоторые выдержки из следственного дела, чтобы показать, какого характера были подобные беседы.
«– Был ли ты сегодня у митрополита? – спрашивает Максим пришедшего к нему Берсеня.
– А я не ведаю, есть ли митрополит на Москве, – молвил Берсень.
– Как так? Митрополит на Москве Даниил.
– Не ведаю, митрополит ли он или простой чернец: учительного слова от него никакого нет и ни о ком не печалуется; а прежние святители сидели на своих местах в мантиях и печаловались государю о всех людях. А тебя, господине Максиме, взяли из Святой Горы, да от тебя какую пользу взяли?
– Я, господине, сиротина, какой от меня пользе быть?
– Ты человек разумный и можешь нас пользовать. Нам было бы пригоже тебя спрашивать, как государю устроить свою землю и как людей жаловать и как митрополиту жить?
– У вас, господине, книги и правила есть, можете устроиться (сами), – уклончиво отвечал Грек. Однако иногда не удерживался и прибавлял такие слова о великом князе: – Пойдет государь к церкви, вдовицы плачут и за ним идут, и они их бьют. И я за государя молил Бога, чтобы государю Бог на сердце положил и милость бы ему над ними показал».
Берсень жаловался на Василия Ивановича и его покойную мать в таких выражениях:
«– Добр был отец великого князя Василия, великий князь Иван, и до людей ласков; пошлет кого на которое дело, и Бог с ним, а нынешний государь людей мало жалеет. Дотоле земля Русская жила в тишине, да в миру. А как пришла сюда мать великого князя Софья с вашими греки, так наша земля замешалась и пришли нестроения великие, как и у вас в Царьгороде при ваших царях.
– Господине, – молвил на это Максим, – великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого, по отце царей наших, а по матери великаго дукса (герцога) Феррарского. (В иной же раз просто выразился, что по отцу она христианка, а по матери латынка.)
– Какова бы ни была, а к нашему нестроению пришла, – горячился Берсень. – Ведаешь и сам, господине, и мы слыхали у разумных людей; которая земля переставливает обычаи свои и та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, ино на нас которого добра чаяти?
– Которая земля переступает заповеди Божии, та от Бога казни чает; а обычаи царские и земские государи переменяют (смотря по тому) как лучше их государству, – вставил Максим.
– Однако лучше старых обычаев держаться, людей жаловать, а стариков почитать; ныне же государь наш запершись сам-третей у постели всякие дела делает, – продолжал сетовать Берсень. – Подворье у меня в городе отнял, из Новгорода Нижнего людей велел распустить и сына моего там одного оставил. А ныне отовсюду-то брани, ни с кем нам миру нет, ни с Крымом, ни с Казанью, все нам недруги, а все наше нестроение».
В другой раз Берсень, заговорив с Максимом о том, что великий князь не отпускает его обратно на Святую Гору, объяснил этот поступок опасением, чтобы он, узнав здесь все наши дела, «добрая и лихая», не стал бы о них там рассказывать.
«Государь наш упрям, – прибавлял Берсень, – и встречи против себя не любит: кто ему на встречу говорит, он на того опаляется; а отец его против себя встречу любил и тех жаловал, которые против его говорили».
В том же роде были разговоры Максима и Берсеня с дьяком Жареным.
«– Добыл себе печальника? – спросил его Максим.
– Нет, не добыл, – отвечал Жареный. – А государь у нас пришелся жестокий и немилостивый».
Когда великий князь, после основания города Васильсурска на границе с Казанской землей, возвращался из Нижнего Новгорода в Москву, бояре и дьяки стояли и ждали государева въезда в город. При этом Берсень заметил Жареному: «И зачем великий князь ходил в Нижний? Поставил лукно на их (Казанской) стороне, то как же мир с ними взять? Ставил бы лучше город на своей стороне». По тому же поводу Берсень рассказал Жареному свой разговор с митрополитом.
«Сижу я у митрополита один на один, и митрополит воздает великому князю большую хвалу за то, что город поставил, которым городом всю Казанскую землю возьмет. „Бог его избавил от запазушного врага“, – говорит. Спрашиваю: „Кто это запазушный враг?“ – „Шемячич“, – молвил митрополит. А сам забыл, как Шемячичу грамоту писал за своею печатью, клялся ему образом Пречистыя, чудотворцами, и на свою душу взял».
В подобных откровенных разговорах ясно отражаются настроения недовольной части общества, личные счеты и те пересуды, каким подвергалось правительство со стороны этих недовольных. Они сетовали на тяжести службы и не хотели видеть трудного положения московских правителей, одновременно доканчивавших великое дело объединения Руси и ведших непрестанную борьбу с внешними врагами. Все общественные бедствия, свои частные невзгоды и уже давший себя чувствовать железный скипетр самодержавия они готовы были объяснять только личными качествами государя и влиянием его матери, давно умершей; причем и суровый Иван III в отдалении представлялся им гораздо более ласковым и милостивым, чем был в действительности. Даже в таком полезном деле, как основание нового опорного пункта для борьбы с казанцами, высказывалось охуление, почему город поставили на правом, а не на левом берегу Суры.
Тем не менее жалобы на недостаток печалования и немилосердие Василия Ивановича в данном случае оправдались. За нескромные речи о государе Берсеню Беклемишеву отрубили голову на Москве-реке, а Федору Жареному вырезали язык.
По сему делу Максим Грек оказался виновен в том, что слушал подобные речи, причем обнаружились его дружеские связи с лицами, противными великому князю и митрополиту. И митрополит, и великий князь имели с ним личные счеты по поводу его обличительных посланий; кроме того, намерение Василия III развестись со своей неплодной супругой и жениться на другой встретило неодобрение со стороны Грека, столь авторитетного в канонических вопросах. Почти вслед за помянутой казнью начался суд над Максимом, для чего происходили частые соборы духовенства то во дворце государя, то в палатах митрополита. Его обвиняли в сношениях с врагами России (турецким послом), в осуждении русских церковных уставов и книг, в охулении русских чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия, Кирилла и других за то, что они держали волости и села, собирали оброки и пошлины. Обвиняли его даже в разных ересях при переводе книг; чему подали повод некоторые неточные выражения, происшедшие от его недостаточного знакомства с русским языком. Суд кончился тем, что Максима сослали в Иосифов Волоколамский монастырь, где держали его в строгом заключении, в голоде и холоде, и запрещали ему что-нибудь писать и сочинять. Однако, твердый в своих убеждениях, Максим не признавал себя виновным и вопреки запрещению продолжал сочинять обличительные послания (или «тетради»). Митрополит Даниил, со своей стороны, не успокоился до тех пор, пока Максима, спустя шесть лет, не подвергли новому соборному суду. Тут выставили против него те же обвинения с прибавлением некоторых новых ересей, то есть ошибок, отысканных в его переводах и грешивших против догматов о Пресвятой Деве Марии и о Святой Троице. Его вновь осудили и заточили на сей раз в тверской Отроч монастырь (1531 г.).
После первого суда над Максимом Греком его друг Вассиан Косой еще сохранял, по-видимому, расположение великого князя. Но когда совершились развод и новый брак Василия Ивановича, Патрикеев относился к ним очень неодобрительно, чем и охладил к себе государя. После рождения сына и наследника Васильева митрополит воспользовался обстоятельствами и настроением государя и добился того, что вслед за вторым осуждением Максима был назначен соборный суд над Вассианом (именно в мае того же 1531 г.). Главным обвинительным пунктом против него послужила помянутая выше Кормчая, которую он «дерзнул» переправлять по-своему; причем осуждал некоторые прежние правила и называл их «кривилами», а русских чудотворцев осмелился называть «сумотворцами» за то, что они при своих монастырях имели села и крестьян. Князь-инок не смирился перед судьями и держал себя с обычной своей гордостью. Так, когда ему указали примеры древних иноков, которые хотя и владели селами, однако успели угодить Богу, он заметил: «Те села держали, но пристрастия к ним не имели». На вопрос митрополита, почему же он думает, что новые чудотворцы были пристрастны к селам, Вассиан дерзко отвечал: «Не ведаю, чудотворцы ли то были». Тут речь шла собственно о митрополите Ионе и Макарии Калязинском, коих канонизация в то время еще не получила окончательной, общепризнанной формы. Когда митрополит напомнил Вассиану его резкие отзывы о Макарии, тот заметил: «Я его знал; простой был человек; а чудотворец ли он, пусть будет как вам любо». Отвечая на упреки митрополита за разные неканонические изменения в его списке Кормчей, Вассиан прибавил: «А буде что негораздо, и ты исправи». Наконец, его обвинили в той же ереси против догмата о Пресвятой Деве, как и Максима Грека, ибо при переводе сим последним Метафрастова жития Богородицы Вассиан участвовал в неправильном истолковании некоторых важных мест. Собор осудил Вассиана и заточил его в тот самый монастырь, с которым он наиболее враждовал, то есть в Иосифов Волоколамский. Там он вскоре и умер, вероятно вследствие тяжелых лишений и сурового обращения своих надсмотрщиков.
Так трагически окончилась при Василии III эта борьба монастырских нестяжателей с их противниками. Последние стояли за такой монастырский строй, который складывался постепенно в течение веков; они стояли также за исторически развивавшееся самодержавие и, естественно, нашли в нем могучего покровителя. А нестяжатели, проповедуя евангельские отношения, в то же время защищали некоторые старые, отжившие порядки. Вассиан Косой, как поборник древних дружинно-боярских притязаний на ограничение княжеской власти, является прямым предшественником знаменитого князя-боярина Андрея Курбского12.
Немалую долю в опале Максима Грека и Вассиана Косого играло их неодобрение разводу великого князя с супругой.
Василий Иванович очевидно сознавал государственную важность прямого престолонаследия от отца к сыну. В этих видах он не позволял своим родным братьям жениться, пока сам не был еще обеспечен в своем прямом потомстве. Вообще, он братьев своих держал под строгим присмотром, и когда они жили в своих уделах, то в числе их окружавших находились, которые доносили великому князю не только об их поступках, но и обо всех подозрительных разговорах. Таким образом, предупреждаемы были всякие попытки к какой-либо крамоле или к тайным сношениям с королем Польско-Литовским. Двое из братьев, Семен и Дмитрий, умерли (первый в 1518 г., второй в 1521 г.). Оставались в живых еще двое: Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. К немалому огорчению Василия, более чем двадцатилетнее его супружество с Соломонией Сабуровой было бездетно, и великокняжеский престол после него должен был перейти к брату Юрию. Согласно с обычаями и суевериями той эпохи, Соломония тайно обращалась к знахарям и знахаркам, испытывала разные их средства, чтобы получить детей и сохранить любовь мужа, но ничто не помогало.
Одно летописное сказание изображает сетование великого князя в следующей поэтической форме. Однажды, во время объезда по своему государству, он ехал на позлащенной колеснице, окруженный телохранителями, и, посмотрев наверх, увидел на дереве птичье гнездо. «Горе мне! – воскликнул он. – Кому уподоблюсь? ни птицам небесным, ни зверем земным, ни рыбам, все они плодовиты суть. – И, посмотрев на землю, прибавил: – Господи! и земле сей не уподобился я, ибо земля во всякое время приносит свои плоды и благословляет Тебя». Осенью, воротясь из объезда в Москву, он начал думать с боярами о неплодии великой княгини и говорил со слезами: «Кому по мне царствовать на Русской земле? Братьям ли? Но они и своих уделов не умеют устроить». Некоторые угодливые бояре, понимая его желание, отвечали на это: «Великий государь! неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда».
Но развод был делом необычайным на Руси и почитался грехом против церковных уставов. Вероятно не без связи с таким намерением великого князя совершилась перемена митрополита: вместо строгого, неуступчивого Варлаама поставлен Даниил, явившийся усердным исполнителем желаний Державного. Однако не вдруг приступили к осуществлению данного намерения; сначала обратились, по-видимому, за советом и разрешением к восточным патриархам и на афонские монастыри. Но оттуда получили неодобрительные ответы. Тогда митрополит Даниил собственной властью разрешил развод. Тщетно Соломония не соглашалась сделаться монахиней; в ноябре 1525 года ее силой привезли в московский Рождественский монастырь; сам митрополит обрезал ей волосы; надели на нее монашескую мантию, или куколь, и постригли под именем Софьи; после чего ее отвезли в Суздаль и заключили там в женском Покровском монастыре. А в январе 1526 года «о свадебницах» (время свадеб, от святок до Масленицы) великий князь вступил в новый брак, с племянницей известного литовско-русского выходца князя Михаила Глинского Еленой, дочерью его, тогда уже умершего, брата Василия. Венчал их сам митрополит. Вообще, эта свадьба сопровождалась всей царской пышностью и теми многочисленными народными обрядами, которые в те времена на Руси были в полной силе, каковы: тысяцкий, дружки, свахи, опахивание жениха и невесты соболями, осыпание хмелем из золотой мисы, иконы с тафтяными убрусами, которые по концам были сажены жемчугом, бархатные и атласные платки, ширинки, камки подножные, золотые и серебряные деньги, калачи, перепечи и сыры, караваи и свечи, поставленные в кад с пшеницей, постель на ржаных снопах, кормление новобрачных жареным петухом и кашей; государев конюший (князь Федор Васильевич Телепнев), всю ночь разъезжавший с обнаженным мечом вокруг подклети или спальни, и так далее. Тысяцким на свадьбе был брат государя Андрей; роли дружков с обеих сторон исполняли знатнейшие бояре, а обязанности свах – знатные боярыни.
Однако многие современники не одобряли развода с Соломонией и второго брака Василия; ропот их нашел отголосок у самих летописцев. На Соломонию смотрели как на невинную жертву насилия. Сложилась даже легенда, будто во время своего пострижения она оказалась беременной и потом произвела на свет сына, по имени Георгия. Она прожила в монастырском заключении еще целые семнадцать лет. Меж тем Василий выказывал большую привязанность к своей молодой супруге, вероятно кроме миловидной наружности владевшей более утонченными манерами, чем московская женщина того времени. Желая нравиться ей, великий князь, которому было под пятьдесят лет, сбрил бороду, вопреки господствовавшему великорусскому обычаю. По просьбе Елены он велел освободить из заключения ее дядю, Михаила Глинского, который вновь занял почетное положение при его дворе. Однако, к немалому огорчению Василия, первые годы его второго супружества оставались бездетными; великий князь с супругой начали усердно ездить по монастырям; раздавали щедрую милостыню и молили угодников о своем чадородии. Наконец Бог услышал их молитвы: в августе 1530 года родился у них сын Иоанн, будущий Грозный царь. Обрадованный Василий повез младенца в Троицкую лавру, и там окрестили его у гроба св. Сергия; восприемниками его от купели были два известных подвижника: столетний старец Касьян Босой и игумен Даниил Переяславский. При сем великий князь положил новорожденного на самую раку преподобного, как бы отдавая его под защиту прославленного заступника и покровителя московских князей. А для мощей двух других московских угодников, св. митрополитов Петра и Алексея, он заказал отчеканить новые богатые раки, для первого золотую, для второго серебряную. Кроме того, он снял опалу с некоторых провинившихся бояр, простил многих заключенных в тюрьмах, оделил многих бедных, и вообще ознаменовал свою радость разными делами милосердия и благотворения. В следующем году Елена родила второго сына, Георгия. Тогда великий князь, обеспеченный в собственном потомстве и прямом престолонаследии, разрешил младшему брату Андрею вступить в брак и женил его на княжне Хованской. От этой эпохи до нас дошло несколько писем великого князя к Елене, написанных во время его отсутствия в Москве. В них ясно обнаруживается его любовь и заботливость о жене и детях, особенно о старшем. Между прочим, жена уведомила его, что у малютки Ивана показался на шее веред. Василий встревожился и засыпал жену вопросами о том, что это такое, давно ли, бывает ли у других детей и тому подобное. Он поручает ей расспросить опытных боярынь и подробно ему обо всем отписать13.
В деле украшения и укрепления столицы с помощью иноземных мастеров Василий III усердно продолжал начатое его отцом. Так, по его приказанию, известный уже мастер Алевиз Фрязин обложил кирпичом и камнем ров, шедший вокруг городской стены, и привел в лучший порядок прилегавшие пруды. Около того же времени была окончена постройка кирпичного великокняжеского двора, смежных с ним Архангельского и Благовещенского соборов. Последний покрыт позолоченной кровлей и внутри расписан иконами на золотом поле (1508 г.). Тогда же мастер Бон Фрязин окончил церковь Иоанна «под колоколами» (где Ивановская колокольня). Вероятно, для этой колокольни, в конце Васильева царствования, мастер Николай Немчин слил колокол «большой благовестник» в тысячу пудов; но помещен он был на особой «деревянной колокольнице». Вновь перестроен каменный придворный храм Спаса Преображения. Кроме того, при Василии воздвигнуто в Москве более десяти каменных церквей (Введенская на Большом посаде или в Китай-городе, Рождественская за Неглинной, Благовещенская на Ваганьковском, Алексеевская в Девичьем монастыре за Черторыей и пр.), и все они построены тем же архитектором Алевизом Фрязиным. Тот же Алевиз, по-видимому, был и пушечным мастером. Летопись сообщает, что на Алевизовом дворе, где приготовляли пушечное зелье (порох), на Успенском враге, однажды произошел пожар, причем погибло более 200 рабочих (1531 г.). Великий князь строит каменные храмы в подгорных своих селах, например в Воронцове – Благовещения, а в Коломенском – Вознесения. При Василии же основан под Москвой известный Новодевичий монастырь. Укрепляя столицу, Василий заботился и о других важных пунктах, особенно оборонявших крепости в Туле, Коломне, Зарайске, Нижнем (в последнем строит Петр Фрязин), а деревянные в Чернигове, Кашире и прочих.
Меж тем как каменное храмовое зодчество находилось пока в руках иноземцев, внутреннее храмовое украшение или иконопись продолжала развиваться как художество вполне русское. При Василии было окончено фресковое расписание знаменитого Успенского собора. А помянутое выше расписание Благовещенского было совершено мастером Феодосием Денисьевым с братией (кажется, сыном Дионисия, известного иконника времен Ивана III). Очищенные недавно от позднейших наслоений, фрески этого собора свидетельствуют о значительном процветании иконописного искусства в то время. Любопытны, между прочим, известия летописей о поновлении некоторых наиболее чтимых икон стараниями митрополита Варлаама, который сам не был чужд иконописному художеству. Во-первых, по его совету и благословению, государь разрешил поновить знаменитый образ Владимирской Божьей Матери и велел устроить для него новый киот, украшенный золотом и серебром (1514 г.). Затем великий князь велел принести из Владимира древние иконы Спаса и Богородицы, от времен обветшавшие. Митрополит с духовенством и народом встретил их на Посаде и с молебствием проводил в Успенский собор. (Государь тогда отсутствовал в Москве.) Потом Варлаам велел поставить их в своих палатах и поновлять, причем помогал иконникам собственными руками (1518 г.). Для сих икон также устроили новые драгоценные ризы, пелены и киоты. В следующем году св. иконы были отпущены обратно во Владимир с такой же торжественностью, как и встречены. Государь с боярами сам проводил их за Андроников монастырь.
При Василии встречаем в столице начало полицейских порядков. Так, ночью, после урочного часа, воспрещалось без особой нужды ходить по известным улицам, для чего они заграждались рогатками, при которых стояла стража. Подобная же картина была принята и в Новгороде Великом (в 1531 г.) вследствие пожаров, сопровождавшихся сильными грабежами. Когда там по всему городу поставили решетки и учредили пожарную стражу, то эта мера много способствовала водворению спокойствия и прекращению грабежей. Василий подтвердил запрещение отца относительно пьянства и вольной продажи меда, пива и вина; но так как запрещение это не распространялось на великокняжеских телохранителей, то он выстроил для них за рекой особую часть города, которая названа Наливки (от слова «наливай». Так объясняет это название Герберштейн)14.
Большие успехи сделало при Василии III развитие московского придворного строя, то есть умножение чинов, должностей и обрядности; в чем, кроме установившегося единодержавия и самодержавия, немалую долю влияния имели византийские предания, подкрепленные матерью великого князя и приехавшими с ней греками. Встречаем некоторые придворные звания, о которых прежде не упоминалось, например стряпчих, ведавших царскую одежду, рынд или нарядных телохранителей, крайних, оружничих, ясельничих (ведавших конский прибор), постельников, шатерников и прочих. Своеобразная роскошь и строгая обрядность московского двора в ту эпоху стали обращать на себя внимание иноземцев, в особенности западноевропейских послов, которым приходилось близко наблюдать и на самих себе испытывать наши придворные порядки и обычаи. Любопытное описание некоторых таковых обычаев находим в сочинении о Московском государстве известного германского посла Герберштейна, дважды посетившего наше отечество.
Навстречу послу перед его первым прибытием в Москву выехал знатный боярин. Последний при сем строго соблюдал достоинство своего государя и, например, не выходил первый из саней или не слезал с лошади, а ждал, пока это сделает прибывший посол. Герберштейн, заметив, какую цену москвитяне придают всем подробностям встречи, также захотел поддержать достоинство своего государя, начал спорить и потом прибег к хитрости: он вынул ногу из стремени, делая вид, что слезает с лошади. Боярин тотчас сошел на землю, но тут с досадой заметил обман противника. Скрыв досаду, он подошел с непокрытой головой и от имени своего государя спросил посла, подобру ли поздорову приехал, произнеся предварительно полный царский титул (великий государь Василий, Божьей милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский и пр.).
Во время второго приезда барона Герберштейна он, как известно, имел товарищем своим графа Леонара Нугароля. За полмили от Москвы их встретил старый дьяк, ездивший с посольством в Испанию, объявил, что для почетного приема им назначены от государя большие люди, и предупредил, что при свидании с ним надобно сойти с лошадей и стоя слушать государевы слова. Старик был покрыт потом и казался в больших хлопотах; на вопрос Герберштейна о причине сего он отвечал: «Сигизмунд, у нас государю служат иначе, чем у вас». В Москве барон и граф получали содержание, назначенное для германских послов (для литовских и других определялось оно в ином размере); им и их свите ежедневно доставлялись пища и напитки; последние состояли из разных сортов меда и пива. Когда назначен был день торжественного приема, за послами явилось несколько важнейших сановников в сопровождении большой свиты из дворян. По тем улицам, где проезжали послы, стояли толпы народа, которые становились гуще по мере приближения к Кремлю, так что за теснотой поезд едва пробрался в кремлевские ворота. Дело в том, что по распоряжению правительства в такой день народ сгоняли сюда со всех сторон, запирались лавки и мастерские, чтоб удивить иностранцев своим многолюдством, а следовательно, и могуществом. Посольство прошло посреди воинов, туземных и наемных, наполнявших Кремлевскую площадь, и должно было сойти с коней, еще не доезжая до дворцовой лестницы, ибо сходить с лошади подле нее мог только один великий князь. На лестнице и в первых комнатах дворца послов встречали бояре, чем далее, тем более знатные; они подавали правую руку и здоровались. В приемном покое находился великий князь с братьями и думными боярами. Он сидел с открытой головой на возвышении подле стены, на которой висел образ в богатом окладе; справа на скамье лежала меховая шапка или колпак, а слева посох с крестом и таз с двумя рукомойниками и положенным на них полотенцем (для омовения руки после прикосновения к иноверцам). После установленных приветствий послов посадили на скамью против великого князя; при посредстве толмача они сказали свою речь. Государь вставал и спрашивал: «Брат наш, Карл, избранный император Римский и наивысший король, здоров ли?» Граф Нугароль ответил: «Здоров». Тот же вопрос повторился о Фердинанде, на что отвечал Герберштейн. Потом Василий давал руку послам и спрашивал об их собственном здоровье.
По окончании сей аудиенции государь пригласил послов к своему столу. Когда их ввели в обеденную залу, великий князь и бояре уже сидели за столами, которые были расставлены вокруг залы; посредине находился поставец, обремененный золотыми и серебряными чашами и кубками. Государь сидел за особым столом, ближе к нему помещались его братья, за ними следовали бояре и другие придворные люди, по степени своей знатности и милости государевой. Послов посадили также за особым столом, насупротив великого князя. На столах были расставлены солонки, уксусницы и перечницы. Перед началом обеда великий князь, если хотел оказать кому почет, посылал хлеб, а еще высший почет означала посылка от него соли. Во время обеда он посылал со своего стола некоторым лицам, в том числе послам, блюда с кушаньями, причем надобно было каждый раз вставать и кланяться на все стороны, что немало утомляло послов. За обедом первым блюдом в мясоед подавались жареные лебеди и журавли. Приправой к кушаньям служили сметана, соленые огурцы и моченые груши, которые не снимались со стола во время обеда. В начале обеда пили водку, а потом подавали мальвазию, греческое вино и разные меды. Государь пил за здоровье послов и, так же как кушанья, посылал от себя напитки. Кубки и вообще посуда, которую здесь видели послы, казались сделанными из дорогих металлов и даже из чистого золота. Служители, разносившие кушанья и напитки, одеты были в нарядные кафтаны или так называемые «терлики», украшенные жемчугом и дорогими камнями; а прежде (до Василия) они одевались проще, наподобие церковных прислужников. Обед продолжался несколько часов. По окончании его, однако, не окончилась попойка. Те же чины, которые провели послов во дворец, проводили их домой и тут принялись снова угощать их напитками, стараясь напоить допьяна. В этом отношении, по замечанию иноземцев, русские были большие мастера: когда истощены все другие способы убеждения, то они начинают пить здоровье великого князя, его брата и других почетных лиц, полагая, что при их имени никто не может отказаться от чаши. При сем приглашающий пить чье-либо здоровье выходит на середину комнаты с чашей в руке и говорит веселую речь с разными ему пожеланиями; опорожнив чашу, перевертывает ее и касается своей макушки, чтобы все видели, что он выпил до дна. Затем точно таким же образом должен каждый опорожнить чашу. Единственное средство избавиться от дальнейших тостов – это притвориться сильно пьяным или заснувшим.
Послы приглашены были также на великокняжью заячью охоту, которая производилась близ Москвы на одной покрытой кустарниками заповедной поляне, где в изобилии водились зайцы. Кроме того, сюда заранее приносили много зайцев из других мест и во время охоты по мере надобности выпускали их из мешков. Великий князь сидел на богато убранном аргамаке (как москвитяне называли коней турецкой породы); голова князя была покрыта колпаком с поднятыми на лбу и на затылке козырьками, на которых качались золотые пластинки наподобие перьев; на нем был род терлика, вышитого золотом; на поясе висели спереди кинжал и два ножа, а назади украшенная золотом палица с привешенным к ней на ремне медным или железным куском – оружие, употребляемое москвитянами на войне (кистень?). С правого боку у него ехал пользовавшийся особым почетом бывший казанский царь Шиг-Али с колчаном и налучником за плечами, а с левого – два молодых князя, из которых один держал секиру или топор с рукоятью из слоновой кости, другой булаву, называемую «шестопером». Число всех всадников простиралось до 300. Когда прибыли на место и началась охота, то все, не исключая и великого князя и знатных лиц, начали сами спускать каждый свою собаку; первому позволено было спустить ее Шиг-Али, а затем и всем другим охотникам. В этот раз было затравлено до трехсот зайцев. По окончании охоты великий князь со своей свитой и послами отправился к какой-то деревянной башне, подле которой были приготовлены шатры; он расположился в самом просторном из них и тут угощал всех охотников разными вареньями и печеньями, а также миндалем, орехами, сахаром и напитками. В иной раз великий князь охотился с кречетами или большими соколами на лебедей, журавлей и тому подобных птиц. Кроме того, он забавлялся иногда борьбой людей с медведями, которых содержал в особом устроенном для них дворе. Борцы (обыкновенно простолюдины) выходят против них, вооруженные деревянными вилами (рогатиной?). Получивших при сем раны государь приказывает лечить и, кроме того, награждает их платьем и хлебом. Герберштейн, между прочим, видел торжественное богослужение в Успенском соборе в самый день Успения, 15 августа, и говорит, что великий князь стоял у стены, с правой стороны у боковой двери; он опирался на посох и в одной руке держал свой колпак; его бояре стояли у колонн храма15.
Тот же наблюдательный иноземец заметил чрезвычайное развитие московского самодержавия в то время. По его словам, своей властью над подданными, равно светскими и духовными, Василий превосходил всех других монархов; никто из его советников не осмеливается противоречить ему или быть другого мнения. Подданные считают его исполнителем воли Божией и на вопрос о каком-либо сомнительном деле отвечают: «Знает Бог и великий государь». Несмотря на некоторые неудачные войны, они выхваляют его так, как будто дела шли счастливо. «Неизвестно, происходит ли такая тирания от грубости и жестокости народа, или, наоборот, эта грубость и жестокость произошли от государевой тирании», – прибавляет Герберштейн, конечно не вполне понимавший историческое развитие и смысл московского государственного строя и судивший о народе преимущественно по отзывам лиц более или менее официальных. В пример того, с какой строгостью требовалось отправление государевой службы, и часто на свой счет, он приводит одного из известных ближних дьяков, Третьяка Далматова. Великий князь назначил его послом к цесарю Максимилиану; дьяк начал говорить, что у него нет денег на дорогу. Его тотчас схватили и отвезли на Белоозеро, где он и умер в темнице; а все его имение отобрано на государя, причем найдено 3000 флоринов чистыми деньгами. Если к этому примеру присоединим судьбу помянутых выше боярина Берсеня с дьяком Жареным и Максима Грека с Василием Патрикеевым, то понятно, какими способами достигалось отсутствие противоречия (собственно оппозиции) государевой воле.
Было бы неверно и неисторично объяснять такое сильное развитие монархической власти только личной тиранией, а не всем историческим складом московской государственности. Однако, несомненно, и личные качества государей имели при сем свою, и значительную, долю влияния. Важно то, что за таким политическим деятелем, как Иван III, следовал государь, способный поддерживать его заветы и вполне воспользоваться существовавшими условиями для дальнейшего развития своей самодержавной власти. Хотя в личных талантах и правительственном искусстве Василий уступал своему отцу, но он владел замечательной твердостью характера и упорным постоянством в достижении раз намеченных целей. Это он доказал и во внутренних и во внешних делах; для примера напомним приобретение Смоленска, которого он добился после неоднократных и тяжелых неудач. Сравнивая разные неудачи и военные поражения его времени с блистательными политическими событиями при его отце, надобно также иметь в виду и различие условий, посреди которых они действовали. Ивану III приходилось иметь дело на западных пределах с такими неэнергичными противниками, как Казимир IV и сын его Александр; тогда как Василий должен был бороться с Сигизмундом I, самым крупным лицом в династии Ягеллонов. Ивану III не трудно было склонить на свою сторону Менгли-Гирея при существовании смертельной вражды между ханами крымскими и золотоордынскими; во время Василия Золотая Орда уже не существовала, и хищным Гиреям были развязаны руки с этой стороны; казанцы также получили полную возможность действовать против Москвы в союзе с крымцами. Но именно посреди трудных обстоятельств и опасностей, когда еще только складывавшееся и далеко не окрепшее государственное единство не раз должно было отстаивать себя одновременно от всех этих внешних врагов, вполне выказалась твердость Василия Ивановича, всегда верного своему царственному величию и своим правительственным обязанностям.
Государственный ум и дальновидность правителя особенно выражаются в выборе его ближайших советников и исполнителей. В этом отношении Василий очевидно не равнялся со своим отцом. Так, неудачи в войнах с литвой и татарами отчасти обуславливались малоспособностью назначаемых им воевод, и вообще он недостаточно пользовался выдвинувшимися при его отце, испытанными предводителями, каковы, например, были старый Даниил Щеня и Хабар Симский. Впрочем, в этом отношении выбор немало стеснялся обычаем боярского местничества, с которым должен был считаться и сам государь. Наиболее видные места в правительстве Василия III занимали, конечно, потомки удельных князей. Во-первых, его зять, то есть муж его сестры, князь Василий Данилович Холмский, имевший звание московского воеводы (напоминавшее прежнее звание московского тысяцкого). Но он недолго пользовался своим значением: в 1508 году князь Холмский в чем-то так сильно провинился, что великий князь велел его посадить в тюрьму, где он и умер в следующем году. После него звание московского воеводы перешло к князю Даниилу Васильевичу Щене, принадлежавшему к семье Патрикеевых, то есть к потомкам Гедиминовым. Далее видим в числе самых близких к государю бояр: князя Димитрия Ростовского, князя Василия Шуйского, потомка князей Суздальско-Нижегородских, Михаила Юрьевича Кошкина, представителя древней, чисто московской боярской фамилии, Михаила Воронцова из знаменитой фамилии тысяцких Вельяминовых, царского казначея Петра Головина (сын Головы-Ховрина). До своего поражения и плена на Орше высокое положение при дворе занимал окольничий Иван Андреевич Челяднин. В числе знатнейших бояр находились также потомки удельных князей Западной Руси, перешедшие на московскую службу, именно два брата Бельские, Димитрий и Иван Федоровичи, потомки Гедимина, Воротынский и Мстиславский. Возникший при московском дворе обычай брать клятвенные записи о неотъезде в Литву в особенности прилагался к этим литовским выходцам. Впрочем, подобная же запись в верном служении московскому государю была взята с князей Шуйских: с Василия за порукой митрополита Даниила и епископов, а с его двух родственников, Ивана и Андрея, за поручительством многих бояр в 2000 рублях. С Михаила Глинского взята клятвенная грамота с поручительством пятидесяти лиц в 5000 рублях на случай его измены.
Наиболее приближенными советниками Василия III были, однако, люди далеко не знатные, и преимущественно его дьяки. Положение самых доверенных лиц во вторую половину царствования занимали двое: один из второстепенных бояр, тверской дворецкий Иван Шигона-Поджогин и думный дьяк Меньшой Путятин. Это были любимцы и тайные советники Василия. Их-то, конечно, и разумел опальный боярин Берсень-Беклемишев, сетуя на то, что государь «запершися сам третей у постели всякие дела делае». В первую же половину княжения главным советником в государственных делах был казначей Георгий Малый, один из греков, приехавших в Россию с матерью Василия Ивановича, человек ученый и весьма сведущий в политике. По словам Герберштейна, великий князь так уважал его советы, что однажды, во время болезни Георгия, велел своим боярам принести его к себе на носилках. Георгий Малый лишился первенствующего влияния со времени дела о своем соотечественнике Максиме Греке, за которого он, по-видимому, заступался; однако и после того великий князь призывал к совету Георгия, только дал ему другую должность16.
Василий Иванович не любил долго засиживаться на одном месте и вел жизнь довольно подвижную. Зиму он обыкновенно проводил в Москве, а лето непременно за городом в своих подмосковных селах, каковы Остров, Воронцово, Воробьево, Коломенское. Кроме того, он любил ездить на богомолье в ближние и дальние монастыри и в города, известные своими святынями, например в Троицкую лавру, Кириллов монастырь, Волоцкий, Николо-Угрешский, в Переяславль, Юрьев, Владимир, Ростов, Тихвин, Зарайск и прочие. Эти путешествия соединялись иногда с обычными «объездами» своих владений (соответствующими древнему княжескому «полюдью»), а также и с охотой, которой Василий, по-видимому, был предан до страсти. Особенно любимым местом его охоты во вторую половину княжения был Волоколамский край с его Иосифовым монастырем, поступившим по смерти своего основателя на непосредственное попечение великого князя. С охотой в этом краю связана и предсмертная болезнь Василия Ивановича. В августе 1533 года случилось нашествие крымцев с ханом Саип-Гиреем и Ислам-царевичем на рязанские окраины. По отражении этого нашествия великий князь в сентябре, то есть в начале следующего, 1534 года, поехал с супругой и детьми в Троице-Сергиеву лавру помолиться угоднику, а отсюда направился к Волоколамску, чтобы там «тешиться» осенней охотой. Дорогой он занемог; причем на левом стегне у него явился небольшой, но весьма злокачественный нарыв. С трудом доехал он до Волоколамска, где его любимец тверской и волоцкий дворецкий, Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, устроил для него пир в самый день приезда, в первое воскресенье после праздника Покрова Богородицы. Как ни был болен Василий Иванович, однако на третий день после того, во вторник, не утерпел и поехал в поле с ловчими и собаками. Но тут в своем селе Колпи он окончательно слег в постель и через две недели воротился в Волоколамск, несомый на носилках боярскими детьми. Вызванные из Москвы врачи великого князя, немец Николай Булев и Феофил (вероятно, грек), начали прикладывать к нарыву пшеничную муку с медом и печеный лук, потом какую-то мазь, от которой стал идти гной; прибегли и к слабительным. Но больному становилось все хуже; он уже почти перестал принимать пищу и начал делать предсмертные распоряжения. По его приказу другой его любимец, дьяк Меньшой Путятин, со стряпчим Мансуровым съездили в Москву и привезли его духовную, написанную еще до второго брака, которую он немедленно велел сжечь. Все это сделано тайком от братьев и от бояр. Потом приступили к составлению новой духовной грамоты. С двумя своими любимцами Василий советовался, кого из думных бояр назначить послухами для засвидетельствования этой грамоты: при великом князе находились тогда князья Димитрий Федорович Бельский, Иван Васильевич Шуйский, Михаил Львович Глинский и, кроме Шигоны, дворецкий князь Иван Иванович Кубенский; решили вызвать из Москвы еще Михаила Юрьевича Захарьина (Кошкина). Приезжали также братья великого князя Андрей Старицкий и Юрий Дмитровский; но Василий скрывал от них свое опасное положение и особенно не доверял Юрию, которого поспешил отпустить обратно в Дмитров. Больной хотел умереть в столице, но предварительно заехал помолиться в Иосифов монастырь (верст около двадцати от Волоколамска). Здесь он слушал литургию, лежа на одре в церковном притворе, а великая княгиня с детьми стояла подле и проливала горькие слезы. В Москву его везли в каптане (возке), где при нем сидели князья Шкурлятев и Палецкой и поворачивали его, так как сам он уже не мог двигаться. Под Москвой он остановился отдохнуть дня на два в селе Воробьеве, куда немедленно явились митрополит, епископы, бояре и дети боярские. Меж тем через Москву-реку намостили мост против Новодевичьего монастыря, так как река еще не успела покрыться прочным льдом, хотя уже время шло к концу ноября. Наскоро построенный мост не выдержал; вступив на него, четыре коня, запряженные в возок, провалились; дети боярские успели подхватить великокняжий каптан и обрезать гужи у оглоблей. Василий Иванович воротился на Воробьеве; покручинился на «городничих» (Волынского и Хозникова), ведавших постройкой моста, однако опалы на них не положил. Он переправился на пароме под Дрогомиловом и въехал в Кремль через Боровицкие ворота; ради многих иноземцев и послов, пребывавших тогда в Москве, въезд этот совершился, по-видимому, до рассвета: великий князь все еще не хотел, чтобы все знали о его безнадежном состоянии. По возвращении в Москву первым делом было окончание духовной грамоты, для засвидетельствования которой призваны были, кроме помянутых выше бояр, еще князь Василий Шуйский, Михайло Воронцов, Михайло Тучков и казначей Петр Головин. Потом Василий Иванович открыл митрополиту Даниилу, епископу Коломенскому Вассиану и своему духовнику, благовещенскому протопопу Алексею, свое давнее желание постричься перед смертью в иноки и схимники.
Услыхав о немощи государевой, многие бояре поспешили в Москву из своих вотчин. Приняв Святые Дары, Василий призвал к своей постели братьев, митрополита, бояр и детей боярских и «приказывал» им сына своего Ивана, которому дает свое государство; увещевал служить ему верой и правдой. Затем, отпустив братьев и митрополита, обратился к боярам со следующими словами: «Ведаете сами, от великого князя Владимира Киевского ведется наше государство Владимирское и Новгородское и Московское; мы вам государи прирожденные, а вы наши извечные бояре. И вы, братие, постойте крепко, чтобы мой сын учинился на государстве государем, была бы в земле правда и в вас бы розни никоторые не было. Да приказываю вам Михаила Львовича Глинскаго; он человек к нам приезжий, но вы не называйте его приезжим, а держите за здешнего уроженца, зане он мне прямой слуга, и были бы вы все сообща и земское дело и сына моего дело берегли и делали за один. А ты бы, князь Михайло Глинский, за моего сына князя Ивана, и за мою великую княгиню Елену, и за моего сына князя Юрия кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал».
Очевидно, малолетство преемника, неопытность и иноземное происхождение супруги, ненадежность братьев и возможность боярской крамолы сильно озабочивали умирающего государя. Он не однажды обращался к боярам со своими заветами. В среду, 3 декабря, он вновь причастился Святых Тайн, вновь призвал думных бояр и долго говорил им об устроении земском и как после него править государством; после чего, оставив при себе Михаила Глинского, Михаила Юрьевича Захарьина и Шигону, приказывал им о великой княгине Елене, как ей без него быть и как к ней боярам ходить: он назначал ее правительницей до возмужалости сына. Летописец затем изображает трогательное прощание государя с трехлетним сыном Иваном, которого принесли на руках, и с великой княгиней, которую держали под руки, так она вопила и билась.
Ивана он благословил крестом Петра Чудотворца, которым сей благословлял прародителя московского князя Ивана Даниловича; отпуская сына, он сказал его няне, боярыне Аграфене Челядниной: «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступи ни пяди». По просьбе великой княгини умирающий велел принести и другого сына, однолетнего Юрия, и также его благословил; ему назначил в духовной небольшой удел с городом Углече Поле. Когда приблизился смертный час, великий князь позвал опять митрополита, братьев и бояр и велел себя постригать. Но тут вдруг выступили брат его Андрей, Михайло Воронцов и сам Шигона с возражениями, что Владимир Киевский не чернецом умер, а сподобился быть праведным, также и другие князья. Возник спор. А между тем умирающий уже лишился языка и употребления рук, но взором продолжал просить о пострижении. Тогда митрополит поспешил исполнить обряд, возложил на него парамонатку, ряску, иноческую мантию, наконец, схиму и Евангелие на грудь, нарекши его в иночестве Варлаамом. Василий Иванович скончался в ночь на четверг, на 4 декабря, то есть под Варварин день, на пятьдесят шестом году от рождения, после двадцативосьмилетнего царствования. Дворец огласился плачем и рыданием.
