Амур. Лицом к лицу. Выше неба не будешь
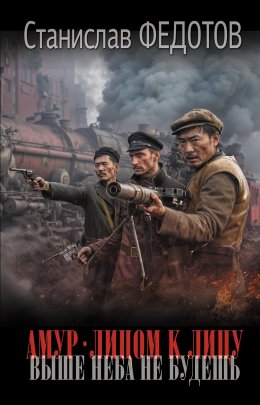
1
Генерал от артиллерии, генерал-адъютант свиты Его Императорского Величества и туркестанский генерал-губернатор Павел Иванович Мищенко, уйдя в отставку «по состоянию здоровья», занимался для души садоводством и пчеловодством. У себя на родине, в Темир-Хан-Шуре, стольном городе Дагестанской области, имея полтора гектара каменистой земли, он разбил хороший фруктовый сад с цветником, нанял толкового садовника и ежедневно наслаждался возможностью, буквально сойдя со ступенек своего скромного, на восемь комнат, одноэтажного дома, вступать в благоухающий мир тишины и спокойствия. Правда при этом всегда был одет в серую суконную на ватной подкладке бекешу с генеральскими погонами, на седой голове – офицерская фуражка с лакированным козырьком, на кожаном ремне, опоясывающем стройную не по годам фигуру, наградной георгиевский кинжал, а на груди – крест ордена Святого Георгия 4-й степени, полученный за Китайский поход 1900 года. У Павла Ивановича было ещё десять орденов, от Святого Станислава до Александра Невского, разных степеней, однако к Георгиевскому он относился с непоказным уважением. Жена однажды попеняла ему, что он год как в отставке, мог бы уже облачаться в гражданское платье. Павел Иванович грозно глянул на супругу, однако ответил в своей обычной мягкой манере:
– Дорогая, я же с младых ногтей связан с армией, она – кровь и плоть моя! Куда ж я без неё?
Говоря «с младых ногтей», он имел в виду, что даже в гимназии учился не простой, а в Первой московской военной, потом в Павловском училище и Офицерской артиллерийской школе, и служить начинал с прапорщика в артиллерийской бригаде. Потому и дослужился в результате до генерала от артиллерии. А в отставке оказался не из-за болезни и усталости от армейской службы (какая там усталость, когда имя генерала Мищенко гремело на фронтах не только русско-японской, но и мировой войны, когда его корпус покрыл себя неувядаемой славой в Брусиловском прорыве, когда солдаты и офицеры готовы были идти за ним в огонь и воду!) – наоборот, он получил предложение возглавить армию, однако исходило оно уже после отречения государя императора от комиссара Временного правительства, и Павел Иванович, слывший в армии прямым и смелым человеком, соответственно и ответил:
– Генерал-адъютанту государя неуместно служить прохиндеям, как бы они себя ни называли.
После чего был уволен из армии «по болезни» правда с сохранением мундира и пенсии и уехал в родную Темир-Хан-Шуру.
В городе о нём знали, при встрече относились с подчёркнутым уважением и русские, и коренные кавказцы. Супруги Мищенко регулярно посещали Андреевский военный собор и городской театр, иногда – правда очень редко – принимали приглашения на званые обеды: Павел Иванович не любил публичности и предпочитал большую часть времени проводить на пасеке или в саду. Там ему лучше дышалось и думалось.
А думалось генералу о многом, главным образом о времени и событиях, давно ушедших. Мысленно он проходил маршрутами своих летучих отрядов во время Китайского похода и войны с японцами, сокрушался об ошибках и потерях, благодарно вспоминал боевых товарищей, но главное – очень часто как бы поверх этих размышлений всплывал то расплывчато-размытой, то резко-контрастной фотографией незабываемый образ женщины, верной спутницы и страстной любовницы – казачки Марьяны! Его по-прежнему терзало чувство вины из-за невыполненного обещания вернуться за ней и ранеными, оставленными в Яньтае по пути на Инкоу: они бы тормозили движение отряда, а требовалось как можно быстрее захватить этот порт, через который японцы доставляли войска на Ляодунский полуостров. Правда и без них операция не удалась, японцев словно кто-то предупредил, и они успели подготовить оборону, но в круговерти непрерывных сражений при отступлении, вплоть до «котла» у деревушки с непроизносимым названием, что-то вроде Синепупинска (на самом-то деле Синюпунченза, но Павел Иванович нарочно выворачивал китайское название на русский лад – будто мстил по-малому за крупную неудачу), когда удалось вырваться лишь ценой многих безвозвратных потерь, он, честно говоря, отметал всё, мешающее решению сиюминутных задач. А после готов был провалиться сквозь землю, услышав разговор своих ближайших соратников полковника Баратова и подполковника Деникина. Они обсуждали ранение командира: пуля, попавшая в бедро, на два дня вышибла генерала из седла.
– Была бы Марьяна, – говорил Деникин, – она бы живо поставила Павла Ивановича на ноги.
– Была бы Марьяна, – отвечал Баратов, – мы бы выполнили задачу гораздо успешней. Что ни говори, а она была нашим талисманом.
Сердце генерала резануло это слово – «была». Он вдруг осознал, что потерял навсегда женщину, которую, казалось, сам Господь Бог создал для него. Она и только она была его радостью, счастьем, звездой путеводной…
Была!!! Страшное своей безысходностью, смертоносное слово!
Он равнодушно воспринял объявление его национальным героем, награждение орденом Святой Анны 1-й степени с мечами, присвоение звания генерал-лейтенанта и даже включение в свиту Его Императорского Величества. Ему казалось: всё теперь не имеет смысла. Он продолжал воевать, отличился в ряде операций, после окончания сражений получил несколько иностранных наград и перевод командиром 2-го Кавказского армейского корпуса, но продолжал не жить, а существовать, вплоть до того момента, когда на харбинской улице встретил Марьяну. Ему тогда показалось, что сердце ухнуло в пятки, но тут же вернулось и застучало в несколько раз быстрей.
Жива!!! Господи, слава Тебе, она – жива!!!
Да, она отказалась ехать с ним на Кавказ, но подарила ему потрясающую ночь, воспоминания о которой до сих пор вскипают в его крови. И он бесконечно благодарен ей за этот подарок. И ещё, наверное, самое важное: каким-то шестым, седьмым, десятым чувством он ощутил, что передал ей тогда самую сокровенную часть своей оставшейся жизни, а все последующие годы сознавал, что она, эта часть, переживёт его собственную, оставшуюся где-то на дне души.
Жена, к которой он вернулся из Маньчжурии, делала вид, что не замечает изменений в его настрое, а, впрочем, вряд ли человек, практически десяток лет не выходивший из боя, мог оставаться прежним. Она знала, за кого шла замуж: до венчания Павел Иванович участвовал в Хивинском походе, затем в очередной русско-турецкой войне и Ахал-Текинской экспедиции и так далее, и так далее. Удивительно, что вообще выбрал время для женитьбы. Он не мог долго быть в бездействии, товарищи говорили, что пушкинские строки «Есть упоение в бою…» – это о Мищенко. Узнав, что создаётся Охранная стража строящейся Восточно-Китайской железной дороги, он немедленно добился перевода в Маньчжурию, где стал командиром стражи южной ветки КВЖД и позже испытал на себе все перипетии борьбы с повстанцами-ихэтуанями.
Жена в Китай не поехала, предпочтя заниматься семьёй и домашним хозяйством в Темир-Хан-Шуре. Павел Иванович не настаивал: слишком уж несовместны были военные и семейные заботы. Теперь же они остались вдвоём: дети выросли и покинули родительский дом, кухарка и уборщица были приходящими, садовник вообще появлялся от случая к случаю, по особому приглашению, так что супруги занимались каждый своим делом – Агния Александровна увлеклась вышивками, Павел Иванович пчеловодством (даже выписывал специальные журналы), встречались они в течение дня только за обеденным столом, но вечерами читали вслух сочинения Фенимора Купера и Томаса Майн Рида. Книжные приключения заменили генералу его прошлые, настоящие, но не могли отвлечь от мыслей.
Интересно устроена жизнь, размышлял он. В начале её человек совершает поступки, мало задумываясь об их последствиях, нередко изумляясь нежданно неприятным результатам. И лишь потом, по достижении определённого возраста, начинает анализировать свои и чужие действия, связь между ними и пытаться предугадать их финал. Вот взять его и Марьяну. При всех его восторгах, преклонении перед её телесной и душевной красотой, он, если по-настоящему честно, ни разу не посчитал их связь проявлением Судьбы. Именно так – Судьбы, с большой буквы! Да, восхитительный роман, радость любовного сумасшествия, но… без даже мимолётного взгляда в будущее – ни в своё, ни, тем более, в её будущее! Он столько времени был с ней лицом к лицу и не понимал отпущенного счастья. И только последняя встреча в Харбине открыла ему глаза на предопределённость их сближения, но было уже невозможно что-то изменить.
Воспоминания о Марьяне иногда согревали, иногда сжимали сердце тоской, но Павел Иванович не был бы русским генералом, если бы не думал о судьбе Отечества. И судьба Родины в мыслях странным образом переплеталась с его личной, однако не в том смысле, что он всю сознательную жизнь служил Отчизне, не в том, что в течение событий последних двадцати лет прослеживается схожесть. А именно: гениальный министр Сергей Юльевич Витте выдвинул идею Китайско-Восточной железной дороги, предполагая, что она послужит замыслам императора Николая Александровича развивать Дальний Восток, но ни он, ни другие, кто, имея в виду свои планы, поддержал его, не подумали, к чему это приведёт. А привело это сначала к восстанию ихэтуаней, затем к русско-японской войне с оглушительным провалом Российской империи, к революции в Китае и, наконец к революции и гражданской войне в самой России. Разве Витте рассчитывал на такой результат? Правда, осталась прекрасная железная дорога, построенная талантливыми русскими инженерами, которая – увы! – к развитию русского Дальнего Востока не имеет теперь никакого отношения. Мы говорим: пути Господни неисповедимы, – заключил Павел Иванович, – а китайцы говорят: дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Мы уповаем на Бога и проигрываем, а китайцы неторопливо идут вперёд.
2
В начале мая в усадьбе Мищенко неожиданно объявился Николай Николаевич Баратов, бывший на русско-японской начальником его штаба. Генерал, кавалер многих орденов, сейчас он был в цивильном костюме.
– Откуда вы и куда теперь, старый товарищ, да ещё в таком виде? – поинтересовался Павел Иванович, когда они остались вдвоём за столом под тенистой купой любимой Мищенко буйной персидской сирени. Генерал сам пытался заниматься селекцией и надеялся вывести новый сорт, которому уже придумал название – разумеется, «Марьянка».
Жужжали пчёлы, распевали свои песенки какие-то птицы. Был уже выпит графинчик ароматной виноградной водки, так называемой «кизлярки», съедены жареные фазаны под гранатовым соусом, жена Павла Ивановича, Агния Александровна, подала чай с мёдом собственной пасеки и удалилась, дабы не мешать воинам вспоминать минувшие дни. Но они, наоборот, заговорили о сегодняшнем, насущном: о кипящем революционными страстями Кавказе, о противоборстве «красных» и «белых» – этой жестокой и беспощадной войне.
В Темир-Хан-Шуре, кстати, уже две недели, как утвердилась власть «красных», то бишь городского Совета рабочих и солдатских депутатов.
– Прошу меня извинить, дорогой Павел Иванович, но в каком виде вы меня ожидали увидеть? Вы конечно же слышали, что большевистская власть царских офицеров, не говоря уже о генералах, мягко говоря, не жалует. К вам «красные» ещё не являлись?
Павел Иванович помедлил с ответом, пригубив ложечку янтарной ароматной сладости и запив её мелкими глотками ароматного китайского чая. Баратов терпеливо ждал.
– Я газет не читаю, – ответил наконец хозяин, – да, по-моему, их тут и не печатают. Пользуюсь слухами, на востоке они точнее и оперативнее любых журналистов. Слышал о Добровольческой армии Лавра Георгиевича Корнилова, об её поражении от большевиков под Екатеринодаром и смерти славного генерала. Слух об избрании генерала Деникина новым верховным главнокомандующим меня тоже не миновал. – Павел Иванович горестно вздохнул и подкрутил седой ус. – Не могу сказать, что рад за Антона Ивановича: невелик почёт в гражданскую войну оказаться во главе одной из противоборствующих сторон. – Усмехнулся и снова отпил чаю. – К тому же забавно, Деникин отнюдь не высшего сословия, чуть ли не из крепостных крестьян, а командует дворянскими добровольцами. Парадокс! Впрочем, и Лавр Георгиевич тоже был не из дворян.
– Ну, в армии Деникина не только дворяне, – возразил Баратов. – Много разночинцев, казаков, мещан…
– Да-да, мещан, – Павел Иванович презрительно поморщился. – У большевиков тоже не одни рабочие и крестьяне. И дворяне есть. Даже их Ленин – из потомственных. Ну да бог с ними, разберутся. Но я в гражданской войне участвовать не хочу. Не хочу и не могу. Русские убивают русских из-за каких-то эфемерных идей – это противоестественно… это, наконец, отвратительно! – И без перехода добавил: – Простите за резкость, но вы не ответили на мой прямой вопрос.
– Помню, помню: вы всегда славились прямотой, как истинно русский человек. А я-то – из грузин, был Баратошвили, стал Баратов. Так сказать, мимикрировал под русского, как многие инородцы.
– Тут вы категорически не правы! В Российской империи никто никого и никогда не заставлял мимикрировать. Разве только евреи меняли имена и фамилии, однако они – статья особая. Им «линию оседлости» надо было преодолевать. Но…
– Да-да, не будем про евреев, однако отвечу на ваш прямой вопрос. Так вот, пробираюсь в Тифлис, на свою историческую родину. Спрóсите: зачем? Надеюсь, там принесу больше пользы Отечеству…
Николай Николаевич не успел закончить – в саду появилась крайне взволнованная Агния Александровна.
– Прошу простить, что прерываю, только что сообщили из совдепа: к нам направляется военный комиссар.
– Мне необходимо исчезнуть, – вскочил Баратов. – У вас есть другой выход?
– Да-да, идёмте, я покажу, – поспешно откликнулась хозяйка. – А тебе, Павел Иванович, следует надеть мундир с орденами.
– Боюсь, это лишь навредит, – заметил Баратов.
– Ну как же! – неуверенно возразила Агния Александровна. – Всё-таки заслуги…
Баратов исчез, а Мищенко последовал совету жены. Но совсем не потому, что привык ей доверять, – в другое время он лишь пожал бы плечами, однако сейчас должен был прийти военный комиссар, а военного, по его глубокому убеждению, и встречать следовало соответственно, то есть при полном параде. Правда его резануло слово «комиссар», он вспомнил представителя Временного правительства, тоже комиссара, которого в марте прошлого года послал куда подальше, но – что поделаешь?! – с волками жить… Поэтому вышел к незваному в офицерском белом кителе с погонами генерал-лейтенанта, при всех орденах, даже иностранные нацепил. Георгиевскую шашку с бриллиантами оставил на месте, в шкафчике за стеклом.
Комиссар оказался молодым человеком с приятным интеллигентным лицом. Впечатление портили кожаная тужурка и кобура маузера на ремне через плечо. Пожалуй, из гимназических учителей, из тех, кто преодолел «линию оседлости», подумал Мищенко и не стал прикладывать пальцы к фуражке, а лишь слегка наклонил голову здороваясь.
Незваный гость пришёл не один. Его сопровождали матрос в широченных клёшах, рваной тельняшке и бескозырке с надписью «Баку» и пара солдатиков в пропотевших гимнастёрках с винтовками без штыков; их лохматые белобрысые головы прикрывали выгоревшие фуражки без кокард.
– Военный комиссар Каргальский, – представился «красный» в кожанке.
– Чем обязан? – сухо поинтересовался Мищенко.
– Нам сообщили, что в вашем доме скрывается белогвардейский генерал Баратов, объявленный в розыск как представитель так называемой Добровольческой армии. Что вы можете сообщить по этому поводу?
– По этому поводу – ничего. С генералом Баратовым, моим сослуживцем в годы войны с японцами, в последнее время не имел чести общаться. Могу лишь сказать, что он блестящий русский боевой офицер.
– Русский! – усмехнулся комиссар. – Он же грузин.
– В пределах Российской империи все – русские. Даже евреи, – по-прежнему холодно ответствовал Павел Иванович. – Позволю себе заметить, я сам – из донских казаков. Малоросс, разумеется, русский. Вы что-то ещё хотите спросить?
– Советская власть отменила царские чины, звания и награды, – голос комиссара креп с каждым словом, – на основании чего мы конфискуем ваши ордена…
– И сыми погоны, сволочь! – вмешался матрос и схватил Мищенко за плечо. – К стенке захотел? Так мы тебе это обеспечим!
Он попытался сорвать погон, но Павел Иванович перехватил его запястье и так сжал, что матрос взвыл и весь перекосился.
Солдаты дружно хмыкнули и выставили винтовки, нацелив генералу в живот. Мищенко отпустил матроса, тот моментально выудил из штанины наган и взвёл курок. Неизвестно, что произошло бы дальше, но комиссар, видимо, слегка ошарашенный бесцеремонностью подчинённого, пришёл в себя:
– А ну прекратить! – крикнул он, дав петуха, и оттолкнул матроса от генерала. – Мы действуем по закону! А вам, генерал, советую подчиниться. Погоны надо снять.
– Я с десяти лет ношу погоны, – сказал Павел Иванович. – С ними и в гроб лягу. Честь имею!
Он чётко повернулся, поднялся по ступенькам крыльца и скрылся за дверью. Комиссар в недоумении переглянулся с подчинёнными, не зная, что делать, и тут раздался выстрел. Толкаясь, они ринулись в дом.
Генерал лежал на полу кабинета, на персидском ковре, возле застеклённого шкафчика. В левой руке, прижатой к груди, он держал Георгиевскую шашку, в правой был браунинг; из раны в виске на ковёр вытекала кровь.
– Ушёл, ссука! – сплюнул матрос.
– Паша-а-а!..
Растолкав солдат, в кабинет вбежала Агния Александровна. Секунду она смотрела на мужа, словно не веря своим глазам, и рухнула в беспамятстве рядом с трупом.
3
В детской проснулся и тоненько заплакал Никита. Елена метнулась туда и принялась успокаивать:
– Ну, чё с тобой, мой хороший? Опять чудо-юдо приснилось? Успокойся, это – всего лишь сон. Ты мне его расскажи, и он не сбудется, всё страшное там, во сне, и останется.
Никита, всхлипывая, рассказал…
Раньше он несколько раз видел, как какая-то женщина тонет в реке, он хочет ей помочь и не может, потому что нет силы двинуть ни рукой, ни ногой. Ему кажется, что эта женщина – его матушка, но она совсем не похожа на настоящую: у женщины волосы длинные, распущенные и чёрные, в то время как у матушки, у настоящей, – золотистые и заплетены в косу, обвитую вокруг головы. На берегу стоят люди, и никто не хочет спасать тонущую, а ему, Никите, говорят: «Спасай, это же мать твоя!»
Когда Елена рассказала про эти сны Павлу, тот аж побелел.
– Так почти что и было, – произнёс сквозь зубы. – Никитку-то спелёнутого из саней выбросило, я об нём думал, не об Марьяне… Ох, ты, Господи, вона как аукнулось!
Павел по-прежнему не молился и к Богу обращаться не желал ни при каких обстоятельствах, тем более что Дальневосточный краевой комитет советов, взявший на себя полноту власти на всём Дальнем Востоке, после разгрома мятежа атамана Гамова оценил участие в нём бочкарёвского отряда рабочих и его командира Черныха и назначил Павла комиссаром по безопасности участка Амурской железной дороги от Свободного до Благовещенска. Какие уж тут отношения с Всевышним, а вот надо же – невольно вспомнился, когда такая жуть сыну привиделась. (Черныхи считали Никиту своим сыном с самого его появления в их доме, да и Машутку с Федей, привезённых Еленой, тут же записали на себя. А как иначе-то?!)
И вот новый сон! Да не один! Поначалу снилось Никите, что тятя его рубится шашкой с какими-то зверями, те уворачиваются, а потом сворой набрасываются на него. И тятя почему-то весь седой и в орденах, но всё равно тятя, а у зверей морды почти человечьи. Никите жутко, страшно, однако он хочет тяте помочь, но не успевает: откуда-то наваливается темнота, и сон обрывается. А следом выплывает новый: будто бы они с тятей стоят рядом на краю пропасти, и тятя уже другой, совсем не седой, и оба они в форме военной, и Никитка уже совсем взрослый. Из пропасти тянет жутким холодом, и Никитка знает, что они сейчас туда упадут, а вокруг нет никого, кто бы помог удержаться…
Елена успокаивала сына, а сама обливалась холодным потом: ведь ежели в тех снах, что про мать, ему увиделось похожее на то, как было на самом деле, то что тогда означает первый сон?! Ясно, что Павлу, да навроде и самому Никитке, угрожает опасность, но – какая, с какой стороны? Про «красных» мародёров никто из посторонних не знает (Илька Паршин и Сяосун, конечно, вроде бы как посторонние, но они сами участники той расправы над «красными», так что не проговорятся), а больше со зверями и сравнить некого. Да и седой «тятя» с орденами – кто таков? Неужто отец-генерал?! Однако ж Никитка ни генералов, ни орденов не видал – ни в жизни, ни в книжках. И какая пропасть им с отцом уготована?!
Господи Боже, спаси и сохрани… спаси и сохрани!
Сын вроде бы успокоился, снова заснул, и Елена постаралась отвлечься – подумать о чём-нибудь другом. Хотя бы о новой службе Павла. После благовещенской бойни муж поначалу не хотел служить большевикам, но Сяосун ублатовал[1]. Елена даже подивилась: какими врагами они были прежде и какими пущай не друзьями, но товарищами стали. И ещё, как сильно изменился за семнадцать лет прежде вспыльчивый прямодушный китайчонок, заглядывавший в рот брату Ивану, – теперь это был расчётливый, не по годам умудрённый жизнью человек.
– Большевики пришли навсегда, – говорил он Павлу. – Да, они бывают жестоки, не боятся крови, но они взяли власть и дерутся за неё насмерть, а это заслуживает по меньшей мере уважения. Причём заметь: они её взяли не для себя лично, а для блага народа. По крайней мере, так говорит их вождь Ленин.
– Они убивали женщин и детей! Скажешь: для блага народа?!
– Скажу: это были бандиты и мародёры. С ними сейчас разбираются. Тот же Мухин возглавляет комиссию.
– Ну, ладно, взяли власть навсегда. И чё, думаешь, они властью не попользуются? – ехидно возражал Павел.
– Конечно, попользуются, – спокойно соглашался Сяосун. – Однако попользуются единицы, а блага достанутся всему народу. И что ты всё время твердишь «они», «они»? Ты же сам из большевиков! Сражался против Гамова, кровь проливал. И вот тебе предлагается место во власти, хорошее место, где ты можешь много пользы принести. Не себе лично, а власти народной. Что тебе не нравится? Декреты Далькрайкома?
– Декреты хорошие, – неохотно признал Павел. – Только на сердце как-то неуютно. Бесчурно[2] много супротивников и далеко не все из богатых.
– А ты как думал? Богачи всегда всё руками бедных делают. На чьей стороне беднота – у тех и победа. Но беднота – она же разная. Кто обманулся, потерял верную дорогу – тех следует вернуть на нужный путь, а кто упорствует – беспощадно ликвидировать! Работы будет много: время уж очень неспокойное. А ты бери меня в помощники – вместе-то легче будет.
Сяосун и сам не понял, как это у него вырвалось. Он мог бы поклясться, что ещё минуту назад лаже не думал о чём-то подобном, а тут – словно молния в голове блеснула – он вдруг увидел, но главное – осознал, какие открываются возможности для той цели, которую он поставил себе после разговора с Юань Шикаем.
Разговор со старым генералом случился после того, как Ван Сяосун, досрочный выпускник Цинхэйского училища Бэйянской армии, по рекомендации начальника училища был направлен в охрану нового премьер-министра, которым стал возвращённый из ссылки Юань Шикай. Служить охранником ему не хотелось, поэтому, когда цинское правительство призвало всех военных на защиту империи от восставших учанцев, он сразу подал рапорт о переводе в действующую армию. Как ни странно, его рапорт попал на стол премьера, а тот вызвал к себе молодого офицера.
Оказывается, генерал заметил и запомнил его в одну из своих инспекционных поездок по военным училищам, готовившим офицеров для армии нового образца.
Премьер был толст, одышлив и явно тщеславен: Сяосун так решил, видя, что генерал на гражданскую службу одевается, как на парад, – в мундир со всеми регалиями и орденами – и в рабочем кресле не сидит, а восседает. Тщеславные – люди недалёкого ума, подумал он, и приготовился к занудным поучениям, однако Юань Шикай решительно обманул его ожидания.
– Ради чего ты рвёшься на фронт? – устало спросил он. Голос был тихий, надорванный, как будто до того генерал целый день кричал на тупых подчинённых. Может, так оно и было.
Сяосун на секунду даже растерялся: до того странным показался такой вопрос из уст профессионального военного, прошедшего все армейские ступеньки снизу доверху. Но ответил прямо – как всегда, если не требовали раскрытия какого-либо секрета:
– Я давал присягу.
– Кому? Кому ты давал присягу?
– Императору.
– Императоры приходят и уходят. Остаётся великий Китай! Знаешь, почему наша империя называется Поднебесной? Потому что только китайцы получили право на вечное небо, остальные народы – варвары. Иногда они захватывают наши земли, но проходит их время, и они исчезают. Исчезли чжурчжэни, исчезли монголы, сейчас исчезают маньчжуры. А великий Китай продолжает жить! Благодаря нам и таким, как мы, как я и ты! Ради этого стоит жить и воевать!
…Павел вернул его к действительности:
– Так ты ж в Китай воротишься.
– Сначала научусь у вас, у русских, как надо власть брать и драться за неё. В России сейчас таких, как я, очень много. И не только китайцев. И чехи есть с австрийцами, и венгры с немцами. Все у русских учатся. Красной гвардии все нужны. Ты же знаешь: во Владивостоке интервенты высаживаются, японцы, англичане… Советы там отступили, создали Уссурийский фронт…
– Говорят: чехи против нас восстали. Сколько их эшелонов во Владик прошло, я со счёту сбился! За каким лешим их собирали, вооружали?! Слава богу, им атаман Семёнов в Чите дорогу перекрыл, а то бы и у нас их власть была.
Елена в их разговоры не вмешивалась, так, слушала краем уха – ей с детьми забот хватало. Машутка плохо к новой жизни привыкала, маму с папой звала, братика Кузю вспоминала, ну и плакала, конечно, надрывая тётке сердце. Елена и сама всех своих не могла забыть – деда Кузьму, отца с матерью, убитых красногвардейцами, брата Ивана с Кузей и беременной Настей, попавших в Китай. Но – что поделаешь?! – революция, война, а что дале будет – кто бы ведал!
В общем, принял Павел Черных службу новую, но выговорил себе в помощники Вана Сяосуна, благо товарищ Мухин, председатель Амурского областного исполкома, дал командиру отряда китайских добровольцев, сражавшихся против Гамова, весьма похвальную характеристику. Добавил свой голос и председатель ЦК профсоюза амурских железнодорожников Владимир Иванович Шимановский, который организовывал и посылал в Благовещенск на помощь большевикам отряд путейцев. Павлу как комиссару выделили на станции большую квартиру, в которой раньше жил с семьёй начальник службы тяги; две комнатушки, в которых прежде ютились Черныхи со своими родными и приёмными детьми, занял Илья Паршин с беременной женой, а комнатка Паршиных досталась Сяосуну. Его семья – беременная жена и сын – оставалась в Китае и, судя по всему, становиться советской не намеревалась.
Решением революционной власти все вроде бы остались довольны, однако Павла не покидала тревога: заезжавшие в Бочкарёвку крестьяне из окрестных сёл и деревень рассказывали о недовольстве казаков и сельчан действиями большевиков, которые начали бесцеремонно реквизировать у них «излишки продовольствия». В Приморье интервенты и противники советов – объединившиеся офицеры, назвавшие себя «белой гвардией» в противовес «красной», и часть уссурийского казачества под командой есаула Калмыкова – успешно теснили плохо организованные отряды красногвардейцев. Поэтому Далькрайком, обосновавшийся в Хабаровске, выпустил директиву о мобилизации рабочих и крестьян в новую Красную армию. Амурские большевики для её исполнения направили в сёла и станицы вооружённые отряды. Вначале добровольная, а затем кое-где добровольно-принудительная мобилизация, нередко сопровождавшаяся насильственным изъятием продовольствия для нужд рабочих и сельской бедноты, породила сопротивление. Где-то мобилизационный отряд разоружили и выгнали из села, где-то казаки сами взялись за оружие. Помня о том, что на правом берегу Амура скопились бежавшие от разгрома вполне боеспособные враги советской власти, готовые в любой момент вернуться и мстить, невольно задумаешься, как дальше жить. Особенно, когда отвечаешь за безопасность работы на огромном участке железной дороги, а людей под твоим началом раз-два и обчёлся. Невольно скажешь «спасибо» атаману забайкальских белоказаков, что не поладил с чехословаками и задержал движение их эшелонов во Владивосток. Впрочем, судя по последним сводкам, они и сами туда не спешат, берут власть в свои руки всюду, докуда они, эти руки, дотягиваются.
Через несколько дней после назначения Павла к нему приезжал председатель ЦК Союза амурских железнодорожников Шимановский. Инженер, выпускник Томского технологического института, интеллигент в каждом сказанном слове – куда до него бывшему казаку с образованием портового грузчика! – а вот нате вам, разговаривал с полным уважением. Советовал перевезти семью (шутка ли – пятеро детей!) в безопасное место – может, в Благовещенск, где легче было затеряться, или в глухую тайгу. В любом случае уехать из маленькой Бочкарёвки, в которой каждый человек на виду, и все всё про всех знают. Бодрости эти советы никому не добавили, а вот Сяосун, выговорив отдельную встречу с Шимановским, предложил себя в качестве секретного агента, чтобы вести постоянную разведку на обоих берегах Амура.
– Я не поклонник шпионажа, – морщась, сказал Владимир Иванович, – но не могу не признать его нужности и даже необходимости в нынешней политической и военной неразберихе. Интервенты вот-вот возьмут Хабаровск, у революционной власти пока что не хватает сил, и мне думается, что самой подходящей формой борьбы в сложившихся условиях будет организация партизанских отрядов. Данные разведки очень пригодятся. Однако, товарищ Ван, к вам вряд ли отнесутся с доверием жители русского берега Амура.
– Я могу пригодиться, – неожиданно предложил Павел.
Он вовсе не собирался становиться шпионом или разведчиком. Получилось как-то само собой. Просто он неплохо знал эти зазейские земли. Исходил их, когда сбежал из дому. Где-то подворовывал, где-то подрабатывал, пока добрался до Благовещенска. Давно это было, больше двадцати лет прошло.
– Нет, вас могут быстро разоблачить. Вы уже посещали станции и разъезды с проверкой безопасности?
– Само собой, – кивнул Черных. – Отсюда и до Благовещенска. До Свободного правда не успел.
– Вот видите. Вас все уже знают. Нет, нужен незаметный и очень надёжный товарищ.
– Илья Паршин, – вместе сказали Сяосун и Павел и, переглянувшись, улыбнулись: надо же, нашли общий язык!
Правда назвать их улыбки радостными не рискнул бы и сам Илька, хотя его неуёмная натура давно уже закисала от однообразия жизни на станции, где его определили начальником охраны. Слишком большая гроза надвигалась на Амур, а у него вот-вот жена разродится – куда её с дитёнком прятать? Но в том, что Илья согласится, по крайней мере у Павла сомнений не было.
А с семьями – чего гадать? – дом-то бабушки Татьяны в Благовещенске пустует, туда их и определить.
4
– Дошло до меня, Иван Фёдорович, что ты собираешься на ту сторону?
Иван даже не стал оборачиваться: и так знал, что Гамов. Шаг неслышный, голос спокойно-вкрадчивый – не атаман Амурского войска, а агент секретной службы. Уже несколько раз приходил на берег Амура на окраине Сахаляна, где Иван облюбовал себе местечко – посидеть в одиночестве, отдохнуть от капризов двухмесячной Олюшки и слёз Насти. Видать, из-за раны, которая не давала о себе забыть болью и кашлем, он стал чаще раздражаться. А жена так много плакала, тоскуя по Феде и Маше, оставшимся с Черныхами, что Иван всерьёз начал удивляться: где в человеке столько слёз помещается?
Поначалу, до Настиных родов, они приходили на берег все вместе, потом Кузе стало скучно, и он откололся. Родители не корили: шестнадцать лет парню, друзья-товарищи нужны, да и на девок подошла пора заглядываться, благо и тех, и других из семей перебежчиков хватало.
Потом роды. Это, само собой, отделило Настю, ей стало не до посиделок, да и сам Иван приходил сюда всё реже, потому что понадобилось зарабатывать на кусок хлеба. Первое время после перехода на китайский берег их привечал в своей «десятидворке» Лю Чжэнь. Это к нему привели небольшой обоз Сяосун с помощником. Сани с имуществом, лошади, коровы и свиньи по решению Сяосуна пошли как бы в уплату за «постояльцев». Лю попытался было отказаться, но Сяосун заявил ему с глазу на глаз:
– Ты это брось – «друзья-товарищи» и прочую чепуху. Это всё-таки не китайцы, а русские. Сегодня они братья, а завтра неизвестно кто. Мы им ничем не обязаны, они нам – тоже.
– Не скажи, – возразил Лю Чжэнь. – Я видел, как они рисковали, чтобы помочь мне и моим рабочим спастись от тех же ихэтуаней. Мы им были никто, обуза, а они нас не бросили.
При упоминании ихэтуаней Сяосун помрачнел, но сказал по-прежнему спокойно:
– Я тоже их не бросил, спас от русских «больших кулаков». Но для нас, китайцев, важней всего интересы нашей страны. И даже в малом мы должны блюсти свои интересы. Так что не изображай благородство, а принимай то, что тебе предлагается, как должное.
– Если ты думаешь, что я благородство изображаю… – Лю Чжэнь даже задохнулся от негодования.
– Извини, сорвалось, – поспешил исправить свою оплошность Сяосун. – Ты, конечно, такой и есть.
– Благородный человек думает о долге, маленький человек думает о выгоде, – отдышавшись, уже спокойно сказал Лю.
– Знаю, знаю: «Лунь Юй», Великий Учитель и тому подобное. Дорогой Лю, весь Китай живёт по учению Кун Фуцзы, как будто за две с половиной тысячи лет ничего в мире не изменилось. Увы, изменилось! Может быть, пора и Китаю меняться?
Лю Чжэнь вздохнул и смирился. Он лишь предоставил Саяпиным пустующую фанзу и позаботился о лечении раны Ивана. Фанза была маленькой – кухня и две комнатки, дров для отопления и приготовления пищи требовалось совсем немного. Лю Чжэнь привёз полные сани уже поколотых поленьев, их должно было хватить надолго. Да и с кормёжкой не обижал. А ещё – помог с похоронами погибших Саяпиных. Деда Кузьму он не знал, но вот Фёдор Кузьмич был для него родней некуда, ну и жену его Арину Григорьевну в сторону не отложишь. Счастливые: умерли в один день!
На окраине Сахаляна уже образовалось небольшое русское кладбище, при нём – часовенка, в которой совершал необходимые обряды священник отец Паисий, тоже из беженцев, – так что отпевание деда Кузьмы и семейной пары Саяпиных прошло, как полагается по православному обряду.
Иван весь март промаялся в постели: рана гноилась и никак не желала затягиваться. Китайский знахарь несколько раз менял свои приёмы и снадобья и в конце концов победил: 1 апреля Иван встал на ноги, а через день уже пришёл с Настей и Кузей на берег Амура. Там и встретился впервые после исхода из Благовещенска с атаманом Гамовым. Тот, выдержав пару минут скорби, подошёл и без предисловий предложил Ивану вступить в Союз Амурского казачьего войска на чужбине.
– Ни в какой союз мой муж вступать не будет, – заявила Настя. – Он своё отвоевал!
– Погоди, Настёна, – остановил Иван, сам спросил: – И чем должен заниматься этот Союз?
– Помогать выживать друг другу. Сохранять братство и единство казачества, – спокойно, не обращая внимания на рассерженную женщину, ответствовал атаман. – Тут создано Бюро помощи русским эмигрантам, мы ему помогаем. Находим жильё, работу, собираем деньги на нужды беженцев. Жить-то надо.
– Ты считаешь, что нам назад ходу нет?
– Пока нет. А дальше будет видно.
– Дальше, Ваня, рейды будут, – снова вмешалась Настя. Она сама удивлялась своей смелости, но не отступала: на кону было благополучие семьи. – Как ваш был, в девятисотом. Только теперь на ту сторону, на русскую.
– Женщина, вы бы помолчали, когда говорят мужчины, – поморщился Гамов.
– Настёна, ты и верно, попридержи язык. Всё ж таки атаман говорит, головарь[3].
– Ты и правда так считаешь? Чё ж так безголово войском командовал, что мы тут оказались? – Настя с болью в глазах глянула на мужа, потом взяла за руку Кузю, который со стороны смотрел, как базанят[4] взрослые, и они пошли домой, к фанзе, стоявшей на отшибе от сахалянской улицы.
Иван проводил их взглядом и повернулся к Гамову:
– Ежели б ты знал, через что ещё девчонкой прошла Настя, ты бы убавил атаманского гонору. Сам пороху не нюхал, шашку в руке не держал, а туда же – «мужчина»! Не хотел при сыне авторитет твой подрывать, но и ты в наши дела семейные не лезь. Понял?!
– Да понял, понял… Ты давай долечивайся, потом поговорим.
Дома разговор на эту тему не продолжился. Иван видел, что сын тяготится молчанием родителей, что хочет о чём-то спросить, но не решается, однако помогать не стал, так как и сам не знал, куда делать следующий шаг.
Вечером Настя наложила на рану мужа повязку с какой-то пахучей мазью, которую сварил присланный Лю Чжэнем знахарь (мазь явно ускоряла заживление). Поужинали смесью варёных овощей и свинины, запивая китайским чаем. Кузя занялся печкой, дым которой подогревал каны во всей фанзе. Иван лёг в их с Настей комнатке, ощутил блаженное тепло и мгновенно провалился в глубокий сон.
Проснулся резко, словно кто-то толкнул и сказал «вставай!». В комнате было темно; половинка убывающей луны ушла за горизонт, в оконце, выходящее на запад, заглядывала неяркая звезда. В первый момент после пробуждения Ивану показалось, что он на кане один, но протянул вправо руку и наткнулся на большой живот Насти. Боясь навредить будущему ребёнку, жена спала на спине. На хорошо нагретом кане было жарко, она сбросила ватное одеяло и заголила ноги. Он просунул руку под задравшуюся рубаху и осторожно погладил живой холм, огибая ладонью выпирающий пупок. Ощутил подрагивание, следующее за движением руки, как будто изнутри живота ребёнок не хотел отпускать отца. От этой догадки ему стало на мгновение радостно, но в следующий миг нахлынула тоска – по ушедшим родным, по утраченным – пусть даже временно, а он был уверен, что временно – Феде и Маше. И крохотными искорками как бы поверх всего промелькнула грусть по Цзинь и Сяопине – где они, живы ли?!
Неожиданно тишину ночи нарушили звуки из соседней комнаты, где спал Кузя. Странные, похожие на всхлипы. Ничего подобного Иван прежде не слышал. Он вскочил, неловко зацепив Настю, отчего она заворочалась и застонала. Иван замер, выбирая что делать – бежать к сыну или вернуться к жене. Настя успокоилась, а всхлипы продолжались, и он больше не раздумывал.
Кузя плакал, прикрываясь ватным одеялом. Иван обнял его, прижал к себе:
– Чё ты, сынок, чё ты? Кошмары снятся?
Кузя замотал головой, заговорил, всхлипывая:
– Я их вижу… Они приходят ко мне… как живые… просят не плакать… а я не могу…
– Ну-ну, не ворошись… – Иван сразу понял, что «они» – это дед Кузьма и родители, тятя с маманей. – Правильно они говорят: ведь мы все казаки, а казакам плакать не положено… Казак воин, воины не плачут – они оплакивают товарищей, провожая их в последний путь… А после не плачут, а мстят!.. И мы отомстим, обязательно отомстим…
Иван говорил, говорил, а у самого слёзы закипали – не на глазах, а в сердце. Обидно было за деда Кузьму, за отца: через сколько боёв прошли, сколько пуль над ними просвистело, а полегли от каких-то пьяных бандитов. Красногвардейцы – у кого только язык повернулся гвардейцами назвать эту тюремную шваль?! И как среди них оказались и Пашка Черных, и Илька Паршин, и Сяосун?! Иван со своей раной то и дело впадал в беспамятство, но, когда сознание прояснялось, всё ухватывал, всё в душе запечатывал. Да, дружество для них оказалось сильней и выше, чем какие-то идеи, спасли они остатки семьи Саяпиных, но…
Что там скрывалось за этим «но», Иван додумать не успел: протяжный стон Насти сорвал его и Кузю с места. Даже в полумраке они увидели, как её выгибает боль, услышали, как она задыхается.
– Беги к Лю Чжэню, повитуха нужна! – приказал отец, и Кузя, поняв, что начинаются роды, умчался к «десятидворке». Только оттуда могла прийти помощь.
Настя притихла. Иван вернулся на кухню, разжёг фонарь и пошуровал кочергой в печке: там оставались горячие угли, а нужен был огонь, чтобы нагреть воды. Побросал в печь сухих берёзовых полешков, изо всех сил дунул, и пламя занялось, побежало по бересте. Он узнал, что требуется при родах, когда Настя рожала Федю. Повитуха тогда не прогнала его, а наоборот – сказала:
– Смотри и запоминай. Поди-ка не последний, а в жизни всё может пригодиться.
Вот и пригодилось.
Иван успел наполнить водой и поставить на огонь жестяной бак и чайник, приготовить корыто и чистые тряпки (Настя их собрала заранее), когда уже не стон, а истошный крик жены «Ваня-а!» призвал его в спальню.
Настя сползла с кана на пол. Сидела, раскинув ноги, и смотрела, как по полу расползается мокрое пятно.
– Настёна, милая, ты потерпи, сейчас придут, помогут, – бормотал Иван, расчищая на кане место от всего лишнего.
Он оставил соломенный матрац, застелил его простынкой, бросил в изголовье соломенную подушку и помог Насте перебраться с пола на кан.
Всё это время она молчала и лишь тяжело дышала, стиснув зубы. Лицо было мокрое от пота, волосы слиплись, под глазами залегли глубокие тени.
Иван бережно уложил её, расправил складки на подстилке и прикрыл ноги подолом рубахи.
– Ванечка, не оставляй меня, – сипло сказала она, схватив мужа за руку. – Чёй-то мне тяжко. Никада так не было.
– Не боись, я с тобой до последу[5]. Щас повитуха прибежит.
– Ох, чужой человек придёт, а у нас не прибрано, – заволновалась Настя. – Зарно, возьмёт в голову, что хозяйка маланга[6].
– Не об этом тебе думать надобно, – Иван погладил вздрагивающий, как от нетерпения, живот. – Ты давай рожай помаленьку.
– Ага, вот приберусь и рожу, – Настя привстала, словно и впрямь вздумала прибраться, и вдруг, на выдохе, заорала так пронзительно, что у Ивана заложило уши: – Рожаю-у-у-у…
Упала на спину, руками потянула на себя рубаху, оголяя колени и бёдра, раздвинула ноги…
– Ванечка, миленький, рожаю…
И родила, как выстрелила. Не успел Иван опомниться, а в протянутые руки ему выпал маленький человечек, мокрый и скользкий. Он забыл напрочь, что надо делать дальше, но тут в фанзу вбежала маленькая китаянка в штанах и рубахе до колен, за ней Лю Чжэнь и Кузя. Китаянка выхватила новорожденную из рук Ивана, что-то крикнула (Лю Чжэнь перевёл: «Тёплая вода, спирт и ножницы»), и всё завертелось по её указаниям.
Через пару минут раздался писк новорожденной (оказалась девочка), и повитуха вручила отцу тряпочный кулёк, из которого выглядывало розовое личико с кнопкой-носиком. Кузя первым рванулся посмотреть на сестрёнку:
– Тять, давай назовём её Оленькой.
– Почто Оленькой?
– А сегодня день святой Ольги, преподобномученицы.
– Я и не знал, – пробормотал Иван, а громко сказал: – Вот окрестим, как полагается, батюшка по святцам и назовёт.
– Пущай будет Оленька, – подала свой голос мать. – Хорошее имя.
Дочка родилась через три недели после перехода Амура, а теперь была середина мая. Иван всё-таки обратился за помощью в Бюро эмигрантов, а там условием поставили вступление в Союз Амурского войска. Пришлось вступить. Получил работу – составлять реестр со всеми подробностями – семья, имущество, необходимая помощь, политическое настроение – вынужденных эмигрантов-казаков. Поставили на довольствие, Кузю определили во временное училище – казалось бы, живи и будь доволен, но Ивана не переставала грызть мысль-тоска по детям, по Феде и Маше. И он действительно подумывал, не сгонять ли тайком на ту сторону, добраться до Бочкарёвки (подумаешь, сотня вёрст!) – хоть посмотреть на своих родненьких, а уж обнять, так и вовсе счастье.
А Гамов присел рядышком на пригорок и, не ожидая ответа на свой вопрос, продолжил:
– Потерпи, Ваня, власть большевиков скоро кончится. Их вышибают отовсюду, народ недоволен поборами и мобилизациями, Семёнов и Калмыков казаков готовят, мы тоже занимаемся. В том числе и благодаря твоей работе.
– А ещё японцы, англичане, американцы – все кинулись нам помогать? – угрюмо продолжил Иван. – Ты же был учителем, Иван, ты ж, верно, ученикам говорил, что каждый русский должен Родину защищать от любых врагов.
– Я и остаюсь учителем. И учу, что враги нашей Родины сегодня – это большевики. Из-за них мы унизительно вышли из войны с Германией, когда победа была уже не за горами. Точно так же революция в девятьсот пятом с позором вышибла Россию из войны с Японией. А кто ту революцию устроил? Опять же большевики. Вот и получается, что они – главные враги России. И долг каждого русского, каждого казака – спасать от них нашу Родину. Пускай даже с чужой помощью. Разделаемся с советами – отправим чужих восвояси.
Помолчали. У Саяпина не было слов для возражения, да, по совести, и не хотелось возражать: по всем статьям выходило: прав атаман, хоть и муторно на сердце – а прав.
Гамов смотрел вроде бы через реку на родной город, однако нет-нет да скашивал глаза на Ивана. И наконец, сказал главное:
– А ребятишки твои в Благовещенске, в шлыковском доме живут, с сестрой твоей Еленой. Ваш-то дом сгорел дотла.
Иван вздрогнул и впился взглядом в невозмутимое лицо атамана:
– Правда?! Не врёшь?!
– Про детей? Или про дом?
– Конечно, про детей. Дом жалко, но надо будет – новый поставим.
– Надёжный информатор докладывал.
– Кто?! Я его знаю?
– Знаешь. Но кто он – не скажу. Однако верить можно. Так что сам не страдай и жене закажи. Всё образуется.
Гамов ушёл, а Иван собирался ещё посидеть, но понял, что должен немедленно поделиться новостями с Настей и Кузей. И не пошёл домой, а почти побежал, что при его крупности, наверно, выглядело со стороны смешно. Но Иван об этом не думал, пока не налетел на человека, едва не сбив того с ног. Правда, человек-то был в сравнении с ним совсем невелик.
– Ну и здоров ты, Ваня! Истинный бог, ведмедь!
– Илька! Ты?! Надёжный информатор!
Иван сжал друга так крепко, что кости захрустели.
– Чего ты?! Какой такой форматор? – запыхтел, высвобождаясь Илья.
– Давай к нам, всё расскажешь, – потащил его Иван, благо до дома было уже недалеко.
Илья не сопротивлялся, однако попытался отмахнуться:
– Ты чего меня обозвал?
– Это не я, это Гамов сказал «надёжный информатор». Постой-постой, – Иван остановился, повернул Илью лицом к себе, взглянул прямо и требовательно. – Говори, как на духу: ты принёс весточку из Благовещенска? Ежели чё – просто кивни. Но не юли, я всё равно увижу.
Илья вздохнул и кивнул.
– Нельзя мне, я на задании, – сказал он, предварительно оглянувшись.
– От Союза казаков? Так я ж тоже его член.
– И от Союза тоже. Связной я. И больше не спрашивай, и так много лишнего сказал.
– Всё, молчу! – Иван даже рот ладонью прикрыл. – Пошли к нам, у меня дочка родилась, Оленька.
– С дочкой проздравляю, а пойти не могу. Я ж сказал: на задании. Ну, бывай!
Илья приобнял друга и поспешил обратно. Через несколько шагов обернулся и крикнул:
– У меня тоже дочь, Валюхой назвали!
Махнул рукой и исчез за углом фанзы.
– Ишь ты, – покачал головой Иван. – Я уж и крест на нём по семейной линии поставил, а он – нате вам! – отцом стал, да ещё и служит. Связной! Ин-фор-матор!
5
Цзинь нашла Ли Дачжао в библиотеке Пекинского университета. Молодой профессор недавно вернулся из Японии, где изучал политическую экономию, и кроме курса лекций получил заведование библиотекой.
В кабинете заведующего находились ещё два человека – широколицый высокий юноша с роскошной чёрной шевелюрой и грациозная девушка в модном европейском платье. Все трое оживлённо говорили о Карле Марксе и его труде «Капитал»; вернее, оживлённо говорил Ли, а молодые люди возражали, спорили, причём особенно активным спорщиком был юноша.
Увидев Цзинь, Ли Дачжао совершенно искренне обрадовался, обнял её и представил собеседникам как свою очень способную ученицу. Правда Цзинь была на шесть лет старше учителя, но выглядела гораздо моложе своих лет, сохранив красоту и стройность даже после рождения троих детей. Разумеется, профессор об этом не сказал ни слова. Он и в прежнее время, когда, будучи студентом, занимался с Цзинь в одном кружке, совершенно не интересовался её возрастом, настойчиво пытался ухаживать за «хорошенькой девушкой» и был искренне огорчён её отказом.
– Как тебе не стыдно! – сказала тогда Цзинь. – Твой друг Чаншунь поручил тебе заботиться обо мне, а ты…
– А что – я? – нисколько не смущаясь, возразил Дачжан. – Я виноват, что ты такая красивая?! Подожди, создам коммунистическую партию Китая, и ты пожалеешь, что отвернулась от меня.
– А что, коммунисту можно совращать жену друга? – ехидно поинтересовалась Цзинь.
– У коммунистов всё будет общее, – с пафосом заявил Дачжан. – И женщины в том числе.
– А если женщина не захочет?
– Не имеет значения. Коммунистка не имеет права отказываться.
– Ну, я пока не коммунистка, поэтому отказываюсь, – засмеялась Цзинь.
Разговор, казалось, был шутливый, но Цзинь решительно отдалилась от Дачжана, хотя кружок не бросила и была на занятиях самой лучшей. Так что, когда Ли Дачжан должен был уехать, он с лёгким сердцем поручил Цзинь вести занятия вместо себя.
И вот теперь – встреча почти через десять лет!
– Ян Кайхуэй и Мао Цзэдун, – представил Ли своих собеседников. – Кайхуэй – дочь профессора этики Яна Чанцзи, а Цзэдун – мой ассистент в библиотеке, учится сейчас на курсах подготовки к поездке во Францию. Мы тут спорим о Марксовой теории прибавочной стоимости, тебе она знакома, а молодые люди не всё понимают и принимают.
– Мы пойдём, профессор, – сказал Мао Цзэдун, беря девушку за руку. – Я вам сегодня ещё нужен?
– Нет, договорим после. Вы свободны.
– Не будем вам мешать, – с милой улыбкой добавила Ян Кайхуэй.
Цзинь показалось, что девчонка даже озорно подмигнула.
Они исчезли, а у Ли Дачжао усы встопорщились.
– Вот чертовка! – ругнулся он. – На что намекает?!
– Да ни на что она не намекает, просто озорничает, – засмеялась Цзинь. – У них любовь, чего она и нам желает. Ты со своими лекциями, наверное, уже забыл, что это такое.
– Любо-овь, – проворчал Дачжао. – Я-то тебя любил, а ты на меня внимания не обращала. Вернее, просто отшила как пошлого ухажёра.
– Любил-любил, и всё прошло… – Цзинь грустно улыбнулась. Честно говоря, она чуть было не увлеклась этим красивым и восторженным юношей, но вовремя спохватилась – к тому же была беременна! – и подавила в себе непрошеное чувство. И потом – не угасала память об Иване. – А у меня не проходит. Время прошло, а любовь – нет.
– Жаль, это не про меня. Пойдём, посидим где-нибудь в кафе, – предложил Дачжао. – Поговорим. Ты ведь нашла меня не просто так.
Они обосновались за столиком кафе неподалёку от перекрёстка Южной улицы Сюэюань и Синьцзекоувайдацзе, заказали кофе и пирожные с кремом.
– Ну, дорогая Цзинь, я слушаю тебя. Но сначала скажи, как себя чувствуют твои муж и дети. Где они?
– Муж в Японии. После изгнания Сунь Ятсена не стал дожидаться ареста, ведь он был командиром полка, воевал против бэйянской клики.
– Ты не боишься об этом говорить?
– Ты же не побежишь в службу безопасности? – Цзинь улыбнулась, смягчая невольную резкость своих слов. Ли усиленно закивал, подтверждая, а Цзинь продолжила: – Дети в Харбине, вместе со мной. Я служу в Управлении КВЖД. Сяопину уже семнадцать…
– Семнадцать?! – ахнул Дачжао. – Кажется, совсем недавно мальчонка бегал, кудрявый, глазастый…
– Он и сейчас кудрявый и глазастый, – засмеялась Цзинь. – Закончил гимназию, поступает в университет. Я его знакомлю с марксизмом. Госян девять, ходит в русскую школу, а Цюшэ – в садик, ему только четыре. Ну, вот, обо мне – всё, теперь скажи о себе.
– Я подружился с деканом филологического факультета Чэнь Дусю, он тоже давно проникся идеями марксизма, мы ведём кружки, мечтаем создать партию большевиков, устроить революцию, как в России.
– Как твои семья, дети?
– Семья растёт, уже трое, старшему девять лет. Жена, – Дачжао усмехнулся, – к марксизму равнодушна, а детей просвещать ещё рановато. И как вы с мужем только ладите? Он – гоминьдановец, ты – коммунистка.
– Чаншунь – левый гоминьдановец, так что ладим, – вздохнула Цзинь. – Да и видимся редко, при встречах, сам понимаешь, – она улыбнулась уголками тонко очерченных губ, – не до ссор.
Дачжун сглотнул – понял улыбку, но мгновенно принял прежний вид:
– А твой брат, он где?
– Сяосун где-то в России. Я давно его не видела.
– В России? – удивился Дачжао. – Он же бэйянский офицер, окончил Цинхэйское училище и даже был в охране Юань Шикая.
– И у Чжан Цзолиня послужил. Правда совсем недолго, он называл его Бэй Вейшенгом и смеялся, что маршал был когда-то хунхузом, предводителем «Черноголовых орлов».
– Мне показалось, что русских он ненавидит.
– Не всех, а только казаков и солдат. Да и то… – Цзинь опустила глаза, по щеке прокатилась слезинка. – Время всё меняет.
– Ты мне так и не ответила: зачем приехала в Пекин. Или это секрет?
– Никакого секрета нет, – поспешила Цзинь. – Я узнала, что ты после Японии читаешь интересные лекции по «Капиталу» Маркса, и захотела послушать. Китайского-то перевода «Капитала» нет, а по-немецки и по-японски я не понимаю.
– Да, в Японии хороший перевод. Чэнь Дусю так сказал, он японский знает прекрасно. А с китайским, думаю, будет сложно: в «Капитале» много слов, которых в китайском нет вообще. Может, Чэнь возьмётся…
Кофе был давно выпит, пирожные съедены, да и разговор, судя по всему, подошёл к концу. Ли надо было готовиться к лекции, а Цзинь, договорившись о своём присутствии на его занятиях, поспешила взять рикшу: предстоял долгий путь через весь Пекин – к Храму Неба, там на улице Юндинмыньдунцзе в доме родителей жила жена Сяосуна Фэнсянь с сыном. В октябре или ноябре она должна была родить, и Цзинь считала себя обязанной поддержать жену брата и, если надо, чем-то помочь.
Дверь ей открыла юная красавица в шёлковом белом ципао, расшитом разноцветными попугаями.
– Вам кого? – спросила она голосом, в котором звенели весёлые колокольчики.
Цзинь невольно улыбнулась:
– Я – сестра Ван Сяосуна Дэ Цзинь. Приехала из Харбина.
– Сестра Сяосуна?! Ой, как здорово, как замечательно! – Цзинь показалось, что девушка, как ребёнок, сейчас захлопает в ладоши. – А я – сестра Фэнсянь, меня зовут Пань Мэйлань. Что же мы стоим на пороге? Проходите, проходите, пожалуйста! Будьте, как дома, а я позову Фэнсянь.
Мэйлань умчалась куда-то в глубину квартиры, а навстречу Цзинь вышел черноголовый карапуз лет четырёх в жёлтых штанишках кайданку и красной рубашонке с большой аппликацией на груди в виде байлуна – белого дракона.
– Ба! – сказал малыш и показал на кончик хвоста дракона, который указывал на низ живота.
Просится в туалет, поняла Цзинь. Кайданку имеют внизу разрез, так что можно не снимать, но куда опростаться? Она поискала глазами – мальчишка, видимо, догадался и вытащил горшок из-за большой кадки с фикусом.
– Ба! – требовательно повторил он.
Цзинь взяла его на руки так, чтобы разрез в кайданку пришёлся над горшком – эта поза и называлась «ба», чуть-чуть присвистнула, изображая звук бегущей струи, и малыш пустил свою.
– Шаогун! – укоризненно сказала Фэнсянь, появившаяся вместе с Мэйлань в самый ответственный момент.
Мальчуган повернул голову на голос матери и в третий раз сказал «Ба!» с чувством глубокого удовлетворения.
Цзинь засмеялась и поставила его на пол. Он моментально исчез.
– У меня самой трое детей, – сказала Цзинь, с удовольствием оглядывая округлившийся живот Фэнсянь, заметный даже под ченсам[7], – так что это мне хорошо знакомо. Здравствуй, Фэнсянь! Как я рада тебя видеть!
– Здравствуй, Цзинь! Я тоже рада. Проходи. Ты голодна?
– Спасибо, нет.
– Тогда будем пить чай. Мэйлань, займись.
Девушка кивнула и ушла. Хозяйка и гостья прошли в гостиную. Фэнсянь усадила Цзинь на диван. Села и сама, сложив руки на животе. Помолчав для приличия, спросила:
– Есть весточка от Сяосуна?
– Весточки нет, – покачала головой Цзинь, – но я знаю, что он обещал приехать к родам.
– Сяосун приедет, он всегда выполняет обещания. Но я так соскучилась!
– Что делать, дорогая! Мой Чаншунь тоже далеко, и я очень скучаю. Уж такие у нас мужья беспокойные.
– Это время беспокойное.
– Сестра у тебя очень красивая, – сказала Цзинь, наблюдая, как порхает из кухни в гостиную девушка в белом ципао. – Сколько ей – лет пятнадцать?
– Уже семнадцать, – вздохнула Фэнсянь. – Замуж пора.
– И жених есть?
– Какой жених! И слышать об этом не хочет. В университет собирается, на филологическое отделение.
– Надо же! – удивилась Цзинь. – Мой Сяопин туда же поступает.
– Замечательно! – обрадовалась Фэнсянь. – А где жить будет?
– Не знаю, – неуверенно сказала Цзинь. – Наверное, в общежитии. Забыла спросить у Дачжао, есть ли у них общежитие.
– А зачем ему общежитие? Пусть живёт у нас, комната лишняя имеется. Будут вместе с Мэй на лекции ходить. Мэй, ты слышала? Сяопин, сын тётушки Цзинь, тоже в университет поступает, на ваше отделение. Я приглашаю его жить у нас. Ты не против?
Мэйлань с чайным подносом в руках замерла в дверях кухни. Фэнсянь и Цзинь с любопытством глянули на неё.
– Интересно, – протянула девушка. – А он красивый?
– Думаю, тебе понравится, – засмеялась Цзинь.
6
Наклонив упрямо лысую лобастую голову, что означало глубокое обдумывание важной мысли, Владимир Ильич Ульянов мерил вдоль и поперёк маленькую столовую своей неуютной двухкомнатной квартирки в Кавалерском корпусе Московского Кремля. Он уже выпил скверного чая с ржаными сухариками – обычный завтрак председателя Совета народных комиссаров республики после спешного переезда верховной власти большевиков из Петрограда в Москву. До начала заседания Совнаркома оставалось пятнадцать минут и следовало освежить в памяти вступительное слово: оно должно было задать тон в обсуждении архиважного вопроса – необходимости жесточайшего красного террора.
Владимир Ильич был взбешён: накануне ему положили на стол докладную записку некоего Алексея Боброва о том, что в Нижнем Новгороде проститутки спаивают солдат, бывших офицеров и мобилизованных в Красную Армию, и можно предположить, что готовится белогвардейский мятеж. Ещё не остыла память о левоэсеровском мятеже в Москве, о белогвардейских кровавых выступлениях в Ярославле и Астрахани, не дают спать донесения о начале интервенции Антанты на Севере и Дальнем Востоке, о развязанном белыми терроре в Поволжье, Приморье, на Кавказе и вот снова – угроза из Нижнего Новгорода!
– Стр-релять! – почти зарычал предсовнаркома. Правда из-за природной картавости полноценного рычания не получилось, что обозлило его ещё больше. – Беспощадно расстреливать и расстреливать!
Надежда Константиновна, до того невозмутимо продолжавшая пить чай, размачивая сухари в кипятке, поинтересовалась:
– Кого это, Володя, ты собрался расстреливать на этот раз?
Владимир Ильич резко остановился, словно налетел на препятствие:
– Кого?!! Наденька, ты своим благодушием меня удивляешь. Кого! Проституток, попов, буржуев, дворян, офицеров… Всю эту белогвардейскую сволочь!
– Мы с тобой – тоже из дворян. И офицеры есть – из народа, из крестьян. А проститутки тут вообще ни при чём. Так что разбираться надо.
– Некогда нам разбираться, Наденька! Если мы с каждым будем разбираться, нас раздавят, уничтожат! Чтобы революция выстояла, мы должны быть беспощадны! Безжалостны! На каждый их удар отвечать десятью нашими! А если понадобится, то и двадцатью, и тридцатью!
– Вряд ли русский сможет безжалостно убивать русского. У русских милосердие в крови.
– Надо выпустить эту грязную кровь! Чем больше, тем лучше для революции! – Владимир Ильич взглянул на часы-ходики, висевшие на стене. – Всё! Время! Мне пора! – Он потянул носом воздух. – Кофе пахнет. Троцкого на кухне не было? Он из Казани должен был приехать.
Квартира Троцкого была рядом, кухня у них была общая.
– Не видела, – покачала головой Надежда Константиновна.
Владимир Ильич распахнул дверь и едва не упёрся в спину человека с ружьём. Человек посторонился, пропуская председателя Совнаркома, при этом слегка повернул голову, и Ульянов искренне удивился:
– Китаец?!
– Китаиса, китаиса, – закивал человек. – Моя охланяла товалиса Ленин.
– Новая охрана, комендант Мальков организовал, – подтвердил, подходя, народный комиссар по военным и морским делам Троцкий. – Здравствуйте, Владимир Ильич.
– Здравствуйте, Лев Давидович, – увлекаемый наркомвоенмором, Ульянов зашагал по коридору. Оглянулся на часового. – Но почему именно китаец?
– А вас не удивляет, что у нас в специальных отрядах латыши, мадьяры, финны и даже австрийцы с немцами?
– Они более надёжны, чем наши…
– Вот именно! А китайцы более надёжны, чем все прочие. Во время войны им открыли пути для работы, и сейчас их в России сотни тысяч. Они бездомны, оторваны от Родины и готовы служить хоть за кормёжку. Они услужливы, исполнительны до запятой, не сомневаются в приказах начальства. Якир в Тирасполе уже создал расстрельный отряд китайцев – результатами доволен: все приговоры немедленно приводятся в исполнение, без проволочек и снисхождения. И дерутся до последнего. Якир писал, дословно помню: «Китаец стоек, ничего не боится. Брат родной погибнет в бою, а он и глазом не моргнет. Китаец будет драться до последнего». Вот я и считаю: на основании опыта Якира нужно немедленно создавать части особого назначения с максимальным привлечением китайцев.
– Да-да-да, революции такие бойцы, как воздух, нужны. Архисвоевременное предложение! Сейчас на Совнаркоме и обсудим. Кстати, вы не знаете товарища Алексея Боброва?
Троцкий подумал:
– Нет, не знаю. Кто это?
– Я тоже не знаю, но, судя по его мандату, очень нужный товарищ. Надо бы его найти и запрячь в работу.
– С этим – к Дзержинскому, – ядовито усмехнулся в усы Троцкий. – Чекисты и найдут, и запрягут… Да, Владимир Ильич, я тут решил узнать о китайцах побольше и кое-что почитал. Оказывается, у них есть школы специальных единоборств, где выпускники показывают уникальные результаты. А ещё китайцы – мастера дознания. Ни один европеец не додумается до пыток, которые они применяют. Думаю, если среди китайцев, кто у нас служит, таковые найдутся, их надо будет обязательно привлечь в наши военные училища.
– Пожалуй, вы правы, Лев Давидович. Да-да, в училища и в органы ЧК. Сегодня же разошлём указания по выявлению таких специалистов. Особо Дальревкому, Краснощёкову – там-то их наверняка больше, чем здесь у нас.
– А вы, Владимир Ильич, продолжаете переписываться с их вождём Сунь Ятсеном?
– Изредка. Он никак не хочет принимать социализм в нашем понимании. Восторгается мной, вами, нашей борьбой, но остаётся на позиции мелкого буржуа. Партию основал, Гоминьдан, на трёх принципах – национализм, народовластие, народное благосостояние. У него в партии могут состоять и помещики, если они за единство Китая. Не понимают, что без диктатуры пролетариата никакого единства не будет!
Они подошли к залу заседаний правительства. Ленин приоткрыл дверь, заглянул внутрь, сказал кому-то: «Сейчас будем» – и снова повернулся к Троцкому:
– Ещё не все собрались. Дисциплина архибезобразная! Как можно строить новое государство с такой дисциплиной руководителей?! Да, на чём мы остановились?
– В Китае очень мало пролетариата, – сказал Троцкий. – О какой диктатуре можно говорить?
– Когда большевики взяли власть, в нашей партии было меньше двадцати тысяч на сто миллионов населения. Диктатура заключается не в количестве правящего класса, а в политической воле руководства. В царской России тоже правило не большинство… А-а, вот и наши нарушители, – переключился Владимир Ильич, увидев подходящих народного комиссара Дзержинского и редактора газеты «Правда» Бухарина. – Первым делом и поговорим о дисциплине.
7
Конец августа 1918 года выдался в Приамурье особенно жарким. От Хабаровска вдоль железной дороги двигались японцы, в Забайкалье наводил свои свирепые порядки атаман Семёнов, на правом берегу Амура и вокруг полосы отчуждения КВЖД накапливали силы бэйянские милитаристы во главе с Чжан Цзолинем, к ним примыкали бежавшие с левого берега белогвардейцы; тут и там начинали поднимать голову недовольные разорительными и бесцеремонными действиями большевиков богатые казаки и крестьяне.
Все жаждали одного – свержения новой власти. И хотя она, эта власть, упорно сопротивлялась, ведя кровавые бои за каждый город, каждую станцию, каждую деревню, силы были неравны: районы, подконтрольные советской власти, сокращались, как выразился председатель ЦК Амурской железной дороги Шимановский, подобно шагреневой коже из романа французского писателя Бальзака. Услышав это сравнение, председатель Далькрайкома Александр Краснощёков сказал своему другу, большевистскому контрразведчику Мееру Трилиссеру:
– У Шимановского получается, что советам скоро придёт конец.
– Почему? – удивился тот.
– В романе Бальзака владелец кожи умирает, когда она сокращается насовсем.
– Вот как?! – Трилиссер подумал. – Получается контрреволюция. За такие сравнения расстреливают.
– Ну уж так сразу! Нас есть кому расстреливать.
Советские работники, бежавшие от интервентов и белогвардейцев, скапливались в Амурской области. Дальневосточный крайком советов решил обосноваться в городе Свободном. Спецпоезд из трех пассажирских и одного товарного вагонов, перевозивший сотрудников и их семьи, задержался на станции Бочкарёво: Александру Краснощёкову понадобилось съездить в Благовещенск, чтобы согласовать план дальнейших действий с председателем Амурского исполкома Фёдором Мухиным.
На станции из начальства остался только Павел Черных. Краснощёков обратился к нему с требованием выделить транспорт для поездки.
– Паровозов у меня нет, – спокойно отрезал комиссар безопасности пути. – Можно отцепить ваш и – пожалуйста! – езжайте.
Краснощёков побагровел – не от самого возражения, скорее от удивления, что его выдвиженец смеет возражать, – однако быстро одумался: вариантов-то не было. Но тут вмешался присутствовавший при разговоре Ван Сяосун:
– Товарищ Черных, у нас в депо стоит мотодрезина. Правда бензина нет.
– И бензина нет, и места на ней мало, – хмуро сказал Черных, явно недовольный инициативой Сяосуна.
– Мотодрезина? – насторожился Краснощёков. – Это что такое?
– Это тележка такая с бензиновым мотором. Обходчики путей на ней ездят. Ездили, – поправился Павел, – пока бензин не кончился. Там всего-то три места, а вам же охрана нужна. Дорога нонче стала опасна: белобандиты шастают. Товарищ Ван со своим отрядом китайских добровольцев еле справляется.
– Китайские добровольцы – это очень хорошо! – оживился Краснощёков. – Я получил указание от товарищей Ленина и Троцкого о привлечении китайских добровольцев в части особого назначения – для борьбы с контрреволюцией. Мы, конечно, уже привлекали, и китайские товарищи отлично сражались на Уссурийском фронте. И ваш отряд я помню по подавлению гамовского мятежа, да вы и сами там отличились. Так что я предлагаю, товарищ Ван, реорганизовать ваш отряд в часть особого назначения при Далькрайкоме. Правда я вас пока что плохо знаю, а точней – не знаю совсем…
– «Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей», – Сяосун улыбкой смягчил излишнюю назидательность суждения и добавил: – Так говорил Учитель, которого вы называете Конфуций.
– Да-да, – покивал Краснощёков, – слышали о таком. Однако вернёмся к дрезине. Бензин мы найдём. В Хабаровске думали забрать с собой автомобили, бензин погрузили, а машины не успели: слишком быстро объявились японцы. Давайте решать с охраной.
– Предлагаю, – быстро среагировал Сяосун. – К мотодрезине прицепить тележку, они тоже имеются – использовали для ремонтных грузов. На тележку поместится человека четыре. Поставить пулемёт – вот и охрана!
– А вы, товарищ Ван, рассуждаете прямо, как военный человек, – заметил Краснощёков. – В армии служили?
Сяосун решил идти в открытую: вдруг вздумают проверять и обнаружат умолчание.
– Служил. Но уволился.
– Уволиться может только офицер. В каком были звании?
– Майор.
– Ого! А происхождение? Помещик, чиновник?
– Сын сапожника.
– В Цинской империи сын сапожника не мог дослужиться до майора. – Краснощёков испытующе взглянул на молодого китайца. – Просто по определению.
Но Сяосун не смутился:
– Я служил после Синьхайской революции. Тогда можно было быстро продвинуться.
– Хорошо. А какова причина увольнения?
– Понял, что армия Китайской республики служит богатеям и продажным политикам. Мне ближе российская революция. Поэтому я вернулся в Россию. Я родился в Благовещенске.
– А-а, всё понятно. И твой русский язык – тоже. Извини, товарищ Ван, за этот допрос.
– Я понимаю. Чтобы доверять, надо знать.
– Вот именно. Ты меня убедил. Однако мы отвлеклись. Какова скорость мотодрезины? – спросил Краснощёков Черныха и пояснил: – На случай, вдруг бандиты окажутся конные.
– Наверняка конные, – подтвердил Павел. – А что касательно скорости дрезины – всё едино быстрей лошади. Без прицепа вёрст сорок в час, с прицепом… – он задумался, проворачивая в уме сложную задачу.
– Чуть поменьше, – пришёл на выручку Сяосун, – но всё равно достаточно.
– Отлично! А охрану обеспечите вы, товарищ Ван. Это будет первое задание вашей части особого назначения.
Через час по благовещенской ветке резво покатил крохотный поезд: мотодрезиной управлял личный шофёр председателя Далькрайкома Михаил Воеводин, рядом с ним восседал Краснощёков; на площадке прицепа поставили пять табуреток, четыре заняли китайские бойцы с винтовками, на пятой – в центре площадки – установили колесо в качестве турели, а на колесе – ружьё-пулемёт «льюис» (нашлось в совнаркомовском эшелоне, даже с запасными магазинами). За него на патронном ящике уселся сам Сяосун.
До станции Среднебелой всё шло, как по маслу. Дорога почти прямиком бежала по желтеющей пшеничными полями равнине, кое-где украшенной ярко-зелёными островками мелколесья и кустарников. За Среднебелой островки стали объединяться в рощи и подступать к полотну, и это не могло не вселять тревогу.
Сяосун приказал своим подчинённым быть настороже, а сам проверил все детали пулемёта, в первую очередь турель. Вроде бы всё в порядке, но он своим чутьём, необычайно обострившимся во время пребывания в рядах хунхузов, явно ощущал нараставшую угрозу. Когда за селом Берёзовка – это где-то на шестидесятом километре – дорога нырнула в настоящий лес, его словно ударили по голове: здесь! сейчас!
– Ложись! – скомандовал Сяосун. – Оружие к бою!
Китайцам дважды приказывать необходимости не было: они тут же распластались на площадке, выставив стволы винтовок в разные стороны.
Шофёр и Краснощёков за треском мотора команду плохо расслышали, начали оглядываться на прицеп, в этот момент из-за стволов деревьев вразнобой ударили выстрелы, и они тоже мгновенно очутились на полу дрезины, под слабой защитой сидений и ограждения. У Краснощёкова был маузер, но он, казалось, забыл о его существовании и, сидя на коленях, опустился ничком, прикрывая руками голову. Шофёр нажимал руками педали управления, стараясь повысить скорость мотодрезины, но она и так была на пределе.
Охранники, стерегущие левую сторону, спокойно и деловито стреляли из винтовок. Правосторонние следили за зарослями, держа их под прицелом. Сяосун, присев за пулемётной табуреткой, дал веером очередь по уровню человеческого роста, услышал вскрик – значит, хотя бы в одного попал – и прекратил огонь. Но не из-за попадания – в прогале меж деревьями он вдруг увидел голову кого-то из нападавших и неприятно удивился, потому что знал рыжий чуб и чёрную повязку на правом глазу.
Иван! Саяпин, дьявол его побери! Связался с беляками!
Засада осталась далеко позади. Шофёр и Краснощёков снова заняли свои места. Китайские бойцы сели на табуретки, обменивались впечатлениями о кратковременном бое. Колёса негромко постукивали на стыках рельсов, под их перестук Сяопин думал о своём старом друге-побратиме.
Видимо, допекло тебя, друг мой, вынужденное бегство на чужой берег. Да оно и понятно: без денег, без работы – а какую работу можно найти городовому казаку, который только и умеет воевать? Семью-то кормить надо! Ну, ладно, Кузе уже шестнадцать лет, может, возьмёт какой-нибудь лавочник на побегушки, а Настю с малышом – наверняка ведь уже родила! – куда определишь? Вот, выходит, и связался опять с Гамовым, с белыми! Илья докладывал, что там организовали Союз амурских казаков, уж, конечно, не для джигитовок и застолий. И засада эта, скорее всего, – начало новых военных действий в Амурской области. Гражданская война, о которой говорил полковник Кавасима.
Неизвестно, сколько бы ещё размышлял Сяосун о сложностях российской революции и перипетиях человеческой судьбы, но их маленький поезд пересёк Зею, а на станции Белогорье Краснощёкову вздумалось остановиться и заглянуть на телеграф, нет ли новостей. Оказалось, Далькрайком уже полмесяца не получал телеграмм – ни указаний из центра, ни ответов на свои донесения. Где-то на участке от Бочкарёва до Хабаровска была оборвана связь.
Сяосун пошёл с ним. Он ждал, что председатель что-нибудь скажет о происшествии, как-то оценит их действия, но тот был замкнут и, похоже, раздражён. Он стыдится своего поведения, догадался Сяосун, имеет маузер, но от страха забыл о нём и теперь не знает, как себя вести. Конечно, можно сказать, что в его страхе ничего особенного нет, только дурак не боится получить пулю, но вдруг это утешение озлобит его ещё сильнее? Навлекать на себя немилость начальства не входило в планы Сяосуна. Пожалуй, лучше делать вид, что ничего не произошло, а то, что произошло – в порядке вещей.
– Какие были телеграммы за последние две недели? – спросил Краснощёков телеграфиста, тщедушного человека лет тридцати.
– Я не имею права… – начал было телеграфист, но Сяосун бесцеремонно оборвал его:
– Перед тобой глава советской власти всего Дальнего Востока, так что выкладывай, что спрашивают.
– Всего три телеграммы. Одна из Читы, про ограбление Читинского банка и Горного управления. Грабила банда некого Пережогина. Взяли две с лишним тонны золота, четыре тонны серебра и несколько миллионов бумажных денег.
– Банду повязали? – спросил Краснощёков.
– Скрылась.
– Какие другие телеграммы?
– Со станции Урульга. Там прошла конференция советских работников, военных, профсоюзов. Двадцать седьмого августа атаман Семёнов взял Читу, а конференция была двадцать восьмого. Призвали Советы переходить к партизанской войне. А ещё прислали список каких-то лиц, которых следует арестовать.
– Покажите список.
– Пожалуйста, – телеграфист протянул моток телеграфной ленты.
Краснощёков нашёл начало и стал читать, разматывая ленту. Сяосун краем глаза видел текст: десяток незнакомых фамилий, но последней стояла – Пережогин, а она уже упоминалась.
Телеграфист словно почувствовал его заинтересованность.
– Говорят, Пережогин несколько дней назад прибыл в Благовещенск, – сказал он. – Гуляют, расплачиваются золотом, причём рубят его шашками на куски. А в лавках и магазинах много чего реквизируют. И не вздумай сопротивляться – могут пристрелить.
– Это кто ж такие страсти рассказывает? – с явной иронией спросил Краснощёков.
Телеграфист иронию уловил, ответил с обидой:
– Дядька мой вчера приехал. Самого едва не убили. Только тем и спасся, что с ними за анархию выпил.
– И не один раз, – добавил с усмешкой Сяосун.
– Жить захочешь – бочку выпьешь.
– Оставим досужие разговоры, – оборвал Краснощёков. – А что, в Благовещенске у советской власти не хватает сил справиться с бандитами? Позовите вашего дядьку, я хочу услышать от него, какая в городе ситуация.
Дядька, плохо проспавшийся после перепоя, через пень-колоду повторил слова племянника, а насчёт сил советской власти заявил, что она пытается урезонить Пережогина и даже единожды арестовала его, но тут же выпустила. Причём в его похмельном заявлении прозвучал почти нескрываемый восторг:
– Да и попробуйте заарестуйте такого бугая! Ростом в сажень, на поясе гранаты, за поясом револьверы, в руках – дубинка, которой он направо и налево плюхи отвешивает… И охрана кругом, в рваных тельняшках, все в пулемётных лентах с маузерами на боку… Ну, Мухин, конечно, милицию поднял, красногвардейцев, а банда на вокзале окопалась, отстреливается…
Больше из дядьки выжать ничего не удалось. Телеграфист сказал: ежели б ему поднесли стаканчик на опохмелку, он бы всё выложил, как на духу, но у Краснощёкова чудодейственного элексира не было, пришлось довольствоваться полученной информацией.
– Что делать? Какие будут предложения? – спросил председатель у Сяосуна, но заодно и у телеграфиста.
У племянника предложений конечно же не нашлось, а начальник охраны сказал:
– Надо переставить местами мотодрезину и платформу охраны и на полной скорости идти к вокзалу. Банда с тыла нападения не ждёт, используем эффект неожиданности.
– Верно мыслишь, майор. А с этими что делать? – кивнул Краснощёков на дядьку и племянника. – Вдруг позарятся на золото и телеграфируют банде, что мы идём на помощь Мухину?
– Запереть в каком-нибудь амбаре, а местному населению запретить их освобождать по крайней мере сутки.
– Лучше было бы расстрелять, – раздумчиво сказал Краснощёков. – Для надёжности. Мёртвым золото без надобности.
– Не надо нас расстреливать! – чуть не взвизгнул телеграфист. – У дядьки сараюшка пустая, заприте нас на замок, только не расстреливайте! Дядька, скажи, что у тебя дети малые, а я жениться хочу! Пожалейте, Христа ради!
Телеграфист упал на колени, стукнулся лбом об пол. Дядька осоловело глянул на него и бухнулся рядом. При этом из кармана его штанов выпал блестящий жёлтый кусочек. Краснощёков поднял его, осмотрел, хотел попробовать на зуб, но взглянул на грязные штаны дядьки и передумал.
– Похоже, и верно – золото. Нам бы ох как пригодилось! Вот хотя бы вам и вашим бойцам, – глянул на Сяосуна, – платить за службу. – Он ещё раз осмотрел бесформенный кусочек, сунул в свой карман и махнул рукой: – Ладно, чёрт с ними, пусть живут! Товарищ Ван, запри их понадёжней и собери местных, чтобы помогли переставить тележки.
Сяосуну понравилось, что председатель Далькрайкома не усомнился в его предложении, не занервничал, не стал праздновать труса – спокойно и деловито взял ситуацию в свои руки. Потому и команды его без колебаний стал принимать к исполнению.
8
На станцию Благовещенск они въехали, что называется, под шумок: шла такая отчаянная перестрелка между бандитами Пережогина и советской милицией, что на появление возле пассажирской платформы странного крохотного «поезда» никто не обратил внимания. Пережогинцы засели в здании вокзала, они выбили окна и вели огонь по милиции, которая устроила вокруг привокзальной площади баррикады; атаковать противника милиционеры не решались, видимо, собрались взять «на измор», то есть пока у противника не кончатся патроны.
Вокзал был красив, похож на дворец из сказки, но ни Сяосуну, ни Краснощёкову это было ни к чему. Для них вокзал явился чем-то вроде крепости, которую следовало взять и желательно без потерь. Со стороны платформы здание имело два входа – пассажирский двустворчатый и служебный, несколько окон разной высоты, похоже, никем не контролируемые, – и было ясно: надо проникать внутрь и действовать по обстановке. Сяосун указал своим бойцам на служебную дверь:
– Войти без шума и уничтожать всех, никого не жалея, пленных не брать. Кроме заложников, если такие найдутся.
Сам же снял пулемёт с «турели», повесил его на шею, приспособив поясной ремень, сунул за пазуху запасной магазин, махнул рукой Краснощёкову – дескать, давай за мной! – и бросился к двустворчатой выходной двери вокзала.
Нападение с тыла явилось для бандитов полной неожиданностью. Увлечённые собственной стрельбой, они не заметили появления за спиной узкоглазых бойцов в гражданской одежде и спохватились лишь тогда, когда от выстрелов в упор один за другим стали падать их увешанные оружием «боевые товарищи». Хватило двух десятков патронов из четырёх стволов, чтобы бóльшая часть банды была уничтожена.
Сяосун со своим ружьём-пулемётом и Краснощёков с маузером ворвались в вокзальный ресторан и увидели картину, достойную, как потом выразился председатель Далькрайкома, кисти художника-баталиста. В зале плавали облака сизого дыма, непрерывно гремели выстрелы. К трём большим окнам бандиты приставили столы, стоя на них и выглядывая из-за откосов, они вели огонь, даже не прицеливаясь. Посреди зала за столом, уставленным бутылками с яркими этикетками, стаканами и тарелками с разнообразной едой, восседал здоровенный детина в белой полотняной рубахе-косоворотке, перекрещенной ремнями портупеи; на седой кудрявой шевелюре красовалась широкополая шляпа, украшенная рыжим петушиным пером. Детина обедал. Это, без сомнения, был сам Пережогин. Возле стола суетился тонколицый парень в чёрном фраке и белой рубашке с галстуком-бабочкой – явно, ресторанный официант. Парень наполнял стаканы напитками из бутылок и подносил их стрелявшим бандитам; те отрывались на две-три секунды, чтобы опустошить стакан, и продолжали своё весёлое занятие.
Сяосун очередью, что называется «от живота», резанул по стрелкам возле окон, несколько пуль добавил Краснощёков, и наступила тишина. Пережогин с куском жареной курицы во рту остолбенел от неожиданности, но остолбенение длилось всего несколько секунд, после чего в его руках очутилось по браунингу, однако пустить их в ход бандит не успел: Краснощёков хладнокровно разрядил в него магазин маузера.
На привокзальной площади послышались крики «ура!», через минуту вокзал заполнился людьми с винтовками и красными повязками на левой руке. Увидев человека в кожанке, а рядом группу вооружённых китайцев без опознавательных знаков, многие тут же взяли их на прицел. Поднялся шум: кто, мол, такие, уж не бандиты ли, откуда взялись китайцы и тому подобное. Но сквозь плотный ряд красногвардейцев и милиционеров протиснулся человек – невысокий плотный, в потёртом пиджаке мастерового и кепке – и поднял руку:
– Тише, товарищи, тише!
Шум улёгся. Человек вынул и показал всем бумагу с печатью:
– Я – член военного комиссариата Мамонов, это мой мандат. А перед вами председатель Далькрайкома Советов товарищ Краснощёков. Вы что, не поняли, что товарищ Краснощёков со своей охраной только что уничтожили банду Пережогина и его самого? Они – герои, а вы их на мушку! Давайте проверьте, может, кто-то из бандитов просто ранен. Таких перевязать и арестовать! Действуйте, товарищи!
– Товарищ Мамонов, – вполголоса сказал Краснощёков, – мне необходимо срочно встретиться с товарищем Мухиным. У вас есть транспорт?
– Да, я приехал на извозчике, он ждёт на площади.
– Очень хорошо. А вы займитесь награбленным золотом, оно должно быть где-то тут. Товарищ Ван, ты – со мной, а твои бойцы пусть помогут товарищу Мамонову.
В бричке по пути в город Краснощёков неожиданно спросил Сяосуна:
– Ты состоишь в какой-нибудь партии?
– Нет, – невозмутимо ответил тот.
– А почему ты помогаешь нам? Ну, тебе нравится наша революция – это понятно. Но я знаю, что японские интервенты договорились с китайскими милитаристами о совместных действиях против советской власти в России. За Амуром собираются китайские войска, я бы сказал точнее: белокитайские войска, чтобы напасть на нас. И тебя они жалеть не станут.
– Как и я – их. А на вашей стороне, потому что я – за свободный Китай, против рабства и угнетения с любой стороны.
– Да, похоже, ты очень ценный кадр, товарищ Ван! – задумчиво сказал Краснощёков. – Советская республика обязательно будет налаживать отношения с Китайской, и такие люди, как ты, могут сыграть очень большую роль. Ты можешь продвинуться в России, а потом использовать свой опыт в Китае. Как ты отнесёшься к тому, чтобы вступить в партию большевиков? Я дам рекомендацию.
Сяосун сделал вид, что задумался, хотя на самом деле сердце радостно встрепенулось: вот они, открывающиеся возможности!
Краснощёков ждал, искоса поглядывая на своего охранника.
– Предложение неожиданное, – наконец сказал Сяосун, – но многообещающее. Для свободы Китая я готов отдать всего себя. Но мне хотелось бы работать по линии безопасности. Вы убедились, что я кое-что умею и смогу быть полезным советской власти.
– Вот и славно! – сказал Краснощёков. – Вместе мы её восстановим, нашу власть, на всём Дальнем Востоке.
9
– Мама, мама! – в распахнутую настежь дверь влетел Сяопин, высокий кудрявый золотоволосый юноша. – Мама, ты где?!
– Я в детской, – откликнулась Цзинь. – Что случилось?
– Меня зачислили!
Сяопин пробежал по квартире и остановился на пороге детской комнаты, где его девятилетняя сестра Госян делала уроки, а Цзинь переодевала четырёхлетнего Цюшэ.
– Меня зачислили, – повторил он. – Я – студент первого курса Пекинского университета. Поздравь меня, мама!
Цзинь, а за ней Госян, бросились обнимать Сяопина.
– Разрешите присоединиться? – знакомый всей семье баритон вызвал новый взрыв обнимашек.
– Папа, папа приехал!
Чаншунь едва успел поставить на пол чемоданчик, как был буквально облеплен детьми. Даже Сяопин, который был выше Чаншуня, и тот обнимал его так же крепко и возбуждённо, как маленькая тоненькая Госян, а совсем крохотный Цюшэ просто вцепился в ногу отца, обхватив её ручонками, и не двигался.
Чаншунь умоляюще смотрел на жену – «вмешайся, пожалуйста», – но та с улыбкой ждала естественного завершения церемонии «Встреча любимого главы семейства».
А вечером с поздравлением и корзинкой домашних пирогов, которые как нельзя кстати добавились к праздничному чаепитию, пришли Ваграновы, всё семейство: и Семён Иванович, и Мария Ефимовна и, конечно, четырнадцатилетняя красавица Лиза. Это ей, с детских лет своей подружке, Сяопин первой сообщил о зачислении. Он уже довольно сносно говорил по-русски, а Лиза – по-китайски: когда-то взаимное обучение было их игрой, а потом незаметно превратилось в необходимость. Сяопину понравилось учить, и он с удовольствием обучал китайскому Лизу и её родителей.
Семён Иванович уже вышел на пенсию, однако казачья кровь не позволяла ему гнуться под тяжестью лет, а потому старый путеец увлёкся садоводством по примеру агронома Прикащикова. Семён Иванович стал энтузиастом столь полезного дела, и корзинка с банкой вишнёвого варенья и десятком зимних груш, вручённая в подарок новоиспечённому студенту, подтверждала его успехи.
Мария Ефимовна из начальника узла связи доросла до руководства канцелярией Управления КВЖД, Цзинь была её подчинённой – руководила отделением по связям с китайским населением полосы отчуждения дороги. Маша слегка располнела, но это лишь добавило ей дружелюбия и весёлости. Эти качества своего характера она тут же обратила не только на Сяопина, которого любила, как родного сына и втайне прочила в женихи Елизавете, но и на нежданно приехавшего Чаншуня.
– Сявка, мой Сявка, – говорила она, прижимая к полной груди кудрявую голову парня, – какой же ты молодец! Правда мамке будет добавочная нагрузка – платить за твою учёбу, но я поговорю с Дмитрием Леонидовичем, чтобы ей повысили жалованье. Генерал наш – человек всенародный, не чета иным чиновникам, при нём вся дорога живёт сытно и спокойно.
– Да уж, не в России раздраенной живём, а в благословенной «Хорватии», – улыбаясь, сказал Семён Иванович.
Ваграновы говорили о генерал-лейтенанте Хорвате, управляющем Китайско-Восточной железной дорогой, и о полосе отчуждения дороги, подконтрольной России, которую какой-то остроумец прозвал «Счастливой Хорватией».
– Ему, пожалуй, не до жалованья какой-то рядовой сотрудницы, тем более руководителя марксистского кружка, – заявил Чаншунь, с удовольствием уплетая пирожок с капустой. – Очень вкусно, – пояснил удивлённой Маше, – соскучился в Японии по нормальной еде. А у генерала Хорвата новые заботы: он же объявил себя верховным правителем, но ведь это бремя потяжелей управления КВЖД.
– Во-первых, объявился временным верховным правителем, – возразила Мария Ефимовна. – До восстановления в России государственной власти. А во-вторых, он остался фактически управляющим и, насколько я знаю Дмитрия Леонидовича, не снимает с себя обязанности заботиться о подчинённых.
– Я слышала, у него какие-то неприятности, – осторожно сказала Цзинь.
– Не знаю, можно ли это назвать неприятностями, – вздохнула Маша. – Он согласился признать Сибирское правительство и омскую Директорию, а сам принял пост верховного уполномоченного по Дальнему Востоку. Можно сказать, тот же верховный правитель, но не всей России, а лишь Дальнего Востока, ну, естественно, и КВЖД.
– У нас есть поговорка: хрен редьки не слаще, – Семён Иванович помешал ложечкой в чашке, пригубил чаю и вкусно почмокал. Все ждали продолжения, и он закончил: – Что верховный России, что уполномоченный – генерал опирается на интервентов. Вспомните, как он призвал Чжан Цзолиня, чтобы разогнать советы?
– Советы устроили беспорядки на дороге, а генерал с помощью Чжана восстановил всё, как надо, и мы уже второй год живём без забот, – возразила мужу Мария Ефимовна.
– Ключевые слова – «с помощью Чжана», – неожиданно жёстко сказал Вагранов. – У генерала своих сил нет, выходит, он – марионетка, а марионетки во все века плохо заканчивают.
– А вдруг Сибирское правительство победит? – подал голос виновник торжества, до того втихомолку поглощавший с Лизой принесённые Ваграновыми вкусняшки.
– Вот когда победит, тогда и поглядим, – ответил Семён Иванович. – Думаю, ждать недолго: года два-три, от силы четыре, и эта политическая чехарда закончится.
Поздно вечером, когда гости ушли, а дети легли спать, Цзинь и Чаншунь остались вдвоём. Постель была расстелена. Цзинь быстро разделась, оглянулась на мужа, который сидел на краю кровати и странно выглядел каким-то потерянным. Видимо, несколько лет разлуки подействовали на него не лучшим образом, подумала она и не стала надевать, как собиралась, ночную рубашку: пусть вспомнит наши восторженные ночи!
А они, особенно первый год их семейной жизни, были, и верно, восторженными. Точнее, нежно-восторженными. Правда тогда в первую ночь скованной была она: ей почему-то было стыдно, что она старше Чаншуня на целых четыре года, что была невенчаной возлюбленной русского казака и родила от него сына, а потом были два года замужества за русским офицером, который очень хотел ребёнка, но она так и не смогла забеременеть. Наверно, потому, что он был старше на тридцать лет и, скорее всего, уже не мог иметь детей. Чаншунь с его робкой влюблённостью ей очень нравился, было приятно-радостно чувствовать себя любимой, она ждала и хотела близости, тем более, когда тебе двадцать пять лет, а ты уже два года не знала мужской ласки, но природная застенчивость связывала не только руки-ноги, но и язык, не давая произнести слова нежности, которая переполняла всё её существо. Однако покрывавший её поцелуями Чаншунь в какой-то момент нашёл губами особо чувствительную точку, и прикосновение к ней мгновенно сорвало, вернее испарило, все путы стеснительности и на них обрушился тот самый восторг, который окрашивал во все цвета радости почти каждую ночь первого года их семейной жизни. Потом родились дети, нежная восторженность поутихла, наступило время простого тихого счастья. А сейчас…
Цзинь, как была обнажённая, села на колени мужа, обняла – он неуверенно-вяло ответил, погладив её ладонью по спине. Она взъерошила его чёрную с проседью шевелюру – он уткнулся лицом в её грудь и осторожно прикоснулся губами к той самой точке; она вздрогнула и неприятно удивилась, что не почувствовала прежней вспышки возбуждения.
– Что с тобой, Чан? – спросила через силу, потому что ей не хотелось задавать такой вопрос: он таил в себе пугающую неизвестность. И тут же шутливо добавила: – Или тебе теперь больше нравятся японские женщины?
Он испуганно вскинул голову, впился взглядом в её лицо:
– Ты знаешь?!
– О чём? – она спросила машинально, хотя уже поняла, и от этого понимания всё внутри мгновенно заледенело.
Он не ответил.
Цзинь встала с его колен, прошлась по спальне, подбирая свою одежду. Надела шёлковый халат с драконами, изо всех сил затянула пояс и очнулась лишь тогда, когда не хватило воздуха для глубокого вдоха.
Она оглянулась на кровать – Чаншунь по-прежнему сидел, понурившись. Ей стало его жалко: герой Синьхая, командир гоминьдановского полка выглядел сейчас, как полураздавленная гусеница шелкопряда. Надо же, не смог два года прожить без женщины! Я-то ведь смогла – без него! А Ли Дачжан чуть ли не напрямую выражал желание и надежду! Стоило лишь согласно моргнуть.
– Так и будем молчать?
– Я не знаю, что сказать. – Чаншунь судорожно вздохнул, как ребёнок, готовый заплакать. – Тогда была вечеринка…
– Избавь меня от подробностей, – холодно оборвала Цзинь. Она и сама не ожидала от себя такой холодности – получилось помимо её воли, но отступать она не хотела. Было больно, сердце стучало так, что отдавалось в ушах, но Цзинь решила пройти путь на свою Голгофу до конца: не случайно же она приняла обряд крещения. – Скажи кратко: кто, когда и что думаешь делать дальше.
Чаншунь встрепенулся: требование краткости пробудило в нём военного.
– Она японка, преподаватель китайского языка, подруга Сун Цинлин, жены Сунь Ятсена. Случилось… – он замолчал, подбирая слово, с трудом продолжил: – это… год назад… Она предлагала мне остаться в Японии, но я отказался… Я не могу без вас… без тебя… Прости меня, Цзинь!
Цзинь слушала его, стоя у окна и глядя на расцвеченную огнями улицу. Вспоминала, как выглядела она, когда Василий Вагранов впервые привёл молодую жену и маленького Сяопина в эту квартиру. В то время улица была тусклой, мутной в жёлтом свете редких фонарей, а в душе, наоборот, разгорался огонёк счастливой радости: наконец-то они с сыном обретали настоящую семью! Потом были новые потери и годы одиночества, и новые надежды, связанные уже с любовью Чаншуня. А мир постепенно менялся – и весь Харбин, и эта улица – всё становилось ярче, нарядней, веселей, но сейчас… Чего сейчас стóит вся эта праздничность, когда мир в душе рушится, превращаясь в серую пыль?!
– Я вернулся к вам… Прости меня, Цзинь! – Чаншунь выкрикнул шёпотом, чтобы не разбудить детей, и Цзинь это оценила.
– Поступим так, – сказала она не шёпотом, но вполголоса: – Для детей мы по-прежнему одна семья. Этот дом – твой дом. А там – посмотрим.
– А как… мы будем спать?
– Кровать у нас одна, прогонять тебя не буду. Значит, будем спать вместе, но под разными одеялами.
Раньше они спали под одним, обнажённые, и Чаншунь говорил, что впервые узнал, как это прекрасно, а Цзинь, смеясь, отвечала:
– Если мужу нравится – так тому и быть всегда!
И вот это «всегда» кончилось.
10
В сентябре все советские фронты на Дальнем Востоке рухнули. По железной дороге от Хабаровска до Свободного двигались отряды японских, американских, русских и китайских войск под общим командованием генерал-майора Ямады. Красногвардейцы, красноармейцы, коммунисты и сочувствующие уходили в тайгу, туда же перебирались органы власти. Начиналась партизанская борьба с интервентами и белогвардейцами.
В ночь с 17 на 18 сентября из Благовещенска вверх по Зее вышел караван из пяти пароходов и семи барж под охраной канонерки «Орочанин». На них эвакуировался исполком Амурского областного Совета, военный комиссариат с подчинёнными ему подразделениями, советская милиция и другие работники органов власти. На одном из пароходов везли казну областного банка и, по народным сведениям, возвращённую добычу Пережогина.
Караван прошёл Белогорье и был на пути к Новопетровке, когда в Благовещенск с двух сторон – через Зею и Амур – вошли соединённые японо-китайские и белогвардейские, при значительном участии казаков, части. Японским отрядом из Сахаляна командовал генерал-майор Фунабаси, белогвардейцами – полковник Никитин, а из Хабаровска по Амуру пришёл отряд канонерок во главе с адмиралом Носэ.
В тот же день областная земская управа и правительство во главе с Алексеевским приступили к исполнению своих обязанностей. В состав правительства вошли Гамов и Никитин; полковник немедленно объявил Благовещенск на военном положении.
В город стали возвращаться бежавшие от большевиков предприниматели, владельцы магазинов и увеселительных заведений, врачи, учителя… Благовещенск пытался вернуться к прежней, досоветской жизни.
Состоялся очередной круг Амурского войска, и Гамов вновь был избран атаманом. Иван Саяпин стал членом войскового правления. В тот же день он перевёз Настю с Кузей и трёхмесячной Олей на русский берег, и все вместе они направились к дому Шлыков, где, по сведениям Ильи Паршина, жили две семьи – Елена с тремя сыновьями (считая Никиту и Федю) и двумя дочерьми (считая Машу) и Катя Паршина с пятимесячной Валей.
Они подошли сначала к пепелищу дома Саяпиных. Обнажили головы возле обугленных останков некогда крепкой усадьбы, простоявшей почти шестьдесят лет. Иван нашёл в укромном уголке кучку нетронутого пепла и ссыпал щепотку себе в кисет с табаком. Настя передала ему спящую Оленьку, порылась в заплечном мешке Кузьмы, нашла платок, набрала в него того же пепла и завязала узелком. Пояснила мужу:
– В походах будет с тобой. Табак с пеплом ты искуришь, а этот узелок будет у тебя, как ладанка, на груди – напоминать о дедуле и тяте с матушкой.
– Я их и так никогда не забуду, – голос Ивана пресёкся непрошеной слезой. – Мы не забудем и отомстим за них. Верно говорю, сынок?
Шестнадцатилетний Кузьма, рослый красавец с золотистым чубом, непокорно выбившимся из-под казачьей фуражки, поставил на землю объёмистый чемодан, который нёс от самой пристани, и перекрестился. Сначала – на пепелище, затем повернулся к недалёкой церкви Вознесения Господня и тоже возложил на себя крестное знамение.
Иван с удивлением следил за его действиями. Никогда за сыном он не замечал подобного рвения. Правда, в Сахаляне после погребения деда и родителей Кузьма задержался у священника, отца Паисия, да и после навещал, как объяснял, ради доброго наставления, чему ни отец, ни мать, конечно, не препятствовали, но чтобы так вот, с усердием, преклонять главу – чего ради? Господь, понятно, всеобщий Спаситель, живым иногда помогает, но вряд ли кого Он вернёт с того света.
– Идёмте, порадуем, кого сможем, – сказал Иван, не дождавшись ответа от сына, и пошёл впереди к воротам соседней усадьбы.
Встреча была, как и полагается, с криками, объятиями, поцелуями и слезами радости – только между Саяпиными и Черныхами. Катя Паршина с ребёнком на руках сидела в уголке возле печи, стараясь не привлекать внимания, однако Иван заметил её.
– Никак это Илюхино семейство? – слегка поклонился он в их сторону.
– Да, это – Катя с дочкой Валюшкой, – сказала Елена. Катя привстала и поклонилась всем. – Ой, что ж это мы кинулись обниматься, да с поцелуями, а гости не кормлены, не поены? Катюш, давай займись сосунками, устрой их наверху, а мы с Настей пока стол накроем.
За обедом первым делом помянули убиенных, вторым – Иван поднял стопку за окончательную победу над большевиками. Елена, а за ней Катя, пить не стали. Иван с Настей выпили, Иван со стуком поставил стопку на стол.
– Вы чё, за большевиков? – спросил с плохо скрытой угрозой.
– Нет, – ответила Елена, смело глядя брату в глаза, – но наши мужья служат у большевиков, и мы против них пить не будем.
– Какой же Илька большевик, ежели он у нас связным? – удивился Иван. Удивился и тут же задумался: кому же Паршин служит на самом деле и надо ли об этом сообщить тому же Гамову? – А Пашка чё у большевиков забыл?
– Спроси у самого при встрече, – Елена зло прищурила глаза. – Промежду прочим, эти самые большевики – Пашка с Илькой, а с ними Сяосун – спасли тебя и не дали надругаться над дедом и тятей с маманей.
– А кто их убил?! – у Ивана появилось яростное желания матерно выругаться, но он его подавил: за столом сидели дети – Кузя, Ваня, Федя и Никита, Лизу и Машу отправили к сосункам спать. – Кто… их… убил?! – повторил он шёпотом, отделяя каждое слово.
– Бандиты, – просто сказала Елена. – Нацепили красные повязки и пошли грабить и убивать. А их самих как раз наши мужья, – она усмехнулась, – большевики, и убили.
– Большевики и берут к себе на службу бандитов и всякое отребье. Посмотрел я на их реквизиции. Не хочет казак отдавать горбом нажитое – к стенке!
– Ты что же, братец, думаешь, что мой Паша или корефан твой Паршин будут братов своих, казаков, расстреливать?
– А ежели им прикажут: стреляй или сам к стенке встанешь? Тогда – как? А? Чего замолчали?
Иван налил себе водки, выпил, достал кисет и трубку, набил её табаком и закурил.
– Дети, давайте-ка спать, – сказала Елена. – Кузя, ты – самый старший, уложи всех и сам ложись. Наверху всё приготовлено. Кому-то придётся на полу.
– Я хочу на полу, – заявил Никита, его сразу перебили Федя и Ваня:
– Я, я хочу…
– Вот и хорошо, – подала голос Катя. – Все мальчики лягут на полу. Рядком, как китайцы на кане.
Кузя увёл братьев, Катя тоже ушла. За столом остались Иван с Настей и Елена. Настя прижалась к плечу мужа и, счастливая, закрыла глаза.
Елена вздохнула и накрыла ладонью большие руки брата, лежавшие на столе:
– Ты про Сяосуна ничего не слыхал?
– Слыхать не слыхал, но, кажись, видел.
– Как это?
Иван коротко рассказал про мотодрезину.
– Едва меня не подстрелил, чёрт косоглазый!
– А может, это и не он вовсе, – возразила Елена.
– Да нет, он! – уже более уверенно сказал Иван. – Как меня увидел, стрельбу прекратил.
– Вот видишь! Он, промежду прочим, когда тебя с Настей увозил на тот берег, ещё и коров, и свиней снарядил, чтобы вам пригодились для пропитания. А ты его во враги записал!
– Друг… враг! Нонеча поди-ка разбери. Вот Илья на том берегу крутился, вроде как связной, а кто он всамделе – никак не решу. Однако ж доносить не стану. Хотя… встренемся в бою – могу и убить. И он меня может. В бою, понимашь, Еленка, мерки иные. А касательно Сяосуна… Ежели он ехал в город, то, можа, и щас тута скрывается?
– Навряд ли, – неожиданно открыла глаза Настя. – На пристани говорили, что по Зее караван ушёл большевицкий. Золото увезли, скоко-то пудов.
Иван аж поперхнулся дымом, прокашлялся:
– Да-а, ихнее золото нам нонеча ой как бы пригодилось!
– Вам? – прищурилась Еленка. – Кому это – вам? Ты, братец, кем щас служишь?
– А тебе – зачем? – Иван пыхнул дымом в её сторону. – Для тебя я – родный брат, и ладно! Али чё проведать хошь?
– Очень нужно про тебя проведывать! – фыркнула Еленка. – Небось, сотню доверили – и гуляй, Ваня!
Иван хмыкнул:
– Сотню не сотню, а кой-чё доверили. Так что не переживай за одноглазого.
– Мне-то чё! Вон, пущай Настёна переживат, у меня есть за кого.
– Кстати, а где он, твой муженёк-бегунок? Чёй-то, как ни погляжу, он всё в бегах, – хохотнул Иван. – И когда только дитёв успеват делать?! Теперича, поди-ка, в тайгу подался?
– В тайгу? – удивилась сестра. – Чё ему там спонадобилось?
– А туда все большевики бегут. В партизаны. Думаю, и Сяосун с имя.
11
И то ли настолько глубоко Иван сокрушался, то ли у него была очень уж прочная мыслительная связь с побратимом, но Сяосун, собравшийся поужинать, вздрогнул от непонятной боли, прокатившейся волной в левой стороне груди. Он обретался со своими бойцами на пароходике «Брянта», куда загрузили всю наличность Амурского банка – золото, серебро и бумажные деньги, а вдобавок к этому – ящики с остатками читинского капитала, нерастраченными бандитами Пережогина.
Вся команда Сяосуна устроилась в трюме парохода, возле этих самых ящиков. Областной исполком хотел назначить на столь ответственное дело русских красногвардейцев, однако председатель Далькрайкома Краснощёков предложил китайцев и сумел отстоять своё мнение в яростном споре один на один с Фёдором Мухиным, председателем Амурского областного исполкома. Причём в качестве «убойного» аргумента Александр Михайлович допустил прозрачный намёк на уголовное прошлое большевика Мухина, когда тот был замешан и даже осуждён по делу фальшивомонетчиков и присвоения крупной суммы денег. Мол, не появилось ли желание в сложившейся ситуации вернуться к прошлому?
Обветренное и загорелое лицо Мухина побледнело:
– Партия меня оправдала. Эти деньги были предназначены для каторжан, которые трудились на колесухе из Благовещенска в Алексеевск. Напоминать об этом нечестно, товарищ Краснощёков. В твоей биографии тоже есть сомнительные загогулины, связанные с твоей американской жизнью.
Настала очередь Краснощёкова, только лицо его не побледнело, а заполыхало, как бы оправдывая фамилию. Крыть, однако, было нечем: да, эмигрировал в Америку, работал портным, но откуда-то нашёл деньги на обучение в школе права, а затем был успешным адвокатом.
– Я в Америке работал с товарищем Троцким, – заявил Александр Михайлович. – Мы основали Рабочий университет Чикаго. Я выступал с лекциями.
– Ладно, – сдался Мухин. – Товарищ Троцкий, конечно, авторитет. Пущай будет по-твоему. Сяосуна я знаю ещё по подавлению Гамова, надёжный товарищ. И в партизанской войне пригодится.
Сяосун, само собой, об этом разговоре ничего не знал, но он, как и Краснощёков, не доверял красногвардейцам, которые занимали всю верхнюю палубу. Борцы за народную власть получили двухдневные пайки, раздобыли где-то водки и теперь гуляли во всю широту русской души. Предлагали и китайцам, но Сяосун отказался наотрез и запер дверь в свой отсек трюма.
Судя по свету, проникавшему через два иллюминатора по бортам парохода, – смеркалось. На палубе пьяными голосами – не в строй, не в лад – пели «По диким степям Забайкалья». Кто-то, спускаясь, простучал сапогами по трапу, дёрнул дверь – заперто! – матюгнулся и вернулся на палубу. Вслед за тем что-то гулко ухнуло в воду, совсем рядом, – поток обрушился сверху, песня захлебнулась, сменившись криками: «Беляки!», «Японцы, мать их за ногу!», «Ложись!» – и снова ухнуло возле борта. Пароход завалился на другую сторону, дёрнулся, выровнялся, плицы колёс зашлёпали быстрее, судно повернуло в одну сторону, потом в другую, так, что Сяосуна бросало то к двери, то на ящики, взрывы слышались уже позади; в иллюминаторах неровно зарозовело.
– Что-то горит, – сказал Сяосун бойцам. – Пойду посмотрю. Заприте за мной дверь и никого не впускайте. Я постучу вот так, – он стукнул три раза, потом один и снова три.
Проверив, хорошо ли закрыта дверь, Сяосун поднялся на мостик. За штурвалом стоял парень в тельняшке и белой фуражке с кокардой; он улыбнулся Сяосуну и крутанул колесо штурвала.
– Хватит вилять, – сказал капитан, худой мужчина в морском кителе и чёрной фуражке. – Оторвались и слава богу. Давай к «Мудрецу»! – Он повернулся к Сяосуну. – Японцы захватили мост и пушку поставили. «Мудреца» подбили, горит. Идём спасать.
В полукилометре от «Брянты» горел двухпалубный пароход. В пламени пожара видно было, как мечутся по палубам люди, кто-то прыгает в воду, кто-то пытается спустить спасательный ялик. Оставшиеся пароходы спешили к пострадавшему.
– Нам нельзя туда идти, – сказал Сяосун. – У нас груз чрезвычайной важности и на борту людей больше, чем полагается.
– Но мы же не можем бросить их в беде. Русские своих не бросают, – возразил капитан.
– Это – демагогия! У меня приказ областного исполкома!
– А у меня – совесть человеческая!
Сяосун выхватил наган:
– Я вас расстреляю как контрреволюционный элемент!
Капитан ухмыльнулся:
– А кто поведёт пароход? Зея – река коварная, сесть на мель – плёвое дело, и ваш груз достанется япошкам.
Сяосун скрипнул зубами и убрал наган в кобуру:
– Ладно, делайте, что должны…
Закончить он не успел: в трюме раздались выстрелы и как бы издалека послышались крики по-китайски, вперемешку с русским матом. Сяосун бросился с мостика, на ходу снова вынимая наган. У трапа, ведущего в трюм, толпились красногвардейцы.
– Пропустите! – Сяосун выстрелил в воздух.
Красногвардейцы поспешно расступились, и он скатился вниз по трапу; толпа последовала за ним. У двери его отсека, расщеплённой пулями, выпущенными изнутри, лежали и стонали два окровавленных человека, третий не шевелился, возле его откинутой руки валялся пожарный ломик. Три ружья были прислонены к стенке рядом с дверью.
– Эй, вы живы? – крикнул Сяосун по-китайски.
– Живы, командир, – откликнулся кто-то из его бойцов. – Шао Минь ранен в плечо.
– Оставайтесь на своих местах, я тут разберусь.
Однако разобраться ему не дали.
– Братцы! – крикнул кто-то из-за спин столпившихся красногвардейцев. – Жёлтожопые наших братов убивают! За борт их! И золото будет наше!
Толпа угрожающе надвинулась на Сяосуна. Он впервые почувствовал смертельную опасность. «И что тебе это золото? – промелькнула мысль. – Твоя жизнь, жизнь твоих бойцов дороже». Но наперерез ей сверкнула другая: «А слово чести, данное тобой, – сохранить груз любой ценой, разве оно ничего не стоит?!»
Он выстрелил в потолок, но этого, похоже, никто и не заметил. То ли водка, которой красногвардейцы накачивались целый день, то ли накопившееся раздражение от поспешного бегства из города, то ли действительно жажда быстрого обогащения притупили у них чувство самосохранения – к Сяосуну потянулись десятки рук со скрюченными от желания схватить пальцами, он увидел не лица, а рычащие морды с оскаленными зубами, выпученные глаза, понял, что четырьмя оставшимися в нагане пулями их не остановить, – оставалась слабая надежда на приёмы шаолиньцюань, однако для них уже не было свободного пространства. Кто-то из красногвардейцев схватил за ствол стоявшее у стены ружьё и с хаканьем опустил приклад на голову Сяосуна. Фуражка немного смягчила удар, но его всё-таки хватило, чтобы вырубить сознание.
…Сяосун очнулся, когда, погрузившись с головой, хлебнул зейской воды. Заработав руками и ногами, выгреб на поверхность, осмотрелся. Чёрный силуэт «Брянты» уходил в сторону от догоравшего «Мудреца». Безлунная ночь уже вступила в свои права. Отсветы пламени ложились на воду и в их рассеянном свете Сяосун увидел, что поблизости никого нет. Похоже, что красногвардейцы решили, что он убит, и просто выбросили тело за борт. Сяосун вспомнил, как по Амуру плыли тела убитых его соплеменников, и тело перекрутила внезапная судорога. Как бы не утонуть после всего случившегося, подумал он, с трудом преодолевая спазмы мышц в руках и ногах. Справившись с судорогой, вспомнил Великого Учителя: «Хоть жизнь и не повязана бантиком, это все равно подарок». Интересно, что бы он сказал про моё положение? Всего лишь полчаса назад в моих руках были сотни, если не тысячи, лянов[8] золота и серебра, а сейчас я имею только то, что на мне, я не знаю, куда двигаться и что меня ждёт впереди…
Сяосун выбрал направление – в противоположную от пароходов сторону, поскольку берег не был виден – и поплыл, тихо благодаря Ивана Саяпина за то, что двадцать лет назад научил его плавать. О золоте он не думал – ему было только жаль своих бойцов: пьяная орда красногвардейцев вряд ли их пощадила. Думал он о другом – каким образом срочно добраться до Пекина, где Фэнсянь вот-вот должна родить, а он перед своим отъездом твёрдо обещал в эти дни быть рядом. Так что неожиданная расправа с ним красногвардейцев оказалась лишь на руку: он получил как бы незапланированный отпуск. А перед большевистским начальством – если оно к тому времени ещё будет существовать – как-нибудь оправдается. Скажет, что скитался в тайге, и это, в какой-то мере будет правдой, потому что как раз скитания и ждут его впереди.
Сяосун плыл по течению, понемногу подгребая к берегу. Отблески огня от горящего парохода остались далеко позади. А по берегам темно, хоть глаз выколи!
В воде было не холодно, однако, что ждёт его на берегу? В мокрой одежде на сентябрьском ветерке, пусть даже и несильном, – простуда, а то и воспаление лёгких, можно сказать, обеспечены.
Ноги коснулись дна, и что дальше делать?! Что тут скажешь, товарищ Кун-цзы? Где твоя мудрость? «Куда бы ты ни шел, иди со всей душой» или «Не жалуйся на холод окружающего мира, если сам не вложил в него ни капли тепла»? А может быть, вот это:«Некоторые люди наслаждаются дождём, другие просто промокают»? Нет, самое, пожалуй, подходящее: «Осень– то время года, когда люди должны согревать друг друга: своими словами, своими чувствами, своими губами. И тогда никакие холода не страшны»!
Сяосун брёл по мелководью к берегу, перебирая в уме суждения древнего мудреца. Все хороши, все подходят – вот только не подсказывают, как быть, как согреться.
Вышел на песок и пошёл дальше, совершенно не ориентируясь в темноте. Были бы звёзды, выбрал бы направление по Полярной звезде, но небо затянуло то ли тучами, то ли облаками – только осеннего дождя не хватает. Мелкого, долгого, промозглого!
По лицу ударили ветки. Ага, кусты, деревья – уже лучше! Среди них по меньшей мере теплее: какая-никакая, а защита от ветра.
Вслепую раздвигая ветви, Сяосун шагнул дальше – раз, два – и упёрся в какую-то преграду. Ощупал – доски, похоже, забор, ограда. Значит, рядом что-то жилое. Какое-то строение. Что может быть на берегу? Избушка рыбака? Вполне возможно. С хозяином или без него – всё равно спасение!
Ощупью вдоль забора Сяосун добрался до калитки, открыл и вошёл в ограду. Глаза приспособились и уже что-то различали. Песчаная дорожка была светлее, по ней дошёл до домика, нашёл дверь, постучал. Ответа не было. Постучал сильней – безрезультатно. Толкнул дверь – она открывалась внутрь, – и дверь подалась. Эх, спички бы! Он вошёл в темноту, нащупал справа стенку, ведя по ней рукой, дошёл до двери, под пальцами оказался висячий замок. Ну, это для него было пустяком! Удар ребром ладони – и замок открылся. Звякнул пробой, скрип давно немазанных петель показался музыкой пекинской оперы; пахнуло теплом.
