Дети с ОВЗ. Современные методы и формы работы и психологического сопровождения семей
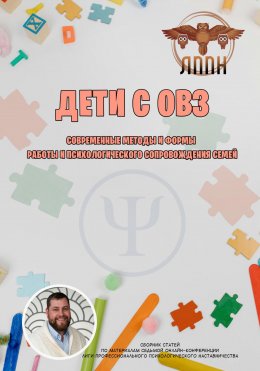
Публикации
Дети с ОВЗ. Современные методы и формы работы и психологического сопровождения семей
Седьмая Международная практическая ОНЛАЙН-конференция
Лиги Профессионального Психологического Наставничества
3 августа 2024 года
Сборник докладов
Смоленск 2024
Редакционный совет
Руководитель ЛППН, Сластихин В.И.
Руководитель направления «Дети с ОВЗ. Современные методы и формы работы и психологического сопровождения семей» ЛППН, Собенникова М.Д.
Руководитель направления «Психологическая лаборатория» ЛППН, Афанасьева А.С.
Дети с ОВЗ. Современные методы и формы работы и психологического сопровождения семей: Сборник докладов седьмой международной практической онлайн-конференции Лиги Профессионального Психологического Наставничества (ЛППН) Международной Профессиональной Ассоциации психологов (МПАП) 03 августа 2024 года / Под ред. В.И. Сластихина, А.С. Афанасьевой, М.Д. Собенниковой – Смоленск: Литрес, 2024.
Настоящий коллективный труд посвящен современным формам и методам психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и их семей, вопросам детской психологии и детско-родительским отношениям, современным методам, техникам и инструментам в работе психологов различных модальностей с детьми с ОВЗ и их семьями. В сборнике рассмотрены инструменты в практике психологического консультирования и психотерапии, получившие особую актуальность в последние десятилетия, которые представлены в виде докладов, статей стажерами ЛППН и членами МПАП.
Издание рассчитано, в первую очередь, на педагогов-психологов, специальных психологов, психологов консультантов, а также на широкий круг читателей, интересующихся теорией и практикой психологического консультирования и психотерапии.
Конференция была проведена силами ЛППН при поддержке МПАП.
Предисловие
Седьмая международная практическая онлайн-конференция Лиги Профессионального Психологического Наставничества раскрывает тему разнообразия методов, техник и инструментов в работе практического психолога и докладами психологов различных направлений и модальностей. В данной конференции приняли участие профессиональные психологи со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждая статья знакомит читателя с разными подходами и инструментами в области психологического консультирования и сопровождения семей с детьми с ОВЗ.
Все вопросы по публикации адресуйте руководителю Лиги Профессионального Психологического наставничества Сластихину Василию Ивановичу – клиническому психологу, семейному психологу, руководителю ЛППН, члену Международной Профессиональной Ассоциации Психологов (МПАП), члену Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, председателю альянса личного обучающего психотерапевтического сопровождения психологов «От сердца к сердцу». Контактную информацию и адреса в социальных сетях вы найдете в конце данного издания.
Сластихин Василий Иванович
Руководитель ЛППН
