Психология восточной религии
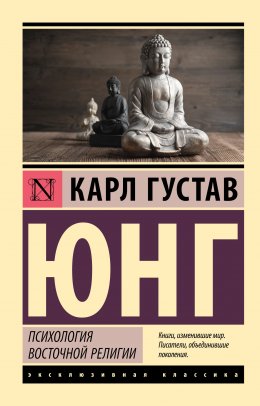
C. G. Jung
ZUR PSYCHOLOGIE WESTLICHER UND
OSTLICHER RELIGION
(Collected Works, Volume 11)
© Rascher & Cie. AG, Zurich, 1963
© Foundation of the Works of C. G. Jung, Zurich, 2007
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
Психологический комментарий к тибетской «Книге Великого освобождения»[1]
1. Различия между восточным и западным мышлением
Доктор Эванс-Венц[2] доверил мне прокомментировать текст, который наглядно выражает восточную «психологию». Уже тот факт, что мне приходится прибегать к кавычкам, показывает, что употребление данного слова видится довольно спорным. Пожалуй, не будет преувеличением заявить, что Восток не создал ничего подобного нашей психологии, ограничившись одной только метафизикой. Критическая философия, мать современной психологии, осталась для Востока столь же чуждой, какой она была для средневековой Европы. Потому-то слово «ум» на Востоке имеет исключительно метафизическое значение. Наше западное понимание разума утратило это значение за столетия после Средних веков, и сегодня мы говорим уже о «психической функции». Конечно, мы не знаем – и не притворяемся, будто знаем, – что такое «психическое», но все же мы в состоянии внести ясность в представление об «уме». Мы не считаем ум метафизической субстанцией, не верим в связь индивидуального ума с гипотетическим Вселенским разумом. Потому наша психология является наукой, изучающей наблюдаемые феномены, без каких бы то ни было метафизических воззрений. За последние два столетия западная философия в своем развитии преуспела в том, чтобы выделить уму собственную область бытия и разорвать его первобытное единство со Вселенной. Сам человек перестал быть микрокосмосом и подобием космоса, а его anima уже не воспринимается как единосущная scintilla (искра) мировой души – Anima Mundi.
Соответственно, психология трактует все метафизические положения и утверждения о духовных явлениях как высказывания об уме и его структуре, обусловленные в конечном счете некими бессознательными предрасположенностями. За этими высказываниями не признается абсолютная ценность, и вовсе не считается, будто они способны установить метафизическую истину. Мы не располагаем интеллектуальными средствами, которые позволили бы решить, правильна такая установка или ошибочна. Мы знаем лишь, что общезначимая достоверность любого метафизического постулата, – скажем, о Вселенском разуме, – не доказана и недоказуема. Когда наш ум заверяет в подлинности существования Вселенского разума, он просто делает некое утверждение. Мы нисколько не допускаем, что этим утверждением и вправду доказывается существование Вселенского разума. На подобные рассуждения нечего возразить, но доказательств, что наш вывод безусловно верен, тоже нет. Иными словами, наш ум с тем же успехом может быть и воспринимаемым проявлением Вселенского разума, но мы не знаем – и даже вообразить не в силах, – так это или не так на самом деле. Психология справедливо полагает, что ум не в состоянии ни описать, ни объяснить ничего, кроме себя самого.
Мирясь с ограничениями нашего ума, мы тем самым проявляем здравомыслие. В какой-то степени, согласен, мы идем на жертву, расставаясь с миром чудес, в котором живут и действуют созданные умом предметы и существа. В таком первобытном мире даже неодушевленные объекты наделяются животворной, исцеляющей, магической силой, посредством которой они соучаствуют в нашей жизни, а мы соучаствуем в их жизни. Рано или поздно, но пришло понимание того, что их власть есть наша собственная власть, а их реальная значимость есть результат нашей проекции. Теория познания – это всего-навсего последний шаг из юности человечества, из мира, где сотворенные умом фигуры населяли метафизические небеса и метафизическую преисподнюю.
При всей правоте этой неотразимой теоретико-познавательной критики мы упорно продолжаем придерживаться убеждения, что некий орган веры открывает человеку способность познавать Бога. Так на Западе появилась новая болезнь – конфликт между наукой и религией. Критическая философия науки сделалась, так сказать, негативно-метафизической, иначе говоря, материалистической, исходя из ошибочного суждения: материю сочли ощутимой и воспринимаемой реальностью, тогда как она – всецело метафизическое понятие, гипостазируемое некритическими умами. Материя – это гипотеза. Рассуждая о материи, мы фактически создаем символ для чего-то неведомого, каковое с равным основанием можно именовать «духом» или чем-то еще, даже, быть может, Богом. Религиозная вера, со своей стороны, отказывается отрекаться от своего докритического мировоззрения. Вопреки призыву Христа, верующие пытаются оставаться детьми, вместо того чтобы стать как дети. Они цепляются за мир детства. Один известный современный теолог в своей автобиографии признается, что Иисус был ему добрым другом «с самого детства». Иисус – это убедительный пример человека, который проповедовал нечто, отличное от религии предков. Но imitatio Christi, по-видимому, не подразумевает той духовной и умственной жертвы, которую пришлось Ему принести в начале своего пути и без которой Он никогда не стал бы Спасителем.
Конфликт между наукой и религией в действительности обусловлен превратным пониманием обеих. Научный материализм лишь гипостазировал нечто новое, впав в интеллектуальный грех. Он дал высшему принципу реальности другое имя и поверил, что тем самым было создано нечто новое и разрушено нечто старое. Называй мы принцип бытия Богом, материей, энергией или как-нибудь еще, мы ведь ничего не создаем – только меняем символ. Материалист – это метафизик malgre lui (вопреки всему). Вера же, со своей стороны, по чисто сентиментальным причинам пытается сохранить первобытное состояние ума. Она держится за первобытное, детское отношение к созданным умом и гипостазированным образам, она намерена и далее наслаждаться ощущением защищенности и прочности в мире, надзор за которым осуществляют могущественные, ответственные и добрые родители. Вера может включать и sacrificium intellectus, интеллектуальную жертву (при условии, что есть чем жертвовать), но никогда не жертвует чувствами. Потому-то верующие остаются детьми, вместо того чтобы стать как дети, – они не обретают жизнь, поскольку ее не теряли. Кроме того, вера сталкивается здесь с наукой и отвергает возможность участия в духовных исканиях нашей эпохи.
Любой, кто пытается мыслить честно, вынужден признать недостоверность метафизических воззрений – в особенности же всех вероисповеданий. Приходится признавать и недоказуемую природу всех метафизических положений, а также мириться с тем фактом, что способность человеческого рассудка вытаскивать себя за волосы из болота ничем не подтверждается. Так что крайне сомнительно, чтобы человеческий ум мог помыслить нечто трансцендентальное.
Материализм представляет собой метафизическую реакцию на внезапное осознание того, что познание есть духовная способность, которая становится проекцией, выходя за пределы человеческого. Эта реакция «метафизична» постольку, поскольку человек с посредственным философским образованием не смог разглядеть подразумеваемое гипостазирование, не заметил, что материя – лишь другое имя для высшего принципа бытия. А установка веры показывает, сколь неохотно люди принимают философскую критику и сколь велик страх перед необходимостью отказаться от защищенности детства, ринуться в чуждый и неведомый мир, где правят силы, которым человек безразличен. По сути, в обоих случаях ничего не меняется: человек и его окружение остаются на своих местах. Надо лишь увидеть, что человек заперт в своем психическом и никогда, даже в безумии, не может выйти за его пределы; что форма, в которой предстает мироздание или боги, во многом зависит от состояния его собственного ума.
Мне уже приходилось подчеркивать, что наши высказывания о метафизических вопросах обусловлены прежде всего устройством нашего ума. Нам также становится ясно, что интеллект – отнюдь не ens per se (нечто само по себе), не самосущая или независимая способность ума, что он представляет собой психическую функцию, зависимую от особенностей психики как целого. Философское утверждение выступает продуктом определенной личности, живущей в определенное время в определенном месте, не является результатом сугубо логического и безличного процесса; в этом смысле оно преимущественно субъективно. Обладает оно объективной значимостью или нет, становится понятным, когда выясняется, много или мало людей мыслит сходным образом. Изоляция человека в собственной психике вследствие теоретико-познавательной критики естественным образом влечет за собой психологическую критику. Такой вид критики не по душе философам, которые предпочитают видеть в философском интеллекте совершенный и непредвзятый инструмент. Впрочем, этот интеллект есть функция, зависящая от индивидуальной психики и определяемая со всех сторон субъективными обстоятельствами, помимо влияния окружения. Мы уже настолько свыклись с этой точкой зрения, что «ум» полностью утратил свой вселенский характер, сделался более или менее очеловеченной величиной, без каких бы то ни было следов прежнего метафизического и космического бытия в виде anima rationalis (рациональной души). Ныне ум понимается как нечто субъективное или даже произвольное. Ранее гипостазируемые всеобщие идеи суть, как стало очевидно, духовные принципы, и мы постепенно начинаем сознавать, до какой степени весь наш опыт постижения так называемой действительности является психическим: все мыслимое, чувствуемое и воспринимаемое – это психические образы, и сам мир существует лишь постольку, поскольку мы способны продуцировать картину мира. Мы настолько проникаемся самим фактом заточения в психическом и ограниченности им, что с готовностью относим сюда даже то, о существовании чего не ведаем; это мы называем бессознательным.
Мнимо всеобщая и метафизическая область ума сужается, таким образом, до маленького круга индивидуального сознания, остро воспринимающего свою почти безграничную субъективность и инфантильно-архаическую склонность к безудержному проецированию и созданию иллюзий. Некоторые научно мыслящие люди из страха перед неконтролируемой субъективностью жертвуют даже своими религиозными и философскими убеждениями. Восполняя утрату мира, который бурлил в нашей крови и которым мы дышали, мы воодушевленно принялись накапливать факты, целые горы фактов, необозримые для отдельного человека. Мы лелеем благочестивую надежду на то, что это случайное нагромождение вдруг превратится в осмысленное целое, но никто в этом не уверен, ибо никакой человеческий ум не в состоянии охватить всю гигантскую сумму знаний, производимых массовым порядком. Факты заваливают нас с головой, но всякому, кто отважится на спекулятивное мышление, придется заплатить угрызениями совести, – и по делу, ведь те же факты тотчас уличат его во лжи.
Западная психология понимает под «умом» духовную функцию психики. Ум есть «разумность», присущая индивиду. В области философии до сих пор можно встретиться с безличным Вселенским разумом, который предстает этаким реликтом изначальной человеческой «души». Такая картина наших западных воззрений, быть может, несколько драматична, однако, на мой взгляд, она не так уж далека от истины. Во всяком случае, нашему взору открывается нечто подобное, едва мы сталкиваемся с восточным образом мысли. На Востоке ум – это космический принцип, сущность бытия вообще, тогда как на Западе мы пришли к убеждению, что ум образует непременное условие познания, а следовательно, и мира как представления. На Востоке не существует конфликта между религией и наукой, ибо наука там зиждется не на пристрастии к фактам, а религия – на одной только вере: Востоку свойственно религиозное познание и познающая религия[3]. У нас человек несоизмеримо мал, и все происходит по милости Всевышнего, а на Востоке человек и есть Бог, который Себя Сам искупает. Божества тибетского буддизма принадлежат к области иллюзорной видимости и порождаемых умом проекций; тем не менее они существуют. У нас же иллюзия остается иллюзией, то есть, собственно, ничем. Парадоксально, но факт: мысль у нас не обладает достаточной реальностью, мы обращаемся с нею так, как если бы она была ничем. Пускай она оказывается верной, мы исходим из того, что она существует лишь посредством определенных, как говорится, сформулированных в ней фактов. При помощи этой вечно изменчивой фантасмагории воображенных мыслей мы можем создавать самые поразительные факты, вроде атомной бомбы, но нам кажется совершенно абсурдным, что кто-то может всерьез рассуждать о реальности самой мысли.
«Психическая реальность» является таким же спорным понятием, как «психика» и «ум». Оба последних толкуются то как сознание и его содержания, то так скопление «смутных», или «подсознательных» образов. Одни включают в область психического влечения и инстинкты, другие их исключают. Подавляющее большинство видит в психике результат протекающих в мозговых клетках биохимических процессов. Некоторые полагают, что психика обусловлена деятельностью клеток коры головного мозга. Другие отождествляют психику с «жизнью». Совсем немногие рассматривают феномен психического как бытие per se, извлекая отсюда неизбежные выводы и уроки. Разве не парадоксально, что к этой категории бытия, этому обязательному условию всякого бытия, а именно к психике, относятся так, словно она лишь наполовину реальна? На самом деле психическое – это единственная непосредственно данная нам категория бытия, ведь о чем-либо мы узнаем, когда это нечто является нам в качестве психического образа. Непосредственно достоверно только психическое бытие. По сути, мир вокруг существует постольку, поскольку принимает форму психического образа. Вот факт, до осознания которого Запад еще не дошел – за редкими исключениями, наподобие философии Шопенгауэра. Однако на Шопенгауэра оказали сильное влияние буддизм и Упанишады.
Даже поверхностного знакомства с восточной мыслью вполне достаточно, чтобы заметить фундаментальные различия между Востоком и Западом. Восток опирается на психическую реальность, то есть на психику как главное и единственное условие существования. Создается впечатление, что эта восточная интуиция – явление, скорее, психологического, душевного порядка, нежели результат философского размышления. Перед нами типично интровертная установка, в противовес столь же типично экстравертной точке зрения Запада[4]. Как известно, интроверсия и экстраверсия суть черты характера, свойственные темпераменту или даже конституции индивидуума; искусственно их внушить при обычных обстоятельствах невозможно. В исключительных случаях они могут вырабатываться усилием воли, но тут необходимы особые условия. Интроверсия, если можно так выразиться, является преимущественно «восточной» чертой, постоянной коллективной установкой, а экстраверсию можно назвать «стилем» Запада. На Западе интроверсия воспринимается как аномальное, болезненное и вообще недопустимое явление. Фрейд отождествляет ее с аутоэротическим складом ума. Его негативное отношение к интровертам разделяет национал-социалистическая философия современной (1939) Германии, обвиняющая интроверсию в подрыве чувства солидарности. С другой стороны, на Востоке заботливо лелеемая нами экстраверсия признается за обольщение чувственным, за существование в сансаре[5], как подлинная суть цепей ниданы[6], наивысшим проявлением которой служит бездна человеческих страданий[7]. Всякий, кто на практике сталкивался со взаимным смещением ценностей интроверта и экстраверта, без труда постигнет суть эмоционального конфликта между восточной и западной точками зрения. Ожесточенный спор об «универсалиях», ведущийся со времен Платона, станет поучительным примером для тех, кто знаком с историей европейской философии. Не стану вдаваться во все подробности конфликта между интроверсией и экстраверсией, упомяну лишь о религиозной стороне этого противостояния. Христианский Запад считает человека полностью зависимым от милости Всевышнего – или, по крайней мере, от церкви как единственного земного средства спасения, одобренного Божеством. Напротив, Восток упорно настаивает на том, что человек сам добивается самосовершенствования, потому что на Востоке верят в «самоспасение».
Религиозная точка зрения всегда выражает и формулирует сущностную психологическую установку с ее специфическими предубеждениями, свойственными даже людям, забывшим религию отцов или вовсе о ней не слыхавших. В психологическом отношении Запад, несмотря ни на что, насквозь пропитан христианством. Тертуллианово «anima naturaliter Christiana» («душа по природе христианка») верно для Запада, но не в религиозном, как считал мыслитель, а в психологическом смысле. Благодать исходит отовсюду, но непременно извне. Любой другой взгляд будет откровенной ересью. Потому-то становится ясно, отчего душа человека страдает от различных ощущений неполноценности. Всякий, кто отважится проводить связь между психикой и представлением о Боге, будет тотчас обвинен в психологизме или заподозрен в нездоровом мистицизме. Восток же, напротив, терпимо и сострадательно относится к тем «низшим» духовным ступеням, на которых человек, в полном неведении кармы, озабочен греховностью или терзает свое воображение верой в могущественных божеств, которые, загляни он поглубже, оказались бы всего-навсего пеленой иллюзий, сотканной его собственным непросветленным умом. Важнейшей на свете оказывается психика: это всепроникающее Дыхание, сущность Будды, самый ум Будды, Единое, дхармакайя[8]. Все живое проистекает из нее, и все множество форм вновь в ней растворяется. Это фундаментальная психологическая предпосылка, которая пронизывает природу восточного человека, определяя все его мысли, ощущения и поступки, к какой бы вере он себя ни причислял.
В свою очередь, западный человек – христианин, к какому бы вероисповеданию он ни принадлежал. В глубине души он чувствует, что человек так мал, что почти ничтожен; кроме того, как говорит Кьеркегор, «перед Богом человек всегда неправ»[9]. Своим страхом, покаянием, обетами, покорностью, самоуничижением, благими делами и славословиями он пытается умилостивить эту великую силу, которой оказывается не он сам, a totaliter aliter, Всецело Иной – единственно реальный, совершенно безупречный и пребывающий вовне Бог[10]. Чуть изменив эту формулу и подставив вместо Бога другую силу, например мир или деньги, мы получим законченный портрет западного человека – прилежного, боязливого, смиренного, предприимчивого, алчного и неистового в погоне за благами мира сего: собственностью, здоровьем, знанием, техническим мастерством, общественным положением, политической властью, жизненным пространством и т. п. Каковы мотивы великих переселений народов нашего времени? Это попытки отнять деньги или собственность у других и обеспечить неприкосновенность собственного имущества. Ум занят главным образом изобретением подходящих «-измов» для сокрытия истинных мотивов или умножения добычи. Воздержусь от рассуждений о том, что было бы с восточным человеком, позабудь он об идеале Будды, поскольку не хочу придавать своей западной предубежденности столь неправедную форму. Но все же я не могу не задаться вопросом, возможно ли, более того, желательно ли для обеих сторон подражать установкам друг друга? Различия между ними столь велики, что для возможности такого подражания, не говоря уже о его желательности, не видно никаких разумных причин. Нельзя соединить огонь и воду. Духовный склад Востока отупляет западного человека, и наоборот. Нельзя быть добрым христианином и спасать себя самому, а также нельзя быть Буддой и поклоняться Богу. Лучше всего принять этот конфликт таким, каков он есть, ибо рационального решения тут не существует.
Западу самой судьбой было предопределено познакомиться со своеобразием восточного духовного склада. Бесполезно пытаться восставать против этой судьбы или пытаться наводить шаткие, иллюзорные мосты через зияющую пропасть. Вместо заучивания духовных приемов Востока наизусть, вместо подражания им совершенно в духе imitatio Christi и принятия навязанной установки, гораздо важнее выяснить, нет ли в нашем бессознательном интровертной склонности, подобной той, что стала руководящим духовным принципом Востока. Тогда мы смогли бы заняться строительством на нашей почве и нашими методами. Перенимая же такие предметы напрямую с Востока, мы тем самым просто потакаем своему западному стремлению к стяжательству, вновь убеждаясь в правиле, что «все благое приходит извне», откуда его следует добывать и перекачивать в наши пустые души[11]. На мой взгляд, мы действительно научимся чему-либо у Востока, когда поймем, что в психическом достаточно богатств, чтобы не занимать извне, и когда ощутим в себе способность развиваться изнутри – по воле Божьей или без нее. Однако мы не сможем пуститься в это дерзкое предприятие, не поняв прежде, как действовать без духовной гордыни и кощунственной самоуверенности. Восточная установка опровергает специфически христианские ценности, и ни к чему игнорировать данный факт. Если мы хотим, чтобы наша новая установка была подлинной, чтобы она опиралась на нашу собственную историю, нужно принимать ее при полном осознании христианских ценностей наряду с конфликтом между этими ценностями и интровертной установкой Востока. Нужно добираться до восточных ценностей изнутри, а не извне, искать их в себе, в своем бессознательном. Тогда мы обнаружим, сколь велик наш страх перед бессознательным и сколь сильно наше сопротивление. Из-за этого сопротивления мы сомневаемся именно в том, что кажется таким очевидным Востоку, а именно – в способности интровертированного ума к самоосвобождению.
Эта сторона ума практически неизвестна Западу, притом что она составляет важнейшую часть бессознательного. Многие отрицают существование бессознательного как таковое или утверждают, что оно состоит якобы лишь из влечений, либо из вытесненных и забытых содержаний, бывших ранее частью сознания. Мы вправе заявить, что восточному понятию «ума» соответствует, скорее, именно «бессознательное», а не «ум» в нашем понимании, который более или менее тождественен сознательности. Сознательность же для нас немыслима без «Я». Она равнозначна соотнесенности содержаний с «Я». Без «Я» нет и того, кто мог бы что-то осознавать. Поэтому «Я» необходимо для процесса осознавания. Напротив, восточному складу ума совсем нетрудно вообразить сознание без «Я». Оно считается способным выходить за пределы «Я» – состояния, причем в «высших» формах «Я» и вовсе исчезает. Такое лишенное «Я» психическое состояние для нас может быть только бессознательным, по той простой причине, что у этого состояния нет никакого очевидца. Я не сомневаюсь в существовании психических состояний, превосходящих сознание. Выходя за его пределы, эти состояния, впрочем, утрачивают свою сознательность. Невозможно представить себе сознательное состояние психики, которое не соотносилось бы с субъектом, то есть с «Я». Последнее можно ослабить, лишив его, например, ощущения тела, но до тех пор, пока имеет место хоть какое-нибудь восприятие, должен быть и тот, кто воспринимает. Бессознательное же есть такое психическое состояние, о котором «Я» не знает. Лишь опосредствованно и постепенно мы начинаем осознавать, что бессознательное существует. У душевнобольных можно наблюдать проявления бессознательных фрагментов личности, отторгнутых от сознания пациента. Но нет никаких доказательств тому, что эти бессознательные содержания соотносятся с неким бессознательным центром, аналогичным «Я»; наоборот, имеются основания полагать, что такого центра попросту нет.
То обстоятельство, что Восток способен столь просто избавиться от «Я», свидетельствует, по-видимому, об уме, который нельзя отождествлять с нашим «умом». Разумеется, на Востоке «Я» не играет такой роли, как у нас. Восточный ум, похоже, менее эгоцентричен, как если бы его содержания более вольно соотносились с субъектом, а значимыми признавались те состояния, в которых «Я» заметно ослаблено. Создается впечатление, что особо полезным средством усмирения «Я» и обуздания его непокорных желаний служит хатха-йога[12]. Несомненно, высшие формы йоги, предполагающие достижение самадхи[13], нацелены на создание таких психических состояний, в которых «Я» практически растворяется. Сознательность в нашем смысле слова ценится довольно низко, это состояние авидьи (неведение), а то, что мы называем «темным основанием сознания», на Востоке понимается как «высшая» ступень сознательности[14]. Следовательно, наше понятие «коллективного бессознательного» оказывается европейским аналогом бодхи, просветления ума.
Ввиду всего сказанного восточная форма «сублимации» равнозначна изъятию психического центра тяжести из «Я» – сознания, которое занимает промежуточное положение между телом и идеационными процессами психики. Более низкие, наполовину физиологические уровни психики подчиняются аскезе, то есть «духовным упражнениям», тем самым попадая под контроль. Они отнюдь не отрицаются и не вытесняются усилием воли, как это обычно делается в ходе западной «сублимации». Эти низшие уровни психики, скорее, приспосабливаются и перестраиваются в ходе упорных занятий хатха-йогой до тех пор, пока не перестают мешать развитию «высшего» сознания. Этому своеобразному процессу способствует, по-видимому, то обстоятельство, что «Я» и его желания сдерживаются посредством внимания, придаваемого обычно Востоком «субъективному фактору»[15]. Это «темное основание сознания», или бессознательное. Для интровертной установки характерно, как правило, обращение к априорной апперцепции. Как известно, акт апперцепции состоит из двух этапов – собственно восприятия объекта и последующего включения этого восприятия в уже сложившийся образ или понятие, благодаря чему объект и «постигается». Психика не является небытием, лишенным каких бы то ни было качеств; это система, образованная при определенных условиях и особым образом откликающаяся. Любое новое представление, будь то восприятие или спонтанная мысль, пробуждает ассоциации, извлекаемые из кладовых памяти. Ассоциации тотчас возникают в сознании, продуцируя комплексный образ «впечатления», хотя на самом деле правильнее говорить об истолковании. Бессознательная предрасположенность, от которой зависит качество впечатления, и служит тем самым «субъективным фактором», как я его называю. Он заслуживает определения «субъективный», поскольку объективность при первом впечатлении не достигается почти никогда. Чтобы видоизменить и приспособить непосредственные реакции субъективного фактора, необходим обыкновенно довольно трудоемкий процесс проверки, сравнения и анализа.
Несмотря на стремление экстравертной установки рассматривать субъективный фактор как «всего лишь» субъективный, это важное значение отнюдь не сводится к личностному субъективизму. Психика и ее структура вполне реальны. Как уже говорилось, они даже способны трансформировать материальные объекты в психические образы. Воспринимаются не колебания воздуха, а звуки, не волны разной длины, а цвета. Все существующее таково, каким мы его видим и понимаем. Есть великое множество того, что возможно видеть, ощущать и понимать очень по-разному. Невзирая на обилие сугубо личностных предрассудков и предпочтений, психика принимает в себя внешние факты по-своему, опираясь при этом, в конечном счете, на некие законы или основные схемы апперцепции. Эти схемы неизменны, пусть в разные эпохи и в разных частях света их могут называть по-разному. На первобытной стадии развития люди боятся колдунов; в условиях современной цивилизации мы испытываем не меньший страх перед микробами. Раньше все верили в духов, а теперь все верят в витамины. Раньше люди были одержимы бесами, а ныне они ничуть не меньше степени одержимы идеями, и так далее.
Субъективный фактор складывается в конечном счете из вневременных схем психического функционирования. Поэтому каждый, кто полагается на субъективный фактор, исходит из реальности этих психических предпосылок. Вряд ли он при этом ошибается. Если так ему удастся расширить свое сознание вниз и соприкоснуться с основополагающими законами душевной жизни, он окажется обладателем истины, естественным образом присущей психике, если она не искажена непсихическим, внешним воздействием. Во всяком случае, такая истина потянет на весах не меньше, чем сумма знаний, добываемых исследованием внешней среды. Мы на Западе верим, что истина убедительна лишь тогда, когда она может быть подтверждена внешними фактами. Мы верим в предельно точное наблюдение и изучение природы; наша истина должна согласовываться с поведением внешнего мира, в противном случае она «всего лишь субъективна». Подобно тому, как Восток отвращает взор от танца пракрити[16] (physis, природа) и многообразных иллюзорных форм майи, Запад чурается бессознательного с его бесполезными фантазиями. Однако Восток, при всей своей интровертности, отлично умеет взаимодействовать с внешним миром, а Запад, несмотря на свою экстравертность, способен откликаться на потребности психики. В его распоряжении есть институт церкви, которая с помощью обрядов и догматов придает зримое выражение неизвестным человеку сторонам души. Естествознание и современная техника ни в коей мере не являются чисто западными изобретениями. Правда, их восточные аналоги немного старомодны или даже примитивны. Но наши достижения в области психологической техники и проницательности выглядят по сравнению с йогой такими же отсталыми, какими предстают восточная астрология и медицина в сравнении с западной наукой. Я вовсе не отрицаю действенность христианской церкви, но, сравнивая «Упражнения» Игнатия Лойолы с йогой, всякий поймет, о чем я говорю. Различия очевидны, причем значительные. Прыгать прямо с этого уровня в восточную йогу не более разумно, чем стремиться в одночасье сделать азиатские народы полуиспеченными европейцами. Блага западной цивилизации видятся мне крайне сомнительными, но и по поводу присвоения Западом восточной духовности я испытываю схожие сомнения. Впрочем, эти два несовместимых мира все равно встретились. Восток полностью преобразуется, претерпевая необратимые и губительные изменения, и там старательно воспроизводят даже новейшие европейские методы ведения войны. Что касается нас, то наши беды представляются, скорее, психологическими. Наша погибель – идеологии, это и есть давно ожидаемый Антихрист! Национал-социализм близок к тому, чтобы стать религиозным движением, как никакое другое народное движение после 622 г.[17]
