Сюжет
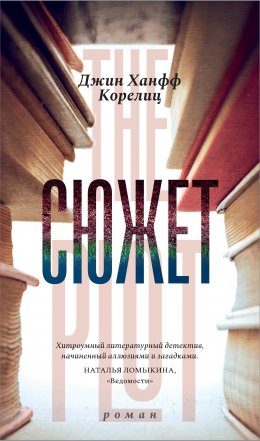
Jean Hanff Korelitz
The Plot
В оформлении обложки использованы материалы Shutterstock
Copyright © 2021 by Jean Hanff Korelitz
© Дмитрий Шепелев, перевод, 2022
© Livebook Publishing, 2024
Часть первая
Глава первая
Каждый может быть писателем
Джейкоб Финч-Боннер, подававший некогда надежды автор «Изобретения чуда» («нового и неординарного» романа, согласно «Книжному обозрению „Нью-Йорк Таймс“»), вошел к себе в кабинет на втором этаже корпуса Ричарда Пенга, поставил потертый кожаный портфель на пустой стол и огляделся с затаенным отчаянием. За четыре года преподавания он успел сменить четыре кабинета в этом здании, мало чем различавшихся между собой, разве что из окна четвертого была видна вполне себе академическая аллея, а не парковка, как из окон двух предыдущих, и не помойка, красовавшаяся под окном первого; (самое смешное, что он тогда был, можно сказать, на вершине литературной карьеры и мог бы рассчитывать на что-то более презентабельное). Единственным предметом в кабинете, хоть как-то намекавшим на литературу (и вообще живое и личное), был потертый портфель, в котором Джейк с давних пор носил ноутбук, а в тот конкретный день – еще и работы своих студентов. Этот портфель он купил на барахолке незадолго до публикации своего первого романа, решив, что тот добавит трогательный штрих к его портрету: «успешный молодой романист не расстается со старой кожаной сумкой, верно служившей ему на пути к славе!» Но мечта о славе давно осталась в прошлом. А если он еще и продолжал надеяться на что-то, у него все равно не было повода тратиться на новый портфель. Больше не было.
Корпус Ричарда Пенга – малосимпатичное здание из белого пенобетона, расположенное позади спортзала, рядом с общежитиями для «девчонок» – возник в кампусе в 1960-е, когда колледж Рипли стал принимать студентов обоих полов; одним из первых в Америке, отдадим ему должное. Ричард Пенг был студентом-технарем из Гонконга, и хотя он, по всей вероятности, испытывал бо́льшую признательность за свой дальнейший успех к Массачусетскому технологическому институту, который окончил после колледжа Рипли, МТИ отклонил его предложение о постройке «корпуса-имени-меня», во всяком случае, за ту сумму, которую тот был готов пожертвовать. Первоначально корпус Ричарда Пенга предназначался для научно-технических программ, о чем красноречиво говорили такие детали, как большие неуютные окна вечно пустого вестибюля, длинные безлюдные коридоры и, собственно, бездушный пенобетон. Но после того, как в 2005 году колледж Рипли распрощался с точными науками (как и со всеми научно-техническими программами, не исключая и общественных наук) и перепрофилировался, выражаясь словами попечительского совета, «на изучение и развитие искусств и гуманитарных наук, стремительно теряющих значение в современном мире, который так в них нуждается», корпус Ричарда Пенга был отдан под очно-заочную программу магистратуры художественной литературы, поэзии и автобиографической прозы (мемуаров).
Вот так в корпусе Ричарда Пенга, в кампусе колледжа Рипли, в причудливом краю на севере штата Вермонт, достаточно близко к пресловутому «Северо-восточному королевству»[1], нашли пристанище писатели, чтобы перенять кое-что от его эксцентричности (с 1970-х эту область облюбовала одна немногочисленная, но стойкая христианская община), но не настолько далеко от Берлингтона и Хановера, чтобы считаться медвежьим углом. Конечно, курсы писательского мастерства преподавались в колледже уже в 1950-е, но тогда никто не относился к ним всерьез, и меньше всех – попечительский совет. Однако всем учебным заведениям, не желавшим вылететь в трубу, приходилось как-то приспосабливаться по мере того, как в стране менялся культурный фон и студенты все настойчивей выдвигали требования; пришло время, и стали котироваться такие дисциплины, как феминология, афроамериканистика и информатика, подтверждавшая, что компьютеры – это вещь. Когда же Рипли ощутил на себе большой кризис конца 1980-х и окинул сложившуюся ситуацию трезвым и крайне тревожным взглядом, оказалось, что спасение с наибольшей вероятностью обещает – сюрприз! – писательское мастерство. И была открыта первая (и пока единственная) аспирантура по писательскому мастерству, получившая название Симпозиумов Рипли, которые через несколько лет практически поглотили весь колледж, так что, в итоге, все, что от него осталось, – это очно-заочная программа, наиболее удобная для студентов, не желавших все бросать ради двухгодичной магистратуры в области изящных искусств. Да никто этого и не ждал! Писательское мастерство, как гласил глянцевый проспект и многообещающий веб-сайт колледжа Рипли, вовсе не являлось элитарным занятием, доступным лишь немногим избранным. Напротив, каждый человек обладал уникальным голосом и собственной историей, которую никто, кроме него, не мог поведать миру. И каждый – особенно при поддержке Симпозиумов Рипли – мог быть писателем.
Всю свою жизнь Джейкоб Финч-Боннер хотел быть только писателем и никем иным, начиная с детства на задворках Лонг-Айленда, последнего места на свете, откуда мог бы выйти серьезный автор. Тем не менее, именно там судьба-насмешница определила ему появиться на свет, единственному ребенку в семье налогового адвоката и школьного психолога. Почему Джейк увидел свою звезду на маленькой, невзрачной книжной полке районной библиотеки, обозначенной «Авторы Лонг-Айленда!», оставалось лишь гадать, но это не осталось незамеченным в доме новоявленного писателя. Его отец напирал на то, что писательством сыт не будешь («Писатели денег не зарабатывают! Кроме Сидни Шелдона. Ты что, решил стать новым Сидни Шелдоном?»), а мать при каждом удобном случае, то есть постоянно, напоминала ему о том, что предварительный экзамен на определение академических способностей выявил у него самые средние (читай, посредственные) навыки владения устной речью. Джейк ужасно комплексовал из-за того, что знал математику лучше, чем родной язык. Он должен был преодолеть досадные препятствия, но где вы видели художника без препятствий? Все свое детство и отрочество он упорно читал (не просто упорно, но придирчиво и завистливо), пренебрегая основными школьными предметами и избегая обычных подростковых соблазнов, чтобы лучше подготовиться к ожидавшему его соперничеству. А после школы поступил в Уэслиан[2], изучать писательское мастерство, и попал в тесный коллектив протороманистов и авторов рассказов, не меньше его одержимых своим призванием.
Какие только мечты не лелеял молодой Джейкоб Финч-Боннер о своей будущей книге. (Заметим, что фамилия Финч-Боннер была отчасти псевдонимом: веком ранее прадед Джейка по отцу, звавшийся Бернстайном, решил стать Боннером, а Финча присовокупил уже сам Джейк, в знак признательности к роману, пробудившему в нем любовь к литературе[3].) Бывало, он представлял, что сам написал свои любимые книги, и мысленно давал о них интервью критикам и обозревателям (всегда смиренно принимая расточаемые похвалы) и проводил читки перед внушительной, алчно внимавшей ему публикой в книжном магазине или лекционном зале. Он спал и видел свою фотографию на заднем клапане суперобложки (в образах, давно вышедших из моды: «писатель за пишущей машинкой» или «писатель с трубкой») и представлял, как сидит за столом, от которого змеится очередь читателей, и подписывает свои книги.
«Благодарю, – искренне говорил он каждому (и каждой!) из них. – Так приятно это слышать. Да, у меня она тоже одна из любимых».
Нельзя было сказать, что Джейк только и делал, что витал в облаках. Он понимал, что книга сама себя не напишет и что ему придется потрудиться (напрячь воображение, приложить усилия, развить навыки), чтобы стать настоящим писателем. Он также понимал, что у него не будет недостатка в конкурентах: многие молодые люди питали не меньшую страсть к книгам и хотели писать их, и он допускал, что кто-то из них мог быть даже талантливей его, обладать более ярким воображением или хотя бы большим упорством. Такие мысли не приносили ему радости, но, к счастью, он был объективен к себе. Он понимал, что не сможет преподавать английский в государственной школе («если писательство не выгорит») или поступить в юридический колледж («да ладно?»). Он понимал, что избрал свою стезю и пошел по ней, и не собирался останавливаться до тех пор, пока не возьмет в руки свою книгу – и вот тогда весь мир узнает то, что сам он знал давно:
Он – писатель.
Великий писатель.
Во всяком случае, он к этому стремился.
Джейк перебрался в новый кабинет в корпусе Ричарда Пенга на исходе июня, когда Вермонт без малого неделю не просыхал от дождей. Войдя в кабинет, Джейк заметил, что наследил по всему коридору, опустил скорбный взгляд на свои кроссовки – почти не ношеные, еще недавно белые, теперь же побуревшие от влаги и грязи – и решил, что снимать их уже смысла нет. Несколько часов он провел за рулем, по пути из города, с двумя пластиковыми сумками, набитыми одеждой, и этим старым кожаным портфелем, в котором лежал почти такой же старый ноутбук с набросками его нового романа – романа, над которым он теоретически (но не практически) работал – и папки с работами его студентов, и Джейк подумал, что всякий раз, как направляется на север, в Рипли, берет с собой все меньше багажа. В первый-то год… Большой чемодан, набитый одеждой (как знать, какой образ мог пригодиться в течение трех недель в северном Вермонте, в окружении непременно благоговейных студентов и столь же непременно завидующих коллег?) и напечатанными сигнальниками его второго романа – он любил периодически сокрушаться на публике о нетерпеливом издателе. А теперь? Два скромных пластиковых пакета с джинсами и рубашками, и ноутбук, нужный ему, в основном, для заказа еды и просмотра ютьюба.
Если он не бросит эту депрессивную работу еще год, он, вероятно, вообще перестанет брать ноутбук.
Джейка отнюдь не радовала перспектива скорой сессии Симпозиумов Рипли. Как не радовала и скорая встреча со скучными, занудными коллегами (среди них были и писатели, но никто не вызывал у него неподдельного восторга) или наигранный энтузиазм при знакомстве с очередной оравой студентов, каждый из которых был твердо уверен, что однажды напишет – если уже не написал – Великий Американский Роман.
А главное, его не радовала перспектива и дальше изображать из себя писателя, да еще выдающегося.
Не стоило удивляться тому, что Джейк никак не готовился в преддверии Симпозиумов Рипли. И даже не открывал неприятно пухлых папок с работами своих студентов. Когда он только начал преподавать в Рипли, он убедил себя, что достойным дополнением к образу «великого писателя» будет образ «великого учителя», и уделял самое пристальное внимание письменным работам этих ребят, плативших немалые деньги, чтобы учиться у него. Но папки, которые он сейчас доставал из портфеля, папки, которые он должен был начать читать несколько недель назад, когда получил их от Рут Стойбен (весьма саркастичной заведующей Симпозиумов), успели проделать путь от ящика срочной почты до нового кабинета, ни разу не обнажив перед ним своих бумажных тел, а тем более душ. Теперь же Джейк смотрел на них недобрым взглядом, предчувствуя тягостный вечер, словно они были виновны в его прокрастинации.
Ну серьезно, что такого ценного могло его поджидать в этих папках с проекциями чьих-то внутренних миров, настойчиво продолжавших стекаться в северный Вермонт, заполняя стерильные аудитории корпуса Ричарда Пенга и этот самый кабинет, за несколько дней до начала индивидуальных занятий? Его новые студенты, эти пылкие неофиты, ничем не будут отличаться от своих предшественников: довольных жизнью профессионалов, убежденных, что смогут штамповать приключенческие романы в духе Клайва Касслера, мамочек, ведущих блоги о своих детишках и уверенных, что им с радостью доверят писать тексты для программы «Доброе утро, Америка», и пенсионеров, решивших «вернуться к писательству», не сомневаясь, что писательство их ждет не дождется. Но хуже всех были те, что напоминали Джейку его самого – «прирожденные романисты», донельзя самоуверенные, считающие себя лучше всех. Если новым Клайвам Касслерам и мамочкам-блогершам еще можно было внушить, что Джейк – знаменитый или хотя бы «весьма престижный» молодой (точнее, «моложавый») романист, то будущие Дэвиды Фостеры Уоллесы и Донны Тарт – могли ведь такие оказаться среди его студентов? – не купились бы на это. Такие сразу поймут, что Джейкоб Финч-Боннер выдал с горем пополам один хороший роман, не сумел написать достойного второго, не говоря о третьем, и теперь прозябает в этаком чистилище для подававших надежды писателей, и вряд ли ему дано вернуться в обойму. (На самом деле Джейк написал-таки третий роман, но предпочитал помалкивать об этом, пока не найдет издателя, готового за него взяться. Да, он написал третий роман и даже четвертый, но эти рукописи, на создание которых он положил без малого пять лет своей жизни, отвергали один за другим самые разные издатели, от именитых до безвестных, от «проверенного» издателя «Изобретения чуда» и респектабельного академического издателя «Ревербераций», до бессчетного множества мелких издателей, списки которых помещаются на задней обложке альманаха «Поэтов и писателей»; Джейк в свое время потратил круглую сумму, чтобы войти в их ряды, но остался с носом. Учитывая эти удручающие обстоятельства, он предпочитал, чтобы его студенты считали, что он все еще трудится над своим мифическим титаническим вторым романом.)
Даже не читая работ новых студентов, Джейк чувствовал, что уже знает их так же хорошо, как и их предшественников, то есть лучше, чем бы ему хотелось. Он, к примеру, знал, что представления авторов о своей одаренности сильно завышены, однако их тайные страхи о своей бездарности, скорее всего, оправданы. Он знал, что они хотят получить от него нечто такое, что он был совершенно не способен им дать, и ему не хотелось притворяться. Он также знал, что никто из них не добьется успеха и что после того, как они попрощаются с ним по прошествии трехнедельного курса, он их больше никогда не увидит и не вспомнит. И это на самом деле было все, чего он от них хотел.
Но для начала он должен был рассказать им свою профессиональную сказку о том, что все они и сам он могут чему-то научиться друг у друга, поскольку все они «коллеги-по-искусству», что у каждого из них есть свой уникальный голос и неповторимая история, которую они в состоянии рассказать, а потому каждый из них заслуживает называться этим волшебным словом – писатель.
Был уже восьмой час, а дождь не прекращался. К тому времени, как Джейк увидит своих новых студентов следующим вечером, на гостеприимном пикнике, он должен будет расточать улыбки и искриться воодушевлением, как подобает настоящему наставнику, чтобы ни у кого из новых участников Симпозиумов Рипли, видящих себя магистрами изящных искусств, не возникло сомнений, что «одаренный» («Филадельфия Инкуайрер») и «многообещающий» («Бостон Глоуб») автор «Изобретения чуда» обладает всем необходимым, чтобы ввести их в Шангри-Ла литературной славы.
К сожалению, единственный путь туда лежал через эти двенадцать папок.
Джейк включил стандартную настольную лампу Ричарда Пенга и уселся в резко скрипнувшее стандартное кресло Ричарда Пенга, после чего долго всматривался в грязную полосу по краю пенобетонной отделки на стене рядом с дверью, до последнего оттягивая тот муторный момент, когда он откроет первую папку и поймет, что его ждет ужасный вечер.
Сколько раз, оглядываясь на тот вечер, последний вечер, который он будет вспоминать как «до всего этого», он пожалеет, что допустил такую грубую, фатальную ошибку? Сколько раз, несмотря на то что одна из этих папок приведет его к баснословному богатству, он пожалеет, что не вышел из безликого кабинета, не прошел обратно по коридору, не сел в машину и не проделал долгий путь до Нью-Йорка, к своей заурядной, неудавшейся жизни? Столько, что и не счесть. Но было уже слишком поздно.
Глава вторая
Блондин с открывашкой
К тому времени, как следующим вечером начался приветственный пикник, Джейк был на последнем издыхании. Он проспал не больше трех часов, но заставил себя явиться на факультетское собрание и задремал во время ритуальной речи Рут Стойбен о моральном кодексе колледжа Рипли в отношении сексуальных домогательств. Однако он был рад узнать, что в этом году его избавят от студентов, считающих себя поэтами, – их переведут к учителям, также считающим себя поэтами (Джейк не представлял, что полезного он может дать начинающим поэтам, зная из личного опыта, что поэты нередко читают прозу, тогда как прозаики почти никогда не читают поэзию, хотя нередко врут об этом), так что теперь он мог быть уверен, что все его двенадцать студентов будут прозаиками. Но что за прозу они писали! В течение ночного читательского марафона «Ред Булл окрыляет» Джейк ознакомился с сочинениями, в которых повествование скакало так, словно рассказчик был блохой, прыгавшей с одного персонажа на другого, а рассказы (или… главы?) были такими вялыми и вместе с тем лихорадочными, что подразумевали… в худшем случае, ничего, а в лучшем – не пойми что. Времена путались в пределах параграфов (иногда – в пределах предложений!), а отдельные слова использовались так произвольно, что автору не мешало бы уточнить их значение. Некоторые были настолько не в ладах с грамматикой, что Дональд Трамп у них получался похожим на Стивена Фрая, и едва ли не все строили предложения, которые нельзя было охарактеризовать иначе, как самые заурядные.
Чего только не было в этих папках: шокирующая история нахождения полуразложившегося трупа на пляже (груди трупа описывались – смех сквозь слезы – как «спелые дыньки»); выспренный рассказ о том, как автор путем генетической экспертизы выяснил, что он «частично африканец»; унылое описание жизни матери и дочери в старом доме; начало романа о бобровой плотине «в глухой чащобе». Какие-то из этих сочинений даже не пытались прикидываться литературой, и Джейк мог легко разделаться с ними – достаточно было вычленить основную идею и сделать элементарную правку красным карандашом, чтобы оправдать свою зарплату и отстоять профессиональную честь; но другие, более умышленно «литературные» работы (из числа, как ни странно, самых безграмотных) грозили вывернуть ему душу. Он это знал. Он уже это чувствовал.
К счастью, факультетское собрание оказалось не таким уж мозговыносящим. Вернувшаяся профессура Симпозиумов Рипли неплохо ладила между собой и, хотя Джейк не мог сказать, что по-настоящему дружил с кем-то из них, у него сложилась традиция один раз за сессию пропускать по пиву в студенческом кафе с Брюсом О’Райли, профессором английского на пенсии из Колби, написавшим полдюжины романов, изданных независимой прессой в его родном Мэне. На этот раз Джейк заметил двух новеньких в переговорной комнате Ричарда Пенга: взвинченную поэтессу по имени Элис, примерно его ровесницу, и некоего Фрэнка Рикардо, который представился «мультижанровым» писателем, причем свое имя он произнес с таким нажимом, словно остальные должны были – или, во всяком случае, могли – его знать. Фрэнк Рикардо? Джейк с некоторых пор (с тех самых, как понял, что никто не хочет издавать его четвертый роман) перестал следить за новыми писателями – это причиняло ему боль – и не мог вспомнить, чтобы хоть что-то слышал о Фрэнке Рикардо. (Разве Фрэнк Рикардо выиграл Национальную книжную премию или Пулитцера? Или первый роман Фрэнка Рикардо взлетел на верхнюю строчку списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» по единодушному выбору читателей?) После того, как Рут Стойбен закончила свои наставления и прошлась по учебной программе (каждодневной и еженедельной, включая вечерние читки, сроки сдачи письменных работ и сроки награждения по итогам сессии Симпозиумов), она всех отпустила, напомнив с ехидной ухмылкой, что преподавателям не обязательно являться на приветственный пикник. Джейк метнулся к выходу, пока никто из коллег – знакомых или новых – не заговорил с ним.
Он снимал жилье в нескольких милях к востоку от Рипли, в доме у дороги, носившей название Аллея бедноты. Дом принадлежал местному фермеру (точнее, его вдове), и из его окон открывался вид через дорогу на заброшенный амбар, когда-то дававший приют молочному стаду. Теперь вдова превратила фермерский дом в детский сад, а землю сдавала в аренду одному из братьев Рут Стойбен. Она призналась Джейку, что написание книг для нее – это нечто непостижимое, как и курсы писательского мастерства (и кто только готов платить за это?), но она сдавала ему комнату с первого его года в Рипли; Джейк был тихим, вежливым и ответственным постояльцем – такого еще поискать. Чтение студенческих работ затянулось до четвертого часа ночи, а проснулся Джейк за десять минут до начала факультетского собрания. Вернувшись с собрания, он задернул шторы, повалился на кровать и проспал до пяти вечера, после чего надел рабочее лицо и отправился знакомиться со студентами.
Барбекю проходило на лужайке колледжа, вблизи первых корпусов Рипли, выстроенных в классическом стиле и – в отличие от корпуса Ричарда Пенга – радовавших глаз. Джейк положил себе на бумажную тарелку курицу и кукурузный хлеб и направился к холодильнику, намереваясь угоститься «Хайнекеном», но неожиданно путь ему преградила чья-то фигура, и длинная рука, густо покрытая светлыми волосками, проворно влезла в холодильник.
– Извини, старик, – сказал незнакомец, сомкнув пальцы на горлышке вожделенной бутылки.
– Окей, – сказал Джейк непроизвольно.
Такой ничтожный момент слабости. Джейку вспомнились типичные комиксы о качках на зад-них страницах старых журналов: качок на пляже швыряет ногой песок в лицо дрищу. Ну и что сделает дрищ? Конечно, пойдет в спортзал и тоже накачается. Этот тип – среднего роста, русоволосый, широкоплечий – уже отвернулся и, запрокинув голову, глотал пиво. Джейк так и не рассмотрел его лица.
– Мистер Боннер.
Джейк обернулся. К нему обращалась женщина. Та самая, новенькая, с утреннего факультетского собрания. Элис как-ее-там. Взвинченная.
– Привет. Элис, да?
– Элис Логан. Ага. Просто хотела сказать, как же мне нравится ваша книга.
Джейк ощутил легкое покалывание, как бывало почти всякий раз, когда кто-нибудь говорил такое. Можно было не сомневаться, что под «книгой» Элис имела в виду «Изобретение чуда», размеренный роман о молодом человеке по имени Артур, жившем, как и сам Джейк, на Лонг-Айленде. Однако образ Артура, чья зачарованность жизнью и идеями Исаака Ньютона проходила красной линией через весь роман, ограждая его от хаоса бытия, вызванного внезапной смертью брата, Джейк отнюдь не списал с себя. (У Джейка не было ни брата, ни сестры, и он мало что знал о жизни и идеях Ньютона до того, как взялся за этот роман, так что ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы создать правдоподобный образ!) «Изобретение чуда» действительно пользовалось читательским спросом, и Джейк полагал, что до сих пор этот роман вызывает интерес у читателей, любящих хорошую прозу, которая не только развлекает, но и развивает. Но ни от кого, ни единого раза Джейк не слышал слов «мне нравится ваша книга» в отношении «Ревербераций» (сборника рассказов, отвергнутого издателем «Чуда», но великодушно принятого издательством Государственного университета Нью-Йорка – весьма уважаемым академическим издательством! – под хитрым определением «роман в рассказах»), несмотря на то, что бесчисленные экземпляры этой книги Джейк не поленился разослать различным обозревателям (ни одной рецензии в результате).
По идее, он должен был радоваться тому, что даже через столько лет кто-то все еще хвалил его первый роман. Но почему-то почувствовал себя хуже некуда. Впрочем, дело было не только в романе. Они с Элис уселись за один из пластиковых столиков. Джейк, пережив поражение под «Хайнекеном», пренебрег возможностью взять другой напиток.
– Он такой мощный, – сказала Элис, продолжая хвалить роман. – А вам тогда было… сколько? Двадцать пять, когда написали его?
– Примерно, да.
– Что ж, мне снесло крышу.
– Спасибо, так приятно это слышать.
– Я прочитала ваш роман, когда писала диссертацию. Я даже думаю, мы учились по одной программе. Только в разное время.
– О?
Программа, по которой учился Джейк – и, очевидно, Элис – не относилась к этому новому «очно-заочному» типу, а представляла собой более классический вариант «забудь о личной жизни и посвяти себя искусству на два года», и, откровенно говоря, имела несравненно больший вес в академическом сообществе, чем программа Рипли. Та программа, проводимая под эгидой Среднезападного университета, с давних пор выпускала поэтов и романистов первого порядка для американской словесности, и конкурс туда был таким, что Джейку понадобилось три года (в течение которых он смотрел, как его обходят куда менее талантливые друзья и знакомые), чтобы его приняли. Те три года он прожил в мизерной конуре в Квинсе, работая на литературное агентство с уклоном в научную фантастику и фэнтези. Было похоже, что научная фантастика и фэнтези – Джейк всегда прохладно относился к этим жанрам – привлекали высокий процент, скажем прямо, отшибленных начинающих авторов; хотя, честно говоря, сравнивать Джейку было не с чем, поскольку все солидные литературные агентства, куда он обращался после колледжа, не пожелали воспользоваться его услугами. ООО «Фантастические форматы», состоявшее из двух человек, располагалось в Адской кухне[4] (если быть точным, в задней комнатушке квартиры-анфилады в Адской кухне) и имело клиентскую базу, включавшую порядка сорока писателей, большинство из которых уходили в более крупные агентства, как только добивались малейшего признания. Работа Джейка состояла в том, чтобы напускать на таких неблагодарных писак адвоката, охлаждать по телефону пыл новоявленных авторов, норовящих пересказать свою десятитомную эпопею (написанную или только задуманную), а главное, читать бесчисленные рукописи о дистопических альтернативных реальностях в глубинах космоса, сумрачных тюремно-лагерных учреждениях в недрах земли и отрядах постапокалиптических повстанцев, стремящихся свергнуть садистских диктаторов.
Один раз Джейк раскопал нечто перспективное – роман об отважной молодой женщине, которая сбегает из инопланетной исправительной колонии на каком-то межгалактическом мусоровозе, обнаруживает в грудах мусора колонию мутантов, воспитывает из них грозную армию и ведет в бой – и сообщил своим боссам. В романе чувствовался явный потенциал, но два неудачника, на которых работал Джейк, не восприняли его слова всерьез, и рукопись пылилась у них несколько месяцев. В итоге, он махнул на них рукой, а через год прочитал в «Вэраети[5]», что агентство «ИКМ» продало права на эту книгу киностудии «Мирамакс» (при участии Сандры Буллок), после чего аккуратно вырезал статью. Через полгода, когда он получил свой счастливый билет на вечеринку магистров изящных искусств, он уволился – О счастливый день! [6] – и положил вырезанную статью, приколотую к пыльной рукописи, на стол одному из боссов. Он сделал то, за что ему платили деньги. У него был нюх на хорошую идею.
В отличие от многих однокурсников, писавших магистерские диссертации (у некоторых уже имелись публикации, в основном, в литературных журналах, но в одном случае – к счастью, то был поэт, не прозаик – в гребаном «Нью-Йоркере»!), Джейк не тратил впустую ни минуты из тех двух чудесных лет. Он прилежно посещал все семинары, лекции, читки, конференции и неформальные встречи с издателями и агентами из Нью-Йорка, и сумел избежать повальной (притом что надуманной) заразы под названием «творческий кризис». Когда Джейк не был в классе или лекционном зале, он писал, и за два года набросал свой первый роман – будущее «Изобретение чуда». Он сделал эту работу темой своей диссертации, подал заявки на все подходящие премии, какие предлагала программа, и выиграл одну из них. Но, что еще важней, обзавелся агентом.
Элис, как выяснилось, прибыла в кампус Среднезападного через пару недель после отбытия Джейка. В следующем году, когда она там училась, было издано «Изобретение чуда», и на доске, обозначенной «Публикации наших выпускников», появилась обложка романа.
– То есть это же круто! Всего через год после программы.
– Ну да. Мощная вещь.
Это повисло между ними каким-то неловким грузом. Наконец Джейк сказал:
– Значит, вы пишете стихи?
– Да. Вышел первый сборник прошлой осенью. В «Университете Алабамы».
– Поздравляю. Хотел бы я больше читать поэзии.
На самом деле, он этого не хотел, но он хотел хотеть, а это уже было что-то.
– Хотела бы я написать роман.
– Ну, может, еще напишете.
Элис покачала головой. Она словно… смешно было думать об этом, но она словно флиртовала с ним. Чего ради?
– Да ну, что вы. То есть я люблю читать романы, но написать хотя бы строчку – это для меня уже предел. Не могу представить, как писать страницы за страницами, не говоря о персонажах, которые должны казаться живыми, и истории, которая должна удивлять. С ума сойти, что люди способны на такое. И даже не раз! То есть вы ведь вторую книгу написали, да?
«И третью, и четвертую», – подумал он.
И даже пятую, если считать наброски на ноутбуке, на которые Джейк не смотрел уже почти год. Он кивнул.
– Что ж, когда я получила эту работу, вы оказались единственным человеком на факультете, кого я знаю. То есть чье творчество я знаю. Я подумала, что раз вы тут, то место нормальное.
Джейк осторожно откусил кукурузный хлеб, сухой, как и следовало ожидать. Он не слышал подобных похвал от братьев (или сестер) по перу уже пару лет и поразился, как быстро на него нахлынули знакомые дурманящие чувства. Вот что значит, когда тобой восхищаются, тем более со знанием дела, когда кто-то полностью понимает, как трудно написать удачное и непостижимо прекрасное предложение! Когда-то он думал, что каждый день будет слышать подобные похвалы – не только от коллег-писателей и преданных читателей (его трудов, неизменно возрастающих в численности и совершенстве), но и от студентов (в программах получше этой), которые будут в восторге оттого, что их наставник/учитель по писательскому мастерству – Джейкоб Финч-Боннер, признанный молодой романист. И все будут рады выпить с ним по пиву после учебы!
Не то чтобы Джейк пил пиво со своими студентами.
– Что ж, приятно слышать, – сказал он Элис с заученной скромностью.
– Осенью у меня начнется преподавательская стажировка в Хопкинсе, но я никогда не преподавала. Это может оказаться мне не по зубам.
Он посмотрел на нее и почувствовал, как стремительно тает его более чем скромный запас доброжелательности. Стажировка в Хопкинсе – это не хухры-мухры. Вероятно, Элис получила грант, подразумевающий, что ей удалось обойти не одну сотню других поэтов. И публикация в университетском издательстве наводила на мысль о премии, ведь только ленивый из будущих магистров не подает на них заявки. По всему выходило, что эта девчонка, Элис, та еще штучка, во всяком случае, в поэтических кругах. Мысль об этом совершенно лишила Джейка присутствия духа.
– Уверен, вы справитесь, – сказал он. – В крайнем случае, просто хвалите их. За это ведь нам платят большие бабки.
Он осклабился. И почувствовал себя дураком.
Элис, после секундного колебания, тоже осклабилась, и ей передалось чувство неловкости.
– Эй, вам это нужно? – раздался чей-то голос.
Джейк поднял взгляд. Лицо говорившего – вытянутое, со светлой челкой, нависавшей над томными глазами – было ему незнакомо, но он узнал его руку, указывавшую на что-то. Проследив за пальцем с довольно острым ногтем, Джейк увидел на клетчатой красно-белой скатерти открывашку.
– Что? – сказал Джейк. – А, нет.
– Потому что люди ее ищут. Она должна быть там, у холодильника.
В его голосе слышалась явная претензия: Джейк и Элис, какие-то левые людишки, лишили этого самородка, проникшего в самое сердце Симпозиумов Рипли, и его друзей, несомненно талантливых студентов, возможности воспользоваться этим незаменимым устройством, чтобы отведать желанных напитков.
Ни Элис, ни Джейк ничего не сказали на это.
– В общем, я ее возьму, – сказал блондин и подтвердил слово делом.
Двое преподавателей молча смотрели в спину удалявшейся фигуре среднего роста, русоволосой и широкоплечей, триумфально потрясавшей открывашкой.
– Однако, – нарушила Элис молчание, – прелестно.
Этот парень проследовал к столику, облепленному молодыми людьми – они сидели не только на стульях, но также на скамейках и шезлонгах. Не успела начаться сессия, а эти новички уже утвердились в образе альфачей и, судя по их радостным возгласам при виде блондина с открывашкой, они избрали его своим вожаком.
– Надеюсь, он не окажется поэтом, – сказала Элис со вздохом.
А Джейк подумал, что это очень маловероятно. Буквально все в этом жеребце кричало: ПРОЗАИК. Пусть Джейк и затруднялся определить конкретный подвид:
1. Великий американский романист.
2. Автор бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».
Или весьма редкий гибрид…
3. Автор великих американских бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».
Другими словами, норовистый добытчик похищенной открывашки мог метить либо на нового Джонатана Франзена, либо на нового Джеймса Паттерсона, но с практической точки зрения разница была невелика. Рипли не делил своих студентов на серьезных писателей и беллетристов, а это означало, что завтра утром у Джейка были все шансы увидеть у себя на семинаре этого выскочку. И он ничего не мог с этим поделать.
Глава третья
Эван Паркер / Паркер Эван
Джейк не ошибся: в десять утра блондин вошел вальяжной походкой с остальными студентами в кабинет 101 (переговорную комнату на первом этаже) и скользнул безразличным взглядом по дальнему краю длинного стола, где сидел Джейк, не выказав ни малейшего уважения к тому, кто очевидно представлял собой здесь старшего (да ведь это Джейкоб Финч-Боннер!), и занял место. Джейк смотрел, как он потянулся к стопке ксерокопий в центре стола, взял одну и, пролистав с надменной ухмылкой, положил рядом со своим блокнотом с ручкой и бутылкой воды. (Симпозиумы Рипли предлагали студентам в первый день занятий бесплатную воду; за все остальное приходилось платить.) После чего стал громко разговаривать с соседом, упитанным джентльменом с Кейп-Код, который хотя бы подошел к Джейку прошлым вечером.
В пять минут одиннадцатого Джейк начал семинар.
Утро снова выдалось сырым, и студенты – всего их было девять – один за другим снимали верхнюю одежду. Джейк действовал почти на автопилоте: представился, рассказал кое-что о себе (на своих публикациях заострять внимание не стал; если студентам было все равно или они не придавали значения его достижениям, он предпочитал этого не замечать) и коснулся того, чего можно и чего нельзя достичь с помощью курсов писательского мастерства. Дав несколько оптимистичных практических рекомендаций (Позитивный настрой – прежде всего! Никаких субъективных замечаний и политических пристрастий!), он предложил студентам рассказать немного о себе: чем они занимаются, что пишут и какие надежды возлагают на Симпозиумы Рипли. (На это всегда уходила большая часть первого занятия. А если у них останется время, они перейдут к трем письменным работам, копии которых принес Джейк.)
Рипли серьезно подходил к привлечению новых студентов – с некоторых пор глянцевые брошюры и веб-сайт дополнялись адресной рекламой в фейсбуке – и все же, несмотря на рост числа желающих, пока еще не случалось такой сессии, чтобы кому-то не нашлось места. Короче говоря, Рипли был рад каждому, кто хотел учиться в Рипли и мог себе это позволить. (С другой стороны, если кого-то приняли, это не значило, что их не смогут отчислить; несколько студентов Симпозиумов сумели этого добиться, в основном, за счет крайне вызывающего поведения, ношения огнестрельного оружия или просто общей долбанутости.) Как и следовало ожидать, состав новой группы разделился примерно поровну между двумя типами студентов: теми, кто мечтали выиграть Национальную книжную премию, и теми, кто мечтали, чтобы их книги в мягких обложках заполняли крутящиеся стойки в аэропорту; а поскольку Джейк не достиг ни того, ни другого, он понимал, что его как преподавателя ожидают определенные трудности. В этой группе у него были целых две студентки, назвавшие своей вдохновительницей Элизабет Гилберт, еще одна надеялась написать серию таинственных романов, организованных по «нумерологическим принципам», кроме того, был студент, успевший уже накатать шестьсот страниц о своей жизни (пока он дошел только до отрочества), и джентльмен из Монтаны, писавший, похоже, новую версию «Отверженных», избавленную от «ошибок» Виктора Гюго. Когда очередь дошла до добытчика открывашки, Джейк почти не сомневался, что наибольший (но не положительный) интерес в группе вызывают любительница нумерологии и новоявленный Виктор Гюго, в основном потому, что блондин почти откровенно насмехался над ними. Следующий ход – как знать, что он принесет? – был за ним.
Крутой парень сидел, откинувшись на спинку стула и сложив руки, всем своим видом показывая, что ему удобно в такой позе.
– Эван Паркер, – сказал он без преамбулы. – Но для дела надо бы наоборот.
Джейк нахмурился.
– В смысле, для псевдонима?
– Для анонимности, ну да. Паркер Эван.
Джейк с трудом сдержал смех, поскольку большинству писателей и так приходилось вести куда более анонимную жизнь, чем им бы хотелось. Может, Стивену Кингу или Джону Гришэму и случается наталкиваться в супермаркетах на восторженных фанатов, протягивающих салфетку для автографа, но большинству писателей, даже тем, кто умудряется зарабатывать писательством на жизнь, анонимности более чем хватает.
– И какого рода прозу вы пишете?
– Я не заморачиваюсь насчет ярлыков, – сказал Эван Паркер/Паркер Эван, смахнув со лба густую светлую прядь, которая тут же упала обратно (возможно, в этом и был смысл?). – Меня волнует сама история. Сто́ящая это идея или – нет. Если идея не стоящая, не поможет и лучшее писательство. А если – стоящая, не испортит и худшее.
Это весьма дельное высказывание было встречено молчанием.
– Вы пишете рассказы? Или планируете роман?
– Роман, – отрезал он, словно уловив сомнение в голосе Джейка, отнюдь не кажущееся.
– Это серьезное начинание.
– Я в курсе, – сказал Эван Паркер саркастично.
– Что ж, можете рассказать нам что-нибудь о романе, который вы хотите написать?
– Что-нибудь – это что? – спросил он с подозрением.
– Ну, например, место действия. Герои. Или общая идея. У вас есть сюжет?
– Есть, – сказал Паркер с откровенной враждебностью. – Я бы предпочел не обсуждать его, – он огляделся, – в этом месте.
Джейк прочувствовал всеобщую реакцию, даже ни на кого не глядя. Всем, похоже, стало не по себе, и все ждали от него какого-то ответа.
– Полагаю, – сказал Джейк, – в таком случае, нам нужно знать, как я… как эта группа может лучше всего помочь вам развить свои писательские навыки?
– Ой, – сказал Эван Паркер/Паркер Эван, – я не особо настроен развиваться. Я очень хороший писатель, и мой роман идет полным ходом. И вообще, если говорить начистоту, я даже не уверен, что писательству вообще можно научить. Каким бы хорошим ни был учитель.
Джейк отметил, как по столу прокатилась волна смятения. Вероятно, не один из его новых студентов задался вопросом, за что он выложил деньги.
– Что ж, – сказал Джейк, попытавшись рассмеяться, – я, разумеется, с этим не соглашусь.
– Я всячески надеюсь на это! – сказал студент с Кейп-Код.
– Мне интересно, – сказала студентка, сидевшая справа от Джейка, которая писала «художественные мемуары» о своем детстве в пригороде Кливленда, – зачем вы пришли в программу на магистра искусств, если думаете, что писательству нельзя научить? Типа почему не взять и не написать книгу самому?
– Что ж, – Эван Паркер/Паркер Эван пожал плечами, – я не против всего этого, само собой. Работает оно или нет – другой вопрос. Я уже пишу свою книгу и знаю, насколько она хороша. Но я подумал, если даже программа сама по себе ничего мне не даст, от степени я не откажусь. Лишние буковки после имени никогда не помешают, верно? И есть шанс, что у меня в итоге появится агент.
Снова повисло гнетущее молчание. Несколько студентов проявили внезапный интерес к разложенным на столе ксерокопиям. Наконец, Джейк сказал:
– Я рад слышать, что ваш проект идет своим ходом, и надеюсь, мы сможем быть вам полезны как команда единомышленников. Что мы знаем наверняка, так это что писатели всегда помогали друг другу, неважно, участвовали они в какой-то программе или нет. Мы все понимаем, что писательство – занятие уединенное. Мы делаем свою работу в одиночку – без конференций, без коллективных поисков решений, без командных мероприятий – только мы сами, наедине с собой. Может, поэтому получила такое развитие наша традиция делиться работой с коллегами по перу. Всегда собирались группы писателей, читали вслух свои произведения и обменивались рукописями. И не только ради компании или чувства единства, но потому, что нам действительно нужно, чтобы нашу работу видели еще чьи-то глаза. Нам нужно знать, что работает, а главное – что не работает, и большую часть времени мы не можем доверять себе в этом отношении. Насколько бы успешным ни был автор, чем бы вы ни мерили успех, я готов поспорить, что у него есть читатель, которому он доверяет, читающий его работу до того, как ее прочитает агент или издатель. И, чтобы добавить ноту практичности, скажу, что в современной издательской индустрии традиционная роль «редактора» сведена к минимуму. Сегодня издатели хотят такую книгу, которую можно сразу пускать в производство, или максимально приближенную к этому, так что если вы думаете, что вашу рабочую рукопись ждет не дождется Максвелл Перкинс[7], чтобы засучить рукава и превратить ее в «Великого Гэтсби», это уже давно не так.
Джейк понял, к своему огорчению, но не к удивлению, что имя «Максвелл Перкинс» ни о чем им не говорит.
– То есть другими словами, – продолжил он, – если мы достаточно мудры, мы находим таких читателей и посвящаем их в наш рабочий процесс, и именно этим мы все здесь, в Рипли, занимаемся. Можете относиться к этому сколь угодно формально или неформально, но я думаю, наша роль в этой группе – в том, чтобы вносить посильный вклад в работу друг друга и быть максимально открытыми для взаимных влияний. И я, между прочим, не исключение. Я не собираюсь занимать учебное время своим творчеством, но ожидаю многое почерпнуть от собравшихся здесь писателей – как от ваших творческих проектов, так и от глаз и ушей, и проницательности, обращенной на творчество ваших коллег.
В течение этой зажигательной и не лишенной искренности речи с лица Эвана Паркера/Паркера Эвана не сходила усмешка. Теперь же он покачал головой, давая понять, как его все это забавляет.
– Я буду счастлив высказать мнение о творчестве каждого, – сказал он. – Но не ожидайте, что я за это открою свою работу для чьих-то глаз или ушей или носов, если уж на то пошло. Я знаю, что у меня есть. И не думаю, что на этой планете найдется такой человек, каким бы лажовым писателем он ни был, кто мог бы запороть такую идею, как у меня. И это, пожалуй, все, что я скажу.
С этими словами он сложил руки и плотно сжал губы, словно для того, чтобы больше ни крупица его мудрости не просочилась наружу. Великий роман Эвана Паркера/Паркера Эвана был надежно защищен от недостойных глаз, ушей и носов первокурсников Симпозиумов Рипли по писательскому мастерству.
Глава четвертая
Это типа бомба
Мать и дочь в старом доме – это была его работа. И если какой-то текст мог в меньшей степени соответствовать эпитетам «грандиозный», «сногсшибательный», «невозможно-оторваться», то разве что подробное описание сохнущей краски. Джейк не поленился перечитать его перед первым индивидуальным занятием с автором, желая убедиться, что не пропустил жемчужину вроде «Искателей потерянного ковчега» или зародыш эпических приключений вроде «Властелина колец», но, если там что-то такое и было (в банальных картинах дочери за уроками или матери, готовящей консервированную кукурузу со сливками, или в описаниях дома), Джейк этого не увидел.
В то же время ему пришлось против воли признать, что сам по себе текст вовсе не плох. Эван Паркер – никакого ему Паркера Эвана, пока (и если) он не издаст свой крышесносный шедевр, требующий псевдонима – мог заливать на семинаре о своем якобы великом романе, но этот хамоватый студент написал восемь вполне приличных страниц, без явных недостатков или хотя бы типичных писательских недочетов. Иными словами, этот говнюк обладал прирожденным талантом писателя, то есть таким свободным и умелым обращением с языком, какому не могли научить писательские курсы и рангом повыше, чем в Рипли, какое Джейк никогда не мог и передать никому из студентов, и сам не получил в готовом виде от учителя. У Паркера был наметанный глаз на детали и чуткое ухо на звучание слов в предложениях. Он с удивительной лаконичностью обрисовал двух главных героинь (мать по имени Диандра и ее дочь-подростка, Руби) и их дом, очень старый, в неназванной части страны, где снежные зимы в порядке вещей, сумев показать не только самих этих людей в привычной для них обстановке, но и явное, даже внушающее тревогу напряжение между ними. Руби, дочь, прилежная и хмурая, проступала из текста достоверно и выпукло. Диандра, мать, казалась более расплывчатой, но внушительной фигурой, словно увиденной боковым зрением дочери, что усиливало ощущение большого старого дома, в котором живут всего два человека. Но несмотря на то, что они жили в дальних концах дома, их взаимная неприязнь накаляла воздух.
Джейк прочитал эту вещь уже дважды: первый раз несколько дней назад, в ходе «ночного марафона», а второй – вечером после первого семинара, когда потянулся к папкам из чистого любопытства, надеясь побольше узнать об этом чудиле. Когда Паркер сделал такое громкое заявление о своем романе, Джейку на ум пришел тот самый труп на пляже, безобразно разлагавшийся, красуясь при этом грудями, что твои «спелые дыньки», и он неслабо удивился, узнав, что эта нелепица была порождением ума его студентки Крис, матери троих дочерей, заведующей больницей в Роаноке. Узнав вслед за этим, что перу Эвана Паркера принадлежит история о матери и дочери – пусть хорошо написанная, но лишенная даже намека на что-то этакое, не говоря о такой мощной идее, какую не сможет запороть и самый «лажовый писатель» – он чуть не рассмеялся.
Теперь, когда автор должен был пожаловать с минуты на минуту на первое индивидуальное занятие, Джейк решил пробежать эти страницы в третий и, как он надеялся, последний раз.
Руби слышала, как мать говорит по телефону – ее голос доносился со второго этажа, из ее спальни. Она не могла разобрать слов, но знала, что Диандра говорила по спиритической линии, поскольку ее голос был высоким и раскатистым, словно она (в своей спиритической ипостаси как Сестра Ди-Ди) парила в вышине, озирая оттуда всю жизнь бедняги на другом конце линии. Когда же голос матери опускался пониже и терял выразительность, Руби понимала, что Диандра переключилась на одну из линий по работе с клиентами. А когда ее голос становился низким и с придыханием – такой голос сопровождал Руби большую часть времени последние два года ее жизни – это был секс по телефону. Руби сидела внизу, на кухне, и пересдавала по личной инициативе домашний тест по истории. Темой теста была Гражданская война и послевоенная реконструкция, и Руби дала неверный ответ о том, кто такие саквояжники и откуда происходит это слово. Мелочь, конечно, но из-за нее Руби могла потерять свое обычное место в рейтинге отличников. Само собой, она попросила пятнадцать новых вопросов.
Мистер Браун пытался убедить ее, что 94 балла, набранные ею в первом тесте, не повредят ее рейтингу, но она не стала его слушать.
– Руби, ты не ответила всего на один вопрос. Это не конец света. К тому же, ты теперь всю жизнь будешь помнить, кто такие саквояжники. В этом весь смысл.
Но весь смысл был не в этом. Даже близко. Смысл был в том, чтобы получить высший балл и добиться перевода из так называемого Продвинутого класса юниоров по американской истории на исторический факультет муниципального колледжа, и тогда она сможет выбраться отсюда и жить при колледже – она надеялась получить стипендию и уехать подальше, как можно дальше от этого дома. Только у нее не было ни малейшего желания объяснять что-то из этого мистеру Брауну. Но она так его умоляла, что он в итоге согласился.
– Окей. Но пройди тест дома. Когда тебе будет удобно. Можешь подсматривать.
– Я пройду сегодня. И обещаю, что ни за что не буду подсматривать.
Он вздохнул и сел писать пятнадцать новых вопросов лично для Руби.
Когда ее мать спустилась по лестнице и, прошаркав на кухню, остановилась перед холодильником, прижимая телефон плечом к уху, Руби писала развернутый ответ про Ку-клукс-клан.
– Милая, она уже близко. Прямо сейчас. Я ее чувствую.
Повисло молчание. Очевидно, мать собирала информацию. Руби попыталась вернуться к Ку-клукс-клану.
– Да, ей тоже вас не хватает. Она присматривает за вами. Она хотела, чтобы я что-то сказала насчет… что такое, милая?
Диандра стояла перед открытым холодильником. Подумав секунду, она взяла банку диетического «Доктора Пеппера».
– Кошку? Кошка для вас что-то значит?
Молчание. Руби опустила взгляд на страницу теста. Ей оставалось ответить еще на девять вопросов, но только не под спиритические вибрации, заполнившие кухню.
– Да, она сказала, это была пестрая кошка. Она так сказала: пестрая. Как там кошка, милая?
Руби села ровно на банкетке. Ей хотелось есть, но она обещала себе не готовить обеда, пока не сделает того, что собиралась, и не докажет того, что собиралась доказать. Был самый конец бакалейной недели, и в холодильнике почти ничего не осталось (она уже смотрела), только замороженная пицца и немного зеленой фасоли.
– О, приятно это знать. Она теперь так счастлива. И вот что, милая, прошло уже почти полчаса. У вас еще есть ко мне вопросы? Вы хотите, чтобы я еще побыла с вами на связи?
Диандра направилась обратно к лестнице, и Руби смотрела ей в спину. Дом был таким старым. Когда-то им владели ее деды и даже прадеды, и хотя с тех пор что-то поменялось – обои и краска, и бежевый ковер от стены до стены в гостиной – в некоторых комнатах все еще оставались старые трафаретные орнаменты на стенах. Так, вокруг парадной двери со внутренней стороны виднелся ряд ананасов странной формы. Руби всегда им удивлялась, а потом однажды отправилась с классом на экскурсию в один музей американской истории и увидела там такие же в одном здании. Оказалось, что ананасы символизировали гостеприимство, и это делало их самым неуместным рисунком на стене их дома, поскольку вся жизнь Диандры являла собой противоположность гостеприимству. Она не могла даже вспомнить, когда последний раз кто-нибудь заглядывал к ним по ошибке с почтой, не говоря о том, чтобы выпить с матерью ее ужасный кофе.
Руби вернулась к своему тесту. Стол был липким от сиропа, пролитого за завтраком, а может, от макарон с сыром со вчерашнего обеда или от чего-то, что ела или делала мать, пока она была в школе. Они никогда не ели вместе. Руби, как могла, избегала доверять здоровье своего желудка матери, умудрявшейся сохранять девичью фигуру – девичью в буквальном смысле: со спины мать и дочь выглядели до жути похоже – очевидно, с помощью диеты из сельдерея и диетического «Доктора Пеппера». Диандра перестала кормить дочь, когда Руби исполнилось девять, и примерно тогда же Руби научилась открывать консервированные, чтоб их, спагетти.
Ирония ситуации была в том, что чем больше эти двое становились похожи внешне, тем меньше находили общих тем для разговоров. Хотя их никогда не связывало то, что обычно называют нежными узами; Руби не помнила, чтобы мать ласкала ее или участвовала в ее играх, не помнила ничего особенного на дни рождения или на Рождество, и никаких материнских наставлений или внезапных проявлений чувств, которые встречались в книгах и диснеевских фильмах (обычно сразу после этого мать умирала или пропадала). Диандра словно скользила по жизни, сводя материнские обязанности к минимуму, следя лишь за тем, чтобы Руби была живой и привитой, имела кров (если можно назвать кровом этот промозглый дом) и образование (если можно считать ее простецкую сельскую школу источником образования). Казалось, ей так же отчаянно хотелось покончить со всем этим, как и самой Руби.
Но она не могла хотеть этого так отчаянно, как Руби. Нечего было и думать.
Прошлым летом Руби работала (разумеется, неофициально) в городской пекарне. А потом, осенью, подрабатывала по воскресеньям сиделкой с соседскими детьми, когда остальная семья шла в церковь. Половину всех своих заработков Руби тратила на домашние нужды, еду и редкий ремонт, а другую половину прятала в учебнике «углубленной химии», последнем месте, куда могла заглянуть мать. Химию Руби взвалила на себя в прошлом году, в виде сделки с куратором, чтобы получить продвижение по урезанному школьному курсу естественных наук, и ей было нелегко совмещать это с гуманитарными предметами в муниципальном колледже и с независимым проектом по французскому, не считая двух ее работ, но все это являлось частью плана, который она разработала примерно тогда же, когда впервые открыла банку спагетти. План назывался «Валить отсюда нахрен», и она не отклонялась от него ни на секунду. Теперь ей было пятнадцать, и она училась в одиннадцатом классе, проскочив подготовительный. Через пару месяцев она сможет подать заявку в колледж. Через год ее здесь уже не будет.
Ее жизнь не всегда была такой. Она могла вспомнить, даже не прилагая особых усилий, время, когда относилась почти нормально к тому, чтобы жить в этом доме, вращаясь по орбите своей матери, которая была, по большому счету, единственным членом ее семьи; во всяком случае, единственным, кого она видела. Она могла вспомнить, как предавалась обычным в ее представлении детским занятиям – играла в грязи, смотрела картинки – без всякой грусти или злости, и к своим годам успела понять: какой бы малоприятной ни была ее домашняя и «семейная» жизнь, где-то там, в большом внешнем мире, насколько она знала, есть вещи и похуже. Так почему же она чувствовала себя на краю пропасти? Что сделало ее из обычного ребенка той Руби, что корпела над домашним тестом по истории, от которого так многое – в ее понимании – зависело, и считала (в буквальном смысле) дни до того, как выберется отсюда? Это был безответный вопрос. Никто не мог ей дать ответа. Да он и не имел значения – только истина, открывшаяся ей много лет назад, имела значение и не подлежала сомнению: мать ее ненавидела, вероятно, с самого рождения.
И что ей было делать с этим знанием?
Вот именно.
Сдать тест. Попросить мистера Брауна написать рекомендацию и, если повезет, снова выслушать тот самый анекдот о девушке, хотевшей сверхурочную работу. А затем уносить свой несомненно выдающийся ум из этой дыры со старыми ананасами в мир, который будет хотя бы ценить ее. Она научилась не ждать любви, да и вообще сомневалась, что хотела ее. Эту краеугольную мудрость она сумела постичь за пятнадцать лет жизни с матерью. Пятнадцать долой. Еще год – пожалуйста, Боже, только один – впереди.
Джейк отложил страницы. Мать и дочь, живущие бок о бок, можно сказать, в изоляции, хотя отшельницами их не назовешь (мать что-то покупает в супермаркете, дочь ходит в школу, и в ней заинтересован учитель), испытывая крайнее взаимное напряжение. Окей. Мать работает (если это можно так назвать) надомно и обеспечивает крышу им над головой и дешевую еду на столе. Окей. Дочь амбициозна и намерена уйти из дома и от матери, в колледж. Окей, окей.
Но, как сказал однажды преподаватель, у которого Джейк писал магистерскую диссертацию, одному самовлюбленному студенту на семинаре по писательскому мастерству: «Ну… и что?»
«Такая идея, как у меня», сказал Эван Паркер. Если уж на то пошло, допустимо ли вообще говорить «идея, как у меня»? Люди поумнее Джейка (и даже – он мог поспорить – Эвана Паркера) выделили несколько ключевых идей, или сюжетов, из которых, так или иначе, вырастает любая история: поиск сокровища, возвращение домой, взросление, победа над монстром и т. д. Мать и дочь в деревянном доме – ну, по крайней мере, дочь в деревянном доме – вполне укладываются в историю взросления или роман воспитания, а может, в историю Золушки; но какой бы цельной ни была история, это не делает ее ошеломляющей, потрясающей, закрученной или стремительной – цельность сама по себе не спасает от бездарности.
За годы преподавательской практики Джейк успел узнать множество студентов, имевших довольно смутное представление о своем таланте, хотя это касалось, в основном, базовых писательских навыков. Многие зеленые писатели трудятся, ошибочно считая, что, если они сами знают, каков из себя их герой, этого достаточно, чтобы волшебным образом передать это знание читателям. Другие же считают, что достаточно одной детали, чтобы сделать героя запоминающимся, но эта деталь всегда так банальна: про героиню может быть сказано, что она «блондинка», а про героя – что у него «кубики на прессе» (У него они были! У него их не было!) – вот, похоже, и все, что читателям нужно знать. Иногда писатель строит предложения, следуя одной избитой схеме – существительное, глагол, причастный оборот, существительное, глагол, причастный оборот – и не видит, как бесит такое однообразие. Иногда студент углубляется в свое хобби или какую-то тему, имеющую для него особое значение, и чрезмерно увлекается, перегружая историю не самыми захватывающими подробностями или мудреными словечками, без которых, по его мнению, никак не обойтись: герой приходит на встречу НАСКАР или героиня прибывает на тропический остров, чтобы повидаться с подругами по женскому землячеству (именно так на пляж и попал труп, украшенный «спелыми дыньками»). Иногда они запутывались в местоимениях, и приходилось по несколько раз все перечитывать, чтобы понять, кто что делал и с кем. А иногда на нескольких страницах текста, написанного самым грамотным или даже лучше-чем-нормальным языком… ничего никуда не двигалось.
Но эти авторы были студентами; именно поэтому они, надо полагать, и оказались в Рипли, в корпусе Ричарда Пенга, в кабинете Джейка. Они хотели чему-то научиться и стать лучше, и, в массе своей, были готовы принимать его соображения и предложения, поэтому, когда он говорил им, что не может понять из их текста, как выглядит герой или какова его мотивация, или что он не чувствует желания следить за их перипетиями, поскольку недостаточно хорошо их узнал, или что в тексте недостаточно информации о НАСКАР или женском землячестве, чтобы понять смысл того, что было (или не было) сказано, или что проза кажется ему тяжеловесной, или диалог теряет связность, или сама история заставляет его думать: «и что?..», они обычно кивали, что-то записывали, иногда утирали слезу-другую и принимались за дело. Когда он видел их в следующий раз, они сжимали в руках свежие страницы и благодарили его за то, что он улучшил их работу.
Но в данном случае Джейк почему-то не думал, что его ждет что-то подобное.
Из коридора послышались размеренные шаги Эвана Паркера, при том, что он опаздывал почти на десять минут. Дверь была открыта, и он вошел без стука. Поставив бутылку воды Рипли на стол Джейка, он взял себе стул и повернул его так, словно они двое собрались поболтать за кофе, а не обсудить его работу, придерживаясь каких-то формальностей или (условного) этикета учитель-ученик. Под взглядом Джейка он вынул из холщовой сумки блокнот с неровно оторванными страницами и, положив себе на колени, тесно сложил руки на груди, как и в тот раз в переговорной комнате, после чего взглянул на учителя с не самым почтительным выражением.
– Ну, – сказал он, – вот и я.
Джейк кивнул.
– Я еще раз просмотрел вашу работу. Вы весьма хороший писатель.
Он решил сразу высказать это. Выбор слов «весьма» и «хороший» дался ему нелегко, но он посчитал, что, в конечном счете, это вернее всего раскроет его студента, и действительно, тот слегка оттаял.
– Что ж, рад слышать. Особенно учитывая, что я вовсе не уверен, как я уже сказал, что писательству можно научить.
– Тем не менее, вы здесь, – Джейк пожал плечами. – Так чем я могу помочь?
Эван Паркер рассмеялся.
– Что ж, мне бы не помешал агент.
У Джейка уже не было агента, но он решил этого не уточнять.
– В конце сессии будет отраслевой день. Не уверен, кто придет, но обычно бывают два-три агента и издателя.
– От личной рекомендации, вероятно, было бы больше пользы. Вы наверняка знаете, как трудно человеку с улицы донести свою работу до нужных людей.
– Что ж, не стану говорить, что связи не помогают, но имейте в виду, что никто никогда не издавал книгу по дружбе. Слишком много всего на кону, слишком много денег и профессиональной ответственности, если что-то пойдет не так. Может, личное знакомство и поможет вложить вашу рукопись кому-то в руки, но дальше решает качество написанного. И вот что еще: агенты и издатели действительно ищут хорошие книги, и не нужно думать, что новым авторам никто не дает прохода. Ничего подобного. За новым автором как минимум не тянутся грустные цифры продаж предыдущих книг, а читатели всегда хотят новых имен. Новый писатель интересен агентам уже потому, что это может оказаться Гиллиан Флинн или Майкл Шейбон, и агент может стать его агентом на все книги, которые тот напишет, не только на первую, так что это не только разовый доход, но и на будущее. Можете не верить, но вы даже в лучшем положении, чем кто-то со связями, если у него вышла пара книг, оказавшихся не слишком успешными.
«Другими словами, – подумал Джейк, – кто-то вроде меня».
– Что ж, вам легко говорить. Вы ведь когда-то были большим писателем.
Джейк уставился на него. Он много чего мог бы сказать. Но решил, что не стоит.
– Мы все настолько хороши, насколько хороша наша текущая работа. Поэтому я бы хотел сфокусироваться на том, что вы сейчас пишете. И что из этого может выйти.
К его удивлению, Эван откинул голову и рассмеялся. Джейк взглянул на часы над дверью. Четыре тридцать. Прошла половина занятия.
– Хотите мою идею, а?
– Что?
– Да ладно. Я же говорил, что работаю над чем-то грандиозным. Вы хотите знать, что это. Вы ведь писатель, а?
– Да, я писатель, – сказал Джейк, прилагая отчаянные усилия, чтобы скрыть обиду. – Но сейчас я учитель, и как учитель я пытаюсь помочь вам написать книгу, какую вы хотите написать. Если не хотите распространяться о сюжете, мы можем хотя бы поработать над фрагментом, что вы прислали, но, не зная, какое место он в конечном счете занимает в контексте основного сюжета, я буду в затруднительном положении.
«Не то чтобы меня это заботило, – добавил он мысленно. – Как будто мне не пофиг».
Чертов блондин сидел у него за столом и молчал.
– Этот фрагмент, – сказал Джейк осторожно, – он ведь из романа, о котором вы говорили?
Эван Паркер, казалось, взвешивал этот совершенно невинный вопрос до странности долго. Затем кивнул. Его густая светлая прядь почти закрыла один глаз.
– Из первых глав.
– Что ж, мне нравятся подробности. Замороженная пицца и учитель истории, и эта спиритическая линия. По этим страницам у меня сложилось более отчетливое впечатление о дочери, чем о матери, но это безусловно не проблема. И, конечно, я не знаю, в каком ракурсе вы собираетесь вести повествование. На данный момент, мы, очевидно, на стороне дочери. Руби. Мы останемся с Руби до конца романа?
И снова ответ прозвучал не сразу.
– Нет. И да.
Джейк кивнул, как будто что-то понял.
– Просто, – сказал Паркер, – мне не хотелось… выкладывать все это в тот раз, ну, перед всеми. Этот роман, что я пишу, это типа бомба. Понимаете?
Джейк уставился на него. Ему отчаянно хотелось рассмеяться.
– Вообще-то не очень. В каком смысле бомба?
Эван подался вперед. Он взял бутылку с водой, открутил крышку и порывисто глотнул. Затем снова сложил руки и сказал с неохотой:
– Все будут читать эту книгу. Она принесет состояние. Ее экранизируют – вероятно, кто-нибудь из главных режиссеров, какая-нибудь важная фигура. Она соберет все регалии – понимаете, о чем я?
Джейк слушал, проглотив язык, и опасался, что он таки понял.
– Типа, Опра возьмет ее в свое шоу. О ней будут говорить в телепередачах. В таких передачах, где обычно не говорят о книгах. Каждый книжный клуб. Каждый блогер. Каждое что ни возьми, о чем я даже не знаю. Эта книга, она ни за что не провалится.
Это было слишком. Джейк больше не мог этого слушать.
– Что угодно может провалиться. В книжном мире? Что угодно.
– Не это.
– Слушайте, – сказал Джейк. – Эван? Можно мне вас так называть?
Эван пожал плечами. Он вдруг показался уставшим, словно его утомило это провозглашение своего величия.
– Эван, мне очень нравится, что вы верите в то, что делаете. Я надеюсь, что все ваши одногруппники так же относятся – или станут когда-нибудь относиться – к своей работе. Даже если большинство… регалий, как вы выразились, с большой, очень большой вероятностью обойдут вас стороной, потому что на свете множество потрясающих книг, которые издают одну за другой, и конкуренция велика. Но есть масса других способов, не связанных с Опрой или режиссерами, измерить успех художественного произведения. Я буду только рад, если ваш роман получит самое широкое признание, но для начала вам нужно написать его так хорошо, как только можно. У меня есть кое-какие соображения на это счет, на основании того отрывка, что вы прислали, но скажу честно: в тех страницах, что я прочитал, мне видится не самая громкая книга, то есть не та, которая уверенно кричит: главные режиссеры и бестселлер, но это может быть очень хороший роман! Мать и дочь, живущие вместе; может, они не очень ладят между собой. Я уже переживаю за дочь. Мне хочется, чтобы у нее все получилось. Чтобы она выбралась оттуда, если хочет. Я хочу выяснить, что стоит за всем этим, почему ее мать как будто ненавидит ее, если она и вправду ее ненавидит – не всегда можно верить тому, что подростки говорят о своих родителях. Но все это очень увлекательные темы для романа, и, наверно, главное, чего я не пойму, это почему вы возлагаете такие запредельно высокие ожидания. Разве мало будет написать хороший первый роман и – то есть, давайте прикинем пару целей, чуть более практичных – найти агента, который поверит в вас и в ваше будущее, и даже издателя, который захочет дать шанс вашей книге? Это уже будет немало! Зачем ставить себе такую планку, что, я не знаю, ты будешь считать провалом, если твою книгу экранизирует не самый крутой режиссер?
Долгое, безумно долгое время Эван молчал. Джейк уже был готов сказать что-нибудь, лишь бы прогнать это гнетущее ощущение, даже если бы пришлось закончить занятие раньше времени, потому что чего они, собственно, достигли, учитель и ученик? Они даже не начали разбирать написанный текст, не то что обсуждать более глобальные вопросы. А кроме того, этот чувак оказался махровым нарциссическим задротом – это же яснее ясного. Скорее всего, если он вообще сумеет закончить свой роман о башковитой девчонке, растущей в старом доме с матерью, максимум какой успех его ждет, это литературное признание того же порядка, какое получил Джейк (слишком мимолетное), и Джейк мог подробно рассказать – только попроси – какие мучения это ему принесло, точнее, то, что за этим последовало. Так что, если Эван Паркер/Паркер Эван решил стать автором нового «Изобретения чуда», милости просим. Джейк первым был готов сплести ему лавровый венок, закатить вечеринку и дать грустный-прегрустный совет, который сам когда-то получил от куратора своей диссертации: «Ты настолько успешен, насколько успешна твоя последняя изданная книга, и настолько хорош, насколько хороша книга, которую ты пишешь. Так что заткнись и пиши».
– Эта книга ни с чем не сравнится, – сказал, наконец, Эван и добавил: – Слушайте.
И заговорил. Он говорил и говорил, или, лучше сказать, рассказывал и рассказывал. И, пока он рассказывал, у Джейка было такое чувство, словно две эти зловещие женщины вошли в комнату и незаметно стояли по обе стороны двери, как бы показывая двум мужчинам, что им от них не убежать. Но Джейк и не думал о побеге. Он не думал ни о чем, кроме этой истории, не укладывавшейся ни в один из великих сюжетов: из грязи в князи, поиск сокровища, возвращение домой, перерождение (разве что отчасти), победа над монстром (разве что отчасти). Это было чем-то новым для него, как будет новым для каждого, кто прочтет эту книгу, а читать ее будут все. Ее будет читать, как только что сказал этот ужасный человек, каждая книжная группа, каждый блогер, каждый из тех, кто как-то связан с пространным архипелагом книжного рынка, каждая знаменитость со своим книжным клубом, все без исключения, везде и всюду. Настолько всеохватной и громогласной, умопомрачительной и возмутительной была эта история. Когда его студент закончил говорить, Джейку захотелось схватиться руками за голову, но он не мог показать своих чувств, того ужаса, что охватил его перед этим надменным говнюком, который однажды станет – ему определенно понадобится псевдоним – Паркером Эваном, автором ошеломительного первого романа, взлетевшего на верхнюю строчку списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» по единодушному выбору читателей. Просто не мог. Поэтому он кивнул и стал высказывать предположения, как постепенно вывести образ матери на первый план, и предлагать варианты возможной проработки и согласования повествования и авторского голоса, но все это было неважно, второстепенно. Эван Паркер был совершенно прав: худший писатель на свете не смог бы запороть такую историю. А Эван Паркер умел писать.
Когда он ушел, Джейк подошел к окну и стал смотреть, как его студент идет в сторону столовой, которая была в дальнем конце сосновой рощицы. Эти сосны (он только сейчас это заметил) образовывали что-то вроде светоблокировки, сквозь которую едва просвечивали окошки зданий кампуса на дальней стороне, однако никто и не думал их обходить – все ходили через них, каждый божий раз.
«Путь жизненный пройдя до половины, – подумалось ему, – я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины»[8].
Эти слова он знал целую вечность, но никогда, до этого момента, по-настоящему не понимал.
Свой собственный путь он утратил давным-давно, и у него не было шанса, ни единого, снова найти его. Роман-в-работе у него на ноутбуке не был романом и едва ли был в работе. А теперь, с этого самого вечера, любые идеи, какие смогут у него возникнуть для новой истории, будут неизбежно блекнуть перед той историей, что он сейчас услышал, в этом жалком пенобетонном кабинете, выделенном под третьесортную программу на степень магистра искусств, которую никто – включая и преподавательский состав – не воспринимал всерьез. История, что он сейчас услышал, была всем историям история. И Джейк знал, что все, сказанное будущим Паркером Эваном о его будущем романе, произойдет с абсолютной неизбежностью. Абсолютной. Издатели будут биться за право издать его, и не только в Америке, но и во всем мире, и продюсеры с режиссерами будут биться за экранизацию. Опра Уинфри будет подносить эту книгу к камерам, и она попадет во все книжные магазины – только ты вошел, а она смотрит на тебя с ближайшего стола – и так будет долгие годы. Все, кого знал Джейк, прочтут ее. Каждый писатель, с которым он соперничал в колледже, и каждый, кому он завидовал в магистратуре, каждая женщина, с которой он переспал (признаем, их было немного), каждый студент и студентка, учившиеся у него, каждый преподаватель Рипли и все его бывшие преподаватели, а также его родители, которые вообще не читают книг, с трудом дочитавшие «Изобретение чуда» (если они и вправду его дочитали – он не проверял), не говоря о тех двух шутах из «Фантастических форматов», упустивших шанс издать роман, по которому поставили фильм с Сандрой Буллок. Не говоря о Сандре Буллок. Все они, без исключения, будут покупать или одалживать у кого-то эту книгу, скачивать ее и слушать, передавать кому-то, и дарить, и принимать в подарок – книгу, которую сейчас писал этот надменный кусок говна, этот фанфарон, этот сукин сын, Паркер Эван. Говнюк паршивый, подумал Джейк и тут же устыдился настолько избитой фразы для такого мастера слова, каким привык себя считать. Но в тот момент он не мог придумать ничего другого.
Часть вторая
Глава пятая
Изгнание
Два с половиной года спустя Джейкоб Финч-Боннер – автор «Изобретения чуда» и бывший преподаватель довольно престижных очно-заочных Симпозиумов Рипли – пристраивал свою старенькую «тойоту приус» на обледеневшей парковке позади Творческого центра искусств «Адлон» в городке Шэрон-Спрингс, штат Нью-Йорк. «Приус», никогда не отличавшийся выносливостью, встречал уже свой третий январь в этих краях к западу от Олбани (известных под причудливым топонимом «Регион Кожаного Чулка»), и его способность одолевать по снегу самые скромные подъемы – холм, на котором стоял «Адлон», был вовсе не скромным – не улучшалась с годами. Джейк не испытывал оптимизма насчет живучести этой машины, впрочем, как и своей, если он продолжит ездить зимой, но еще меньше оптимизма ему внушала мысль о покупке новой.
Симпозиумы Рипли внезапно распустили свой преподавательский состав в 2013 году, уведомив бывших сотрудников немногословным электронным письмом. После чего – не прошло и месяца – писательские курсы возобновились, став еще более заочными, точнее, совершенно виртуальными курсами, и корпус Ричарда Пенга, окутавшийся дымкой ностальгии, заменили видеоконференции. Джейк, как и большинство его бывших коллег, получил от Рипли предложение дальнейшего сотрудничества, несомненно послужившее бальзамом для его профессиональной гордости, однако новая зарплата, указанная в договоре, не позволяла рассчитывать даже на самую скромную жизнь в Нью-Йорке.
Вот так Джейк, не имевший других источников дохода, столкнулся с удручающей перспективой покинуть центр литературного мира.
Что оставалось в 2013 году писателю, чьи два клочка недвижимости на огромной совокупной территории американской словесности все больше усыхали с каждым годом? Джейк разослал пятьдесят резюме, подписался на все интернет-службы, обещавшие раструбить о его талантах самым лучшим работодателям, и сообщил каждому до последнего человеку, на которого мог хоть как-то рассчитывать, что ищет работу. Кроме того, он сходил на собеседование в колледж Барух, но администратор образовательной программы прозрачно намекнул ему, что один из их недавних выпускников, чей первый роман должен был вот-вот выйти в «ФСГ»[9], также претендует на эту вакансию. После этого Джейк встретился с одной из своих бывших, работавшей теперь на дико успешное субсидированное издательство в Хьюстоне, но после двадцати минут натужных воспоминаний, перемежавшихся ее восторженными рассказами о своих карапузах-близнецах, он просто не смог заставить себя спросить ее о работе. Наконец, Джейк наведался в «Фантастические форматы», но агентство уже было продано и стало крохотной ячейкой новой организации под названием «НФ/Спец», а двух его бывших боссов и след простыл.
В итоге, дойдя до предела отчаяния, он сделал то, что делали другие в подобной ситуации, а именно, создал свой веб-сайт, расхваливавший редакторские навыки Джейкоба Финч-Боннера, автора двух весьма успешных романов и многолетнего преподавателя в одной из лучших в стране очно-заочных программ на получение степени магистра изящных искусств. И стал ждать.
Ждал он долго, но постепенно ему стали писать. Каков «показатель успешности» Джейка? (Джейк ответил пространным рассуждением о том, насколько для художника относительно такое понятие, как «успешность». На этом его первая переписка закончилась.) Работал ли мистер Боннер с Независимыми Авторами? (Он тут же написал: Да! На этом закончилась вторая переписка.) Как он относится к антропоморфизму в молодежной литературе? (Положительно! А что еще он мог сказать?) Не хотел бы он сделать «пробную редактуру» пятидесяти страниц рабочей рукописи, чтобы писатель мог решить, имеет ли смысл продолжать? (Джейк сделал глубокий вдох и написал: Нет. Но он согласен сделать особую скидку в пятьдесят процентов на первые два часа, которых должно хватить каждому из них, чтобы принять решение о дальнейшем сотрудничестве.)
И этот человек стал его первым клиентом.
В своей новой роли виртуального редактора, инструктора и консультанта (что за восхитительно расплывчатое слово), ему пришлось иметь дело с такими авторами, рядом с которыми даже самые отстающие студенты Рипли казались Хемингуэями. Снова и снова он напоминал своим новым клиентам проверять правописание, отслеживать имена своих героев и хотя бы приблизительно представлять, какие базовые идеи должна внушать их история, до того, как они напечатают это волнующее слово: КОНЕЦ. Некоторые к нему прислушивались. Другие же как будто считали, что, если они платят профессиональному писателю, это волшебным образом делает их писанину «профессиональной». Но больше всего Джейка поражало, что его новые клиенты в гораздо большей степени, чем любые из его бывших студентов, смотрели на издание своих трудов не как на этакий волшебный пропуск в мир литературы, как всегда считал он сам и все писатели, вызывавшие у него восхищение (и зависть), а как на чисто коммерческую сделку. Как-то раз, в переписке с одной из своих первых клиенток, пожилой дамой из Флориды, заканчивавшей вторую часть своих мемуаров, Джейк деликатно похвалил ее за недавнее издание первой части («Ветреная река: мое детство в Пенсильвании»). Но писательница, к своей чести, отмахнулась от этой лести.
«Ой, ладно вам, – ответила она, – любой может напечатать книгу. Были бы деньги».
Джейк должен был признать, что в такой формулировке девиз «Каждый может быть писателем» выглядит вполне разумным.
В каких-то отношениях этот новый рабочий формат оказался намного приятнее. Конечно, Джейк не меньше прежнего поражался нездоровым амбициям своих клиентов, и дистанция между кажущимся и действительным качеством присылаемых ему рассказов, романов и мемуаров (а также, к его полной неожиданности, стихов) была все так же велика. Но честный, откровенный обмен низменных денег на услуги и ясность отношений между Джейком и всеми этими людьми, посещавшими его веб-сайт (кого-то из них приводили клиенты, которым он успел «помочь»), несла в себе после стольких лет ложного товарищества… нечто освежающее.
Но даже с подработкой виртуальным консультантом, помимо виртуального преподавания писательского мастерства для Рипли, жизнь в Нью-Йорке оказалась Джейку не по карману. Поэтому, когда одна его клиентка из Баффало, писавшая рассказы, упомянула, что побывала в резиденции Творческого центра искусств «Адлон», Джейк загуглил незнакомое название и, просмотрев рекламный видеоролик, ознакомился с веб-сайтом, сообщившим ему нечто новое: в местности под названием Шэрон-Спрингс, о которой он никогда не слышал, на севере штата Нью-Йорк, процветала, при поддержке местного бюджета, арт-резиденция.
Джейк, разумеется, был ветераном традиционных арт-резиденций, предоставлявших всестороннюю поддержку и санаторные условия серьезным художникам. Когда-то, в благословенные дни, после издания «Изобретения чуда», он получил приглашение из Яддо[10], а позже слетал в Вайоминг и провел пару прекрасных недель в Юкросс-центре[11]. Бывал он и в Творческом центре искусств Виргиния[12], и в Рагдейле[13], и пусть Рагдейл (он побывал там через год после издания «Ревербераций») ознаменовал конец его светлой полосы, Джейк не преминул указать его в своем резюме и у себя на сайте, наряду с остальными августейшими учреждениями, из чистого бахвальства. Надо заметить, что ни в одном из этих городков с Джейка не взяли ни цента, поэтому ему пришлось как следует вчитаться в описание Творческого центра «Адлон», чтобы понять, чем это новое учреждение отличается от известных ему: в этом доме отдыха, могущем поспорить с прославленными красотами Яддо или Макдауэлла[14], художники – не только элита художественного мира и традиционно превозносимые литераторы, но любой желающий – за все платили сами. «Любые желающие» ограничивались кругом лиц, способных выкладывать по тысяче долларов в неделю.
Джейк рассмотрел фотографии почтенного белого отеля внушительных размеров, построенного в 1890-х и слегка кренившегося (или так только казалось на фотографиях?). «Адлон» был одним из нескольких крупных отелей, оставшихся в Шэрон-Спрингс, в прошлом курортного городка с серными источниками и викторианскими коттеджами. Городок Шэрон-Спрингс располагался чуть юго-западнее своего знаменитого собрата, Саратога-Спрингс[15], но и в лучшие времена не мог конкурировать с ним, а уж нынче – тем более. В начале двадцатого века Шэрон-Спрингс начал приходить в упадок, а к 1950-м полдюжины из его отелей были в аварийном состоянии, снесены, закрыты или просто чахли по мере того, как их давние постояльцы охладевали к летним развлечениям или умирали. Но затем владельцам «Адлона» пришло на ум отвратить или хотя бы оттянуть неизбежное, перепрофилировав отель под творческий центр. Было похоже, что писатели облюбовали его с 2012 года и платили за мир и покой, чистые номера и студии, а также завтраки и обеды за общим столом (плюс ланчи, доставляемые в простецких плетеных корзинах и заботливо оставляемые у двери, дабы не получилось как с «Кубла-ханом»[16]). Писатели приезжали, когда хотели, проводили время, как хотели, общались с коллегами, если хотели, и уезжали, когда хотели.
В общем и целом, это мало чем отличалось от… курортного отеля.
Джейк навел курсор на меню веб-сайта, открыл вкладку «Перспективы» и неожиданно для себя стал читать описание вакансии координатора досуговой программы, намеченной на начало января. О зарплате не было ни слова. Джейк загуглил городок, чтобы выяснить, какой общественный транспорт ходит туда из Нью-Йорка. Никакой. Тем не менее, это была работа.
Ему действительно нужна была работа.
Неделю спустя он сел в поезд и поехал в Хадсон на встречу с молодым дельцом – ровно на шесть лет моложе Джейка, но уже вытянувшим свой счастливый билет – из семьи, владевшей «Адлоном» третье поколение. По итогам встречи в кофейне на фешенебельной Уоррен-стрит, невзирая на отсутствие у Джейка нужного опыта, он был принят.
– Мне нравится, что наших гостей будет встречать успешный писатель, – сказал ему новый работодатель. – Пусть видят, к чему надо стремиться.
Джейк предпочел оставить это многозначительное высказывание без замечаний.
В любом случае, это было временным решением. Никто по доброй воле не покидал Нью-Йорк в пользу городишка у черта на рогах, во всяком случае, не имея планов вернуться. Что до планов Джейка, они включали оплату жилья в сказочно преображенном Бруклине и, вероятно, в Коблскилле, в нескольких милях к югу от Шэрон-Спрингс, а также виртуальные уроки писательского мастерства и как-бы-работу в Рипли, параллельно с работой в Творческом центре искусств «Адлон». Все это укладывалось в период изгнания в пару лет, максимум – в три года, которых Джейку должно было с лихвой хватить, чтобы начать и закончить новый роман, когда он допишет текущий!
Правда, его текущий роман давно растекся, а нового не было и в проекте.
Зато у Джейка была новая работа, сочетавшая в себе обязанности члена приемной комиссии, администратора-распорядителя и диспетчера, но, как бы грозно это ни звучало, он справлялся без особого труда. Главное, что его напрягало, это необходимость физически присутствовать в «Адлоне» в течение дня (а по выходным быть доступным по телефону круглые сутки), но в остальном работа была не пыльной, и Джейк напоминал себе, что он везунчик. Он вел скромную жизнь и откладывал деньги. Он все так же вращался в литературной и писательской среде, хотя и дальше, чем когда бы то ни было, от своих писательских амбиций. Он все так же имел возможность (которой пренебрегал) работать над своими романами, а между делом продолжал опекать и наставлять других писателей – начинающих, непризнанных, даже писателей вроде него самого, переживающих что-то вроде промежуточного кризиса. Как он однажды заметил в пенобетонной переговорной в кампусе Рипли (насколько он был в курсе, теперь корпус Ричарда Пенга арендовала компания, занимавшаяся организацией корпоративных семинаров и конференций), писатели всегда помогают друг другу.
В тот конкретный день в «Адлоне» размещались шестеро писателей, а это значило, что творческий центр был загружен примерно на двадцать процентов, хотя Джейк все равно не мог понять, что эти люди забыли в занесенном снегом, доживающем свои дни курортном городке, тем более когда до Саратога-Спрингс рукой подать. Трое из них были сестрами под семьдесят, совместно писавшими сагу, основанную – кто бы сомневался? – на истории их семьи. Был также хмурый тип, живший южнее Куперстауна, но каждое утро наезжавший в отель, писавший весь день и уезжавший после обеда. Еще была поэтесса из Монреаля (она почти все время молчала, даже за общим столом) и здоровяк, прибывший пару дней назад из Южной Калифорнии. (Кто в здравом уме оставил бы Южную Калифорнию в январе ради севера штата Нью-Йорк?) Но, в целом, они составляли вполне сговорчивую и бесконфликтную группу, ничего общего с подковерными гадюшниками, какие Джейку доводилось наблюдать в Рагдейле и Виргинии! Сам отель работал как нельзя лучше, насколько это возможно для здания, построенного сто тридцать лет назад, а две поварихи, мать и дочь из Коблскилла, готовили так, что пальчики оближешь, при том что стараться им было особо не для кого. Джейк рассчитывал засесть на несколько часов у себя в кабинете, через стену от бездействовавшей стойки регистрации, и приняться за редактуру четвертого варианта на редкость унылого триллера одного клиента из Милуоки.
Другими словами, его ожидал типичный день, такой, о котором потом можно будет сказать: ничто не предвещало.
Глава шестая
Этот кошмар
Вскоре после ланча (точнее, после того как корзины с ланчем были оставлены у номеров писателей) к Джейку явился здоровяк из Калифорнии. Ему было под тридцать лет, предплечья покрывали татуировки, а со лба свисала густая прядь, которую он то и дело зачесывал назад. Распахнув без стука дверь в кабинет Джейка, он поставил на стол перед ним корзину.
– В общем, это дерьмо.
Джейк взглянул на него исподлобья. Он успел основательно погрузиться в ужасный триллер, сюжет которого был настолько шаблонным, что он заранее мог сказать, что там будет дальше и в каком порядке, даже когда продирался через эту тягомотину в первый раз, а не в четвертый.
– Ланч?
– Дерьмо. Какое-то черное мясо. Сами, что ли, сбили, пока ехали сюда?
Джейк не сдержал улыбку. В округе Скохари, который он проезжал, водители нередко сбивали всякую живность.
– Вы не едите мясо?
– Мясо-то я ем. Только дерьмо не ем.
Джейк откинулся на спинку кресла.
– Сожалею. Почему бы нам не пройти в кухню и не обратиться с этим к Патти и Нэнси, чтобы вы им рассказали, что вам нравится и что не нравится. Мы не всегда можем гарантировать раздельное питание, но мы хотим, чтобы вы были счастливы. Сейчас, когда у нас всего шестеро гостей, мы наверняка сможем подправить меню.
– Этот городок какой-то жалкий. Ничего тут нет.
Да ну. В этом калифорнийский приятель Джейка конкретно заблуждался. Может, золотой век Шэрон-Спрингс и остался в далеком прошлом (однажды даже Оскар Уайлд читал здесь лекцию, в отеле «Павильон»), но в последние годы наметилась тенденция к возрождению. Отреставрировали образцовый местный отель «Американец», вернув ему былую элегантность, а на крохотной главной улице открыли пару неожиданно хороших ресторанов. Но самое главное – двое ребят с Манхэттена, вынужденные оставить свою работу в СМИ из-за кризиса 2008 года, купили местную ферму и стадо коз и принялись делать сыр, мыло и просто создавать движуху, вышедшую за пределы Шэрон-Спрингс, штат Нью-Йорк. Эти двое стали писать книги, запустили свое реалити-шоу и открыли магазин не хуже, чем на главных улицах Восточного Хэмптона или Аспена, прямо напротив отеля «Американец». Это место имело все шансы стать первоклассным туристическим объектом. Разве что не в январе.
– А вы уже все осмотрели? Многие писатели ходят по утрам в кафе «Черная кошка». Там отличный кофе. А в «Бристоле» превосходная еда.
– Я вам достаточно плачу, чтобы находиться здесь и работать здесь над моей книгой. Кофе здесь должен быть высший сорт. А еда здесь не должна быть дерьмом. Вы бы, наверное, не перетрудились, если бы сделали тост с авокадо?
Джейк посмотрел на него. В Калифорнии авокадо могли расти на деревьях – в буквальном смысле – и в январе, но он сомневался, чтобы этот молодчик одобрил каменные авокадо, что продаются в супермаркетах Коблскилла.
– Здесь вроде как основной упор на сыр и молоко. Возможно, вы заметили все эти молочные фермы?
– У меня непереносимость лактозы.
– О, – Джейк нахмурился. – А мы это знали? Вы указывали это в бланках?
– Я не знаю. Я не заполнял никакие бланки.
Этот тип смахнул со лба волосы. Не в первый раз. И они снова упали на глаза. Не в первый раз. Это что-то напомнило Джейку.
– Что ж, надеюсь, вы напишете, какая еда пришлась бы вам по вкусу. Я бы не рассчитывал здесь на хорошие авокадо, не в это время года, но, если есть какие-то блюда, какие вам нравятся, я поговорю с Патти и Нэнси. Если вы сами не хотите.
– Я хочу писать мою книгу, – заявил здоровяк с напором под стать киногерою, бросающему в камеру что-то вроде: «Вы обо мне еще услышите» или «Вы не знаете, на что я способен». – Я приехал сюда, чтобы закончить ее, и не хочу думать ни о чем другом. Я не хочу слушать этих трех ведьм, вечно кудахчущих в соседнем номере. Не хочу, чтобы трубы в ванной не давали мне спать по утрам. И что это за камин в моей спальне, что мне нельзя топить его? Я точно помню огонь в камине у вас на сайте. Какого хрена?
– Это был камин в зале, – сказал Джейк. – Разводить огонь в номерах у нас, к сожалению, не разрешается. Но в зале мы топим камин каждый вечер, и я с радостью затоплю его пораньше, если вы захотите поработать там или почитать. Мы делаем здесь все, что можем, чтобы создать условия для наших гостей-писателей, и заботимся, чтобы у них было все, что нужно для работы. И конечно, чтобы они оказывали благотворное влияние друг на друга.
Говоря все это, Джейк думал о том, сколько раз он за всю свою жизнь говорил что-то подобное, и все, кому он это говорил, согласно кивали ему, потому что все они были писателями, а писатели признают важность взаимопомощи. Так было всегда. Но не в этом случае. И Джейк вдруг понял, что когда-то уже сталкивался с чем-то подобным.
Когда же этот тип тесно сложил руки на груди, злобно глянув на Джейка, до него дошло.
Эван Паркер. Из Рипли. Тот самый, с небывалой историей.
Теперь он понял, почему в течение всей этой стычки у него было такое чувство, словно мозг подает ему какие-то знаки, а мысли кружатся вокруг невидимого центра. Нет, этого конкретного говнюка он впервые встретил пару дней назад, но значило ли это, что он его не знал? Знал. Еще как.
Нельзя сказать, что прошедшие пару лет Джейк только и делал, что размышлял о том, первом, говнюке – стал бы писатель, познавший какой-никакой профессиональный успех (а Джейк его познал) забивать себе голову зеленым писакой, невесть как сумевшим дернуть за рычаг автомата первоклассных историй в самый удачный момент, не иначе, с первого раза, и сорвавшим дармовой джек-пот? Всякий раз, как в мыслях Джейка возникал Эван Паркер, его мучила зависть, горькая зависть от несправедливости всего этого, после чего он бегло проверял, не вышла ли еще – вряд ли такое можно было не заметить, но мало ли – эта книга (а она все не выходила), и в который раз думал, что его бывший студент переоценил свои способности, но это не сильно его утешало. Эта история, как сказал о ней сам автор, была, в своем роде, серебряной пулей, и когда бы книга ни вышла, ее ожидает успех, как и ее автора – такой успех, какой и не снился Эвану Паркеру, как, впрочем, и Джейку.
Сидя в своем скромном кабинете в Творческом центре искусств «Адлон», Джейк явственно почувствовал присутствие Эвана Паркера, словно тот вошел к нему собственной персоной вместе с этим калифорнийским умником.
Умник все говорил – точнее, разорялся. Разделавшись с коллегами-писателями, от стал крыть отель «Адлон», местную кухню и весь городок Шэрон-Спрингс. А затем перешел на своего «агента с восточного берега», посмевшего предложить ему заплатить кому-то собственные деньги, чтобы его роман доработали прежде, чем снова предлагать в издательство (А зачем тогда редакторы? Или те же агенты?), и на киношника, которого он встретил на вечеринке, предложившего ему ввести в действие героиню (Мужики книг, что ли, не читают или в кино не ходят?), и далее, на уродов в Макдауэлле и Яддо, отказавших ему в резиденции (Им, наверно, подавай «аффтаров», мечтающих продать хотя бы десять экземпляров своих романов в стихах!), и на неудачников, строчащих что-то за каждым столиком в каждой кофейне в Южной Калифорнии, таких одаренных, что куда деваться, будто мир ждет не дождется их сборника рассказов, сценария или романа…
– Вообще-то, – сказал Джейк неожиданно для себя, – я сам написал два романа.
– Ну еще бы, – умник покачал головой. – Каждый может быть писателем.
Он развернулся и решительно вышел из кабинета, оставив на столе у Джейка плетеную корзину с ланчем.
Джейк слушал удалявшиеся шаги гостя-писателя, пока тот поднимался по лестнице, и наступившую затем тишину, в который раз задаваясь вопросом, за что ему этот кошмар – сносить общество (не говоря о хамстве) подобной публики. Все, чего ему хотелось, это рассказывать – лучшими возможными словами, в лучшей возможной манере – истории, возникавшие у него в уме. Он всегда с готовностью работал над собой и своими произведениями. Он был учтив с учителями и уважителен с коллегами. Он прислушивался к советам агента (когда тот их высказывал) и учитывал замечания редактора (когда тот их делал) без возражений. Он оказывал поддержку другим писателям, которых знал и кем восхищался (и даже тем, кем не особо восхищался), посещая их читки и, более того, покупая их книги (в твердых обложках! в независимых книжных!), и делал все возможное, чтобы быть хорошим учителем, наставником, товарищем и редактором, несмотря на (будем откровенны) полнейшую безнадежность большинства работ, с которыми ему приходилось иметь дело. И к чему он в итоге пришел? Стал бортпроводником на «Титанике», предлагавшим стулья пятнадцати бездарным прозаикам, попутно убеждая их, что стоит приложить немного усилий, и все будет в порядке. Он был мажордомом в старом отеле на севере штата Нью-Йорк, притворявшимся, что все эти «гости-писатели» ничем не отличаются от ребят из Яддо, расположенного неподалеку. Мне нравится, что наших гостей будет встречать успешный писатель. Пусть видят, к чему надо стремиться.
Но никто из этих гостей-писателей никогда не признавал профессиональных достижений Джейка и не спешил равняться на него в той области, в которой они, судя по всему, надеялись достичь успеха. Никто, ни разу за три года. Джейк был для них невидимкой – и не только для них.
Потому что как писатель он спекся.
Когда эти слова возникли у него в уме, он ахнул. Невероятно, но он впервые признался себе в этом.
Но… но… у него в уме кружились слова, настойчивые и абсурдные: новый и неординарный, согласно «Нью-Йорк Таймс», и писатель, за которым стоит следить, согласно «Поэтам и писателям»! Он получил степень магистра искусств по лучшей в стране программе! А как забыть тот случай, когда он зашел в книжный «Барнс и Нобл»[17] в Стэмфорде, штат Коннектикут, и увидел «Изобретение чуда» на полке «Наш выбор», вместе с каталожной карточкой, надписанной от руки некой Дарьей: «Одна из самых интересных книг, что я прочитала за этот год! Лирический и глубокий язык».
Лирический! И глубокий!
С тех пор прошли годы.
Каждый мог быть писателем. Каждый – кроме, похоже, него.
Глава седьмая
Искра
Тем вечером, ближе к полуночи, вернувшись к себе в Коблскилл, Джейк сделал нечто такое, чего никогда не делал, ни разу с тех пор, как увидел своего везучего студента входящим в сосновую рощу в кампусе Рипли.
Открыв интернет, Джейк напечатал имя «Паркер Эван» и нажал ввод.
Безрезультатно. Собственно, от чего он отталкивался: когда-то его бывший студент намеревался взять себе псевдоним «Паркер Эван», но это было три года назад. Возможно, он выбрал другой псевдоним, посчитав, что переставить местами имя с фамилией слишком просто или слишком очевидно, да мало ли что.
Джейк кликнул по строке поиска и напечатал: «Паркер, роман, триллер».
Паркер, роман, триллер выдали страницы ссылок на романы серии «Паркер» Дональда Уэстлейка и еще на одну серию «книг-загадок» Роберта Б. Паркера.
Так что, даже если Эван Паркер и предложил свой роман в какое-нибудь издательство, первое, что ему, по всей вероятности, посоветовали, это отказаться от идеи использовать «Паркера» в псевдониме.
Джейк удалил из строки поиска «Паркера» и попробовал новую комбинацию: «триллер, мать, дочь».
Это было безнадежно. Бессчетные страницы книг и писателей, большинство из которых ни о чем ему не говорили. Джейк кликнул несколько ссылок и пробежал глазами аннотации, но нигде не было ни слова об одной уникальной особенности, о которой ему поведал бывший студент в корпусе Ричарда Пенга. Джейк кликнул наугад несколько профилей писателей, не особо рассчитывая увидеть лицо Эвана Паркера, и даже не очень уверенный, что узнал бы его, но не нашел никого, хотя бы отдаленно похожего на него – там были старики, толстяки, лысые мужчины и множество женщин. Но его там не было. Его книги там не было.
Мог ли Эван Паркер заблуждаться? И Джейк заодно с ним, все это время? Могла ли такая история просто раствориться в море рассказов и романов, триллеров и мистики, публикуемых каждый год, и кануть в небытие? Джейк так не думал. Скорее, он был готов допустить, что Паркеру, несмотря на его безграничную веру в себя, что-то помешало дописать роман. Может, этой книги не было в интернете – и она не выскакивала на первых страницах каждого из его запросов – просто потому, что ее вообще не было. Не было на свете. Но почему?
Джейк набрал настоящее имя, Эван Паркер, и нажал ввод.
Возникли профили нескольких пользователей фейсбука. Джейк открыл фейсбук и стал смотреть список пользователей. Там были разные мужчины – крупные, мелкие, лысые, темнокожие – и даже несколько женщин, но никого хотя бы отдаленно напоминавшего его бывшего студента. Может, Паркера не было в фейсбуке. (Как и Джейка; он удалил страницу, когда ему надоело смотреть, как его «друзья» выкладывают анонсы своих новых книг.) Он вернулся к результатам поиска, открыл изображения и стал просматривать страницу за страницей. Сколько же на свете Эванов Паркеров – и все не те. Джейк вернулся на основную страницу поиска. Там были Эваны Паркеры из школьных футболистов, танцоров балета, дипломатов, находящихся в Чаде, а также скаковые лошади и женихи с невестами («Будущие Эван-Паркеры приветствуют вас на своей свадебной странице!»). Но там не было ни одного мужчины, хотя бы в общих чертах совпадавшего по возрасту и внешности с бывшим студентом Джейка.
А затем он заметил внизу страницы: «Запросы, похожие на „эван паркер“».
А ниже – слова: «эван паркер некролог».
Еще не успев открыть эту страницу, он уже знал, что увидит.
Эван Люк Паркер из Западного Ратленда, ВТ (38), внезапно скончался вечером 4 октября 2013 г. Эван Люк Паркер окончил среднюю школу Западного Ратленда в 1995 г., обучался в Общественном колледже Ратленда, и вся его жизнь прошла в центральном Вермонте. Он пережил родителей и сестру, из родных у него осталась племянница. Поминальные мероприятия будут объявлены позже. Похороны пройдут в частном порядке.
Джейк прочитал это дважды. И хотя основная мысль была предельно ясна, его разум не сразу принял ее.
Он был мертв? Он был мертв. И… Джейк взглянул на дату. Это случилось не вчера. Это случилось… немыслимо – всего через пару месяцев после их сумбурного знакомства. Джейк никогда не думал, что Эван родом из Вермонта или что его родители и сестра уже умерли, придав его жизни трагический оттенок, ведь он был довольно молод. Ни о чем из этого его студент, разумеется, не упоминал за время их недолгого знакомства. Они ведь, в сущности, не говорили ни о чем, кроме его недописанного романа. Да и об этом лишь мельком. Дело в том, что всю оставшуюся сессию Эван Паркер просидел на семинарах молча и не счел нужным (или не смог) прийти на заключительное индивидуальное занятие. Джейк даже думал, что Паркер мог жалеть о том, что поделился с ним своей экстраординарной идеей, и во всяком случае не собирался повторять этой ошибки ни с кем из своих одногруппников, но Джейк никогда не распространялся о том, что ему хоть что-нибудь известно о романе, над которым работал Паркер, или что он видит в нем что-то выдающееся. Когда закончилась сессия, этот надменный, замкнутый и малоприятный человек ушел, как и другие студенты, и Джейк не сомневался, что он приложит все усилия, чтобы его книга увидела свет. А он взял и умер. И его книга, по всей вероятности, осталась недописанной.
Потом, конечно, Джейк будет возвращаться к этому моменту. Потом он признает его переломным, но и в первые минуты он попытался как-то осмыслить этот набор голых фактов (трехлетней давности!), к которым еще столько раз впоследствии вернется. Моральная сторона этого дела – Джейк привык считать себя человеком моральным, с определенными этическими нормами – его почти не волновала. Больше его волновало то, что он был писателем, а быть писателем подразумевает верность чему-то еще, даже более важному.
Верность хорошей истории как таковой.
Джейк мало во что верил. Он не верил, что вселенную создал какой-то бог, не говоря о том, чтобы этот бог наблюдал за всем происходящим и отмечал каждый человеческий поступок с той целью, чтобы определить гомо сапиенсам, живущим на этой планете всего несколько тысячелетий, тот или иной удел в загробной жизни. Да и в загробную жизнь он не верил. Как не верил ни в судьбу, ни в злой рок, ни в удачу, ни в силу позитивного мышления. Он не верил, что каждый получает по заслугам, что все случается не просто так (а как?) или что в нашей жизни как-то участвуют сверхъестественные силы. Что толку в этой чуши? Есть то, что есть: нашей жизнью правят слепые случайности и гены, определяющие, насколько ты готов рвать задницу и насколько ты внимателен, чтобы заметить возникшую возможность. Если она возникнет.
Но было кое-что, во что Джейк верил, кое-что, обладавшее для него почти волшебной силой или, во всяком случае, возвышавшееся над будничной суетой, и это был долг писателя перед историями.
Понятно, что историй на свете, как грязи. У каждого своя история, и часто не одна; вся наша жизнь проходит среди них, признаем мы это или нет. Истории – это колодцы, куда мы заглядываем, чтобы напомнить себе, кто мы есть, и подкрепить уверенность в том, что, как бы мало мы ни значили для кого-то, мы играем важную, даже незаменимую роль в творящейся вокруг драме выживания – на личностном, общественном и даже видовом уровне.
Но, при всем при этом, истории до одури похожи. Нет никакой глубинной шахты с залежами неведомых историй или гипермаркета с бескрайними рядами непрожитых, никому еще не снившихся, восхитительно новых историй, чтобы писатель шел вдоль них с большой пустой тележкой и выбирал, что захочет. Те семь сюжетов, к которым Джейк когда-то примерял не слишком увлекательное повествование Эвана Паркера о матери и дочери в старом доме – победа над монстром? Из грязи в князи? Возвращение домой? – разрабатывают писатели и сказители всех времен и народов. И все же…
И все же.
Иногда из ниоткуда возникает какая-то чудесная искра и падает (как в солому) в сознание человека, способного загореться новой идеей. Обычно это называют «вдохновением», хотя писатели смотрят скептически на такое понятие.
Эти чудесные искры бесцеремонны. Они будят тебя поутру, настойчиво разжигая воображение, и преследуют весь день: сама идея, герои, конфликт, место действия, реплики в диалогах, характерные фразы, вводное предложение.
Эти отношения между автором и его искрой выражались для Джейка одним словом – «ответственность». Как только тебя озарила идея, ты у нее в долгу за то, что она выбрала тебя, а не другого писателя, и погашаешь этот долг работой, не просто как ремесленник, знающий свое нехитрое дело, но как настоящий художник, не боящийся болезненных, времязатратных и даже позорных ошибок. Эта «ответственность» предполагает готовность смотреть в лицо пустой странице (или экрану) и затыкать своих внутренних критиков, хотя бы ненадолго, чтобы успеть сделать что-то стоящее, при том, что все эти задачи очень трудоемки и совершенно неизбежны. А кроме того, любые проволочки крайне рискованны, потому что, если подойти к работе без должной ответственности (отвлекаться или работать спустя рукава), может случиться так, что эта чудесная искра… покинет тебя.
Другими словами, твой творческий гений погаснет, так же внезапно, как и вспыхнул, а вместе с ним и твой роман, хотя ты можешь продолжать писать его несколько лет или всю свою жизнь, безнадежно бросая слова на страницу (или экран), упрямо отказываясь признать поражение.
И есть кое-что еще: особое темное суеверие, известное любому писателю, достаточно высокомерному, чтобы отмахнуться от искры великой идеи, пусть даже такой писатель не религиозен, пусть даже он не верит, что «все случается не просто так», пусть даже он отрицает «магическое мышление» любого вида. Суеверие о том, что, если ты не прислушаешься к чудесной идее, выбравшей тебя из всех писателей на свете, она не просто оставит тебя с ворохом пустых, ничего не значащих слов. Она в буквальном смысле найдет себе другого. Ибо великая история хочет быть рассказанной. И если ты ее отвергнешь, она уйдет от тебя и найдет себе ответственного писателя, а тебе останется смотреть, как кто-то другой напишет и издаст твою книгу.
Невыносимо.
Джейк помнил тот день, когда его внезапно посетила ключевая идея «Изобретения чуда» – без всякой преамбулы, без предупреждения – и несмотря на то, что это с ним случилось впервые, он сразу подумал:
«Хватай ее».
И схватил. И отнесся ответственно к этой искре, разгоревшейся в нем, и написал свой лучший роман, «новую и неординарную» первую книгу, обратившую не него – столь мимолетное – внимание литературного мира.
Когда же он писал «Реверберации», (якобы «роман в рассказах», хотя это был просто… сборник рассказов), он не чувствовал ни малейшего подобия того горения, но сумел закончить книгу, решив в какой-то момент, что уже может написать «конец». Это и стало концом, скажем прямо, его «многообещающего» периода «молодого писателя, за которым стоит следить», и будь Джейк мудрее, он бы вообще не стал издавать эту книгу, но его приводила в ужас мысль о забвении после «Изобретения чуда». По мере того, как его рукопись отвергали одно за другим все серьезные издательства, а за ними и академические, важность издания второй книги все сильнее разбухала в сознании Джейка, пока он не почувствовал, что на кону стоит его жизнь. Он убедил себя, что, если сумеет пристроить куда-нибудь эту книгу, тогда, возможно, к нему придет новая идея, новая искра.
Только она не пришла. И хотя в последующие годы его иногда посещали неплохие идеи – о мальчике, растущем в семье, помешанной на разведении собак; о человеке, обнаружившем престарелого родственника, с рождения помещенного в закрытое учреждение, – он не чувствовал горения, побуждавшего его писать. Все, что он писал с тех пор, развивая эти и подобные им идеи, было сплошным мучением.
И наконец он решил быть совершенно честным с собой – и до сих пор он был совершенно честен с собой – и перестал стараться быть писателем. Прошло уже больше двух лет с тех пор, как он написал хоть что-то художественное.
Однажды, давным-давно, Джейка коснулась искра, и он отнесся к этому более, чем ответственно. Он прилежно трудился, не избегая сложных мыслей и тщательно подбирая слова. Он стремился сделать все как можно лучше и не искал легких путей. Он воспользовался шансом заявить о себе миру и отдал себя на суд издателей, критиков и обычных читателей… Но удача оставила его и ушла к другим. Что же ему оставалось, что его ожидало, если его больше не коснется новая искра?
Думать об этом было невыносимо.
«Хорошие писатели заимствуют, великие – крадут», – крутилось в уме у Джейка.
Эту затертую фразу приписывают Т. С. Элиоту (но это не значит, что он ее не украл!), но Элиот говорил, вероятно, с иронией, о краже языка в целом – фраз, предложений и абзацев – не о краже конкретной истории. К тому же, как знал Джейк, как знал Элиот и как должны знать все художники, каждая история как уникальное произведение искусства – от наскальной живописи до постановок в «Парковом театре» в Коблскилле и его собственных ничтожных книжек – перекликается с любым другим произведением искусства: отталкивается от предшественников, берет от современников, обращается к потомкам. Все это – живопись и хореография, поэзия и фотография, актерское мастерство и переменчивые сюжеты – кружится в безостановочном танце бога искусства. Это волнительно и прекрасно.
Джейк едва ли будет первым, кто возьмет что-то от готовой пьесы или книги – в данном случае, от книги, которая вообще не написана! – и создаст что-то свое. Взять «Мисс Сайгон[18]» и «Мадам Баттерфляй»; «Часы[19]» и «Миссис Дэллоуэй»; «Короля льва» и «Гамлета»! В этом нет ничего противозаконного, так что это нельзя считать воровством; даже если рукопись Паркера действительно существовала на момент его смерти, Джейк не видел из нее ничего, кроме пары страниц, и мало что помнил оттуда: мать на спиритической горячей линии, дочь пишет о саквояжниках, орнамент из ананасов украшает дверь старого дома. Не приходилось сомневаться, что любая книга, которую Джейк напишет, используя такую малость, будет принадлежать ему и только ему.
Вот такие мысли одолевали его тем январским вечером за компьютером в паршивой съемной квартирке в городке Коблскилл, в «Регионе Кожаного Чулка», на севере штата Нью-Йорк, побуждая отказаться от гордости, надежды, ожидания и – он смог наконец это признать – собственных идей.
Это было не в его духе. Он поддерживал писателей, которые прислушивались к другим писателям, а потом со всей ответственностью возвращались к своим собственным идеям. Он и не думал звать эту дивную искру, от которой отказался его студент (окей, невольно отказался), явиться к нему, но она явилась, это неотступное, блестящее нечто, уже искрящееся у него в уме, уже преследующее его: идея, герои, конфликт.
И что же Джейк собирался делать?
Вопрос, конечно, риторический. Джейк точно знал, что будет делать.
Часть третья
Глава восьмая
Синдром сороки
Три года спустя Джейкоб Финч-Боннер – автор «Изобретения чуда» и однозначно более успешного романа «Сорока» (перешагнув тираж в два миллиона в твердой обложке, он держался на второй строчке списка бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» после того, как девять месяцев занимал первую) – стоял на сцене зала Фонда С. Марка Тэйпера в Концертном зале Сиэтла. Ведущая относилась к тому типу женщин, который он успел хорошо изучить за время своего нескончаемого книжного тура: восторженная, потерявшая голову поклонница, возможно, никогда до этого не читавшая книг, но совершенно сраженная его романом. Она облегчала роль Джейку тем, что постоянно хохотала, а вопросы задавала самые общие. В основном, все, что ему требовалось, это кивать, говорить спасибо и оглядывать публику с благодарной и скромной улыбкой.
Это была не первая его поездка в Сиэтл в поддержку нового романа, но первая прошла ближе к началу тура, когда армия читателей еще не успела сойти с ума по «Сороке», поэтому места проведения были выбраны из разряда для-автора-средней-руки: магазины «Книжная компания залива Эллиот» и «Барнс и Нобл» в Бельвью. Но Джейк и этому был весьма рад. («Изобретение чуда» вообще обошлось без тура, а на читке в книжном «Барнс и Нобл», организованном по личной инициативе Джейка, вблизи его родного Лонг-Айленда, собралось шестеро человек, считая его родителей, старую учительницу английского и мать его школьной подружки, которая, должно быть, читала роман, недоумевая: и как только ее дочь вляпалась в Джейка.) Но что особенно его радовало в тех первых читках в Сиэтле и в бесчисленных подобных им по всей Америке, это что на них действительно приходили люди, помимо его родителей, школьных учителей и еще каких-либо знакомых. К примеру, сорок человек, пришедших на читку в «Залив Эллиот», как и двадцать пять в «Барнсе и Нобле» в Бельвью, Джейк видел впервые в жизни, и это было поразительно. Настолько поразительно, что ему потребовалась пара месяцев, чтобы более-менее привыкнуть к этому.
Но теперь он уже привык.
Тот тур – технически говоря, в поддержку издания в твердой обложке – продолжался до сих пор. По мере того, как «Сорока» набирала популярность, добавлялись все новые мероприятия, по большей части телепередачи, куда зрителей пускали только при условии покупки книги, а затем стали добавляться книжные ярмарки и фестивали: Майамская, Техасская, Ассоциации писателей, а также «Бухеркон» и «Левобережный криминал» (два последние фестиваля, как и почти все, связанное с триллерами, в авторы которых Джейк ненароком угодил, были ему незнакомы). Можно без преувеличения сказать, что с тех пор, как вышла книга, Джейк жил на колесах, подгоняемый благоговейным очерком о своей особе в «Нью-Йорк Таймс», переходившим из номера в номер, наподобие тех, что когда-то заставляли его зеленеть от зависти. Затем, через несколько месяцев этой вакханалии, когда Опра назвала «Сороку» своей книгой октября, вышло издание в мягкой обложке, и теперь Джейк повторно посещал часть прежних городов, только уже с таким размахом, о котором не смел и мечтать.
К примеру, зал Фонда С. Марка Тэйпера насчитывал более 2400 сидячих мест – Джейк заранее это выяснил. Две тысячи четыреста сидячих мест! И, насколько он мог видеть со сцены, свободных не было. Он также видел яркие желто-зеленые обложки нового издания «Сороки» на коленях и в руках у людей. Большинство этих людей пришли уже с купленными книгами, что не могло не удручать организаторов, заказавших из «Залива Эллиот» для автограф-сессии, запланированной в холле, четыре тысячи экземпляров, но до чего же было приятно Джейку. Когда вышло «Изобретение чуда», больше десяти лет назад, он решил, что непременно сбудется его фантазия «я увижу, как читают мою книгу» – излишне говорить, что этого не случилось. Как-то раз, в подземке, он увидел, как один парень читает книгу, ужасно похожую на его, но, когда Джейк сел напротив и присмотрелся, оказалось, что это новый роман Скотта Туроу[20], и такая «ложная тревога» повторялась с ним еще не раз. Что уж говорить о «Реверберациях», которых было продано меньше восьми сотен (и еще две сотни Джейк заказал сам, по скидке). А теперь этот зал был полон живых, настоящих читателей, заплативших свои кровные деньги за билеты, чтобы попасть в это шикарное место, читателей, сжимавших в руках его книгу, ловивших каждое его слово и разражавшихся смехом на любые его шутки, даже всякую банальщину о его «творческом пути» и о том, что он все так же носит ноутбук в кожаном портфеле, купленном вечность назад.
– О боже, – сказала ведущая, – я должна вам рассказать: я летела в самолете и читала эту книгу, и дошла до этого места – думаю, вы все понимаете, о каком месте я говорю – и я как бы ахнула! Как бы во весь голос! И подошла бортпроводница и сказала: «Вы в порядке»? А я говорю: «О боже, эта книга!» И она спросила, что за книгу я читаю, так что я ей показала, и она стала смеяться. Она сказала, такое у них уже несколько месяцев – люди вскрикивают и ахают посреди полета. Это как бы синдром. Как бы такой синдром сороки!
– О, это так забавно, – сказал Джейк. – Я всегда посматривал, что люди читают в самолетах. Моих книг я никогда не видел, уверяю вас!
– Но ваш первый роман был назван «новой и неординарной» книгой, согласно «Нью-Йорк Таймс».
– Да, верно. Это была огромная честь. К сожалению, людям это не передалось настолько, чтобы они своими ногами пошли в магазины и стали покупать ее. Скажу больше, я даже не думаю, что эта книга продавалась в магазинах. Помню, мама мне сказала, они не нашли ее в местном книжном на Лонг-Айленде. Ей пришлось заказывать ее. Неслабый облом для еврейской мамы, чей сын не стал даже доктором.
Взрывы смеха. Ведущая – ее звали Кэнди, и она была местной публичной персоной – сложилась пополам. Придя в себя, она задала Джейку весьма предсказуемый вопрос: как у него впервые возникла эта идея.
– Я не думаю, что идеи, даже великие идеи, так уж трудно найти. Когда меня спрашивают, откуда я беру свои идеи, мой ответ: в каждом номере «Нью-Йорк Таймс» сотня романов, а мы выбрасываем журнал или подкладываем в птичьи клетки. Если вы ограничены рамками личного опыта, вам может оказаться трудно увидеть что-то за пределами того, что случилось лично с вами, и, если только ваша жизнь не состоит из приключений, достойных «Нэшнл географик», вы вероятно решите, что вам не о чем писать роман. Но если вы окунетесь хотя бы на несколько минут в истории других людей и научитесь спрашивать себя: «Что, если бы это случилось со мной?» Или: «Что, если бы это случилось с кем-то, совершенно не похожим на меня» или «в мире, отличном от того, в котором я живу?» Или: «Что, если бы это случилось чуть по-другому, при других обстоятельствах?» Вы увидите, возможности безграничны. Дороги, которыми вы можете пойти, персонажи, которых вы можете встретить по пути, все, что вы можете узнать, так же безгранично. Я преподавал в программах на степень магистра искусств и могу вам сказать, возможно, самое важное из всего, чему вас может научить кто-либо. Выберитесь из своей головы и оглядитесь. Истории растут на деревьях.
– Что ж, окей, – сказала Кэнди, – но с какого дерева вы сорвали эту? Потому что, говорю вам, я читаю постоянно. Семьдесят пять романов за прошлый год, я подсчитала! Ну, «Гудридз» подсчитал, – она ухмыльнулась публике, и публика услужливо рассмеялась. – И я не могу представить другой роман, который заставил бы меня так ахнуть в самолете. Как же вам пришло такое в голову?
И снова его охватило это ощущение: холодная волна ужаса окатила Джейка – от макушки, по усмешливому лицу и по всем конечностям, вплоть до кончиков пальцев. Поразительно, но он никак не мог привыкнуть, хотя жил с этим каждый миг каждого дня, весь этот тур и предыдущий, и все те напряженные месяцы, предшествовавшие изданию, когда его новый издатель накручивал ажиотаж, а книжный мир начинал реагировать. Все то время, что он писал роман, занявший полгода, зиму и весну, у себя в квартирке, в Коблскилле, штат Нью-Йорк, и в кабинете через стену от старой стойки Творческого центра искусств «Адлон», надеясь, что никто из гостей-писателей не побеспокоит его жалобами насчет обслуживания или вопросами о том, как достать агента «Начинания Уильяма Морриса»[21], с того самого январского вечера, когда он прочитал некролог о своем выдающемся студенте Эване Паркере. Джейк жил с этим, каждый миг каждого дня, в постоянном страхе разоблачения.
Само собой, он не взял ни единого слова из тех страниц, которые прочитал в Рипли. Хотя бы потому, что у него их просто не было, а если бы и были, он бы выбросил их подальше. Даже если бы покойный Эван Паркер смог прочитать «Сороку», он бы нигде не нашел в ней своих слов, и тем не менее, с тех пор как Джейк напечатал на своем ноутбуке слова «ГЛАВА ПЕРВАЯ», он жил с ожиданием, ужасным ожиданием, что кто-то, кому известен ответ на этот вопрос – Как же вам пришло такое в голову? – встанет перед ним и направит на него обвиняющий перст.
Но Кэнди, похоже, не была таким человеком. Кэнди вообще была не семи пядей во лбу, и уж во всяком случае ничего не могла знать об этом. Что Кэнди привносила в их общение, так это восхитительное чувство легкости, в то время как на Джейка глазели двадцать четыре сотни человек, и он весьма ценил в ней это качество. А ее вопрос не имел скрытого смысла. Это был просто вопрос. Иногда вопрос – это просто вопрос.
– О, ну, понимаете, – сказал он наконец, – это вообще-то не особо интересная история. Мне вообще-то слегка неловко вспоминать об этом. То есть представьте себе самое тривиальное дело, какое только можно – я выносил из дома мусор, и мимо вдруг проехала эта мамаша из того же дома с дочкой-подростком. Они кричали друг на друга в машине. Очевидно, ну, понимаете, переживали накал страстей, как никакая мать и дочь-подросток на свете.
Джейк сделал паузу для смеха публики. Эту историю про вынос мусора он приберегал как раз для таких случаев и рассказывал уже не в первый раз. В этом месте люди всегда смеялись.
– И тут мне на ум пришла идея. То есть давайте по-честному. Пусть поднимет руку женщина, никогда в своей жизни не думавшая: «Убила бы мать» или «Эта пигалица меня до убийства доведет».
Огромный зал притих. Кэнди притихла. Затем последовал очередной раскат смеха, заметно более сдержанного. Всегда так было.
– И я просто стал думать, ну, понимаете, насколько ужасной могла быть та ссора? Насколько ужасной она могла стать? Могла ли она перерасти во что-то, ну, понимаете, настолько ужасное? И что бы тогда случилось?
– Что ж, – сказала Кэнди, выдержав паузу, – полагаю, нам всем уже известен ответ.
Новый взрыв смеха и аплодисменты. Такие громкие. Они с Кэнди пожали руки и встали, и помахали публике, и ушли со сцены, каждый в свою сторону: она – в актерское фойе, а он – к столу в холле, подписывать книги, где уже начала собираться длинная извилистая очередь, о которой он когда-то так мечтал. Вдоль стола, слева от Джейка, стояли шестеро молодых помощниц. Одна продавала «Сороку», другая писала на стикере нужное имя и лепила на обложку, а третья открывала книги на нужной странице. Все, что требовалось Джейку, это улыбаться и писать свое имя, что он и делал, снова и снова, так что у него в итоге заболели челюсть и левая рука, а лица читателей стали путаться и сливаться.
