На берегах Южного Буга. Подвиг винницкого подполья
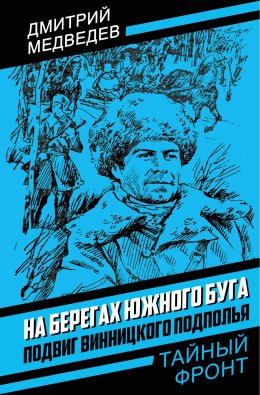
© Медведев Д.Н., 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
От автора
О Великой Отечественной войне написано уже много книг, но едва ли настанет такое время, когда эта тема будет исчерпана или покажется устаревшей. Эта война показала невиданные в истории примеры массового героизма. Мы говорим сейчас: город-герой, народ-герой, – и литература о войне, художественная летопись войны становится характеристикой самого народа, выражая главные черты его облика.
Нет, не оскудеют и не остынут для художника горячие источники этой темы, не пройдет с годами, а лишь усилится интерес к ней в широкой читательской аудитории. Я вижу, с какой жадностью расхватывает книги о минувшей войне новое поколение читателей – те, кто еще не помнит себя в сорок первом году; для многих из них первой самостоятельно прочитанной книгой была «Молодая гвардия».
И я верю, дорогие друзья, что мы с вами прочтем еще не одно монументальное произведение, что перед нами еще развернутся большие полотна, запечатлевающие великий ратный подвиг миролюбивого народа.
Моя задача скромнее. Мне пришлось быть свидетелем и участником патриотической борьбы советских людей на оккупированной территории, в тылу врага. Летом 1943 года наш партизанский отряд, действовавший в лесах Западной Украины, в районе города Ровно, по заданиям, получаемым непосредственно из Москвы, установил связь с коммунистическим подпольем в Виннице. К тому времени это была уже сильная, многочисленная, широко разветвленная организация советских патриотов. Она работала в условиях особо суровых и опасных, бок о бок со ставкой Гитлера, в обстановке свирепейшего фашистского террора, потерпела ряд жестоких провалов, теряя десятки своих членов, в том числе и руководителей, но из всех этих испытаний выходила еще более крепкой и боеспособной. Чем ближе мы знакомились, чем теснее соприкасались с винницким подпольем, – с момента установления связи оно стало действовать в постоянном контакте с нашим отрядом, – тем большим уважением проникались к его участникам. Простые советские ЛЮДИ – мужчины и женщины, старики и молодежь, даже дети; люди разной судьбы, разного культурного уровня, различных национальностей, – все они были спаяны одним общим интересом, общим стремлением помочь скорейшему освобождению родной советской земли, и это стремление они безоговорочно поставили выше собственной жизни. Никто не мог обязать их делать то, что они делали, – никто и ничто, кроме веления сердца. Предоставленный сам себе, оставшись наедине со своей совестью, каждый из них сделал для себя именно этот выбор, – какова же сила советского патриотизма, как высоко поднимает он человека!
О делах и днях винницкого подполья я и хочу рассказать в этой книге.
Материалом для нее послужили подлинные документы, относящиеся к деятельности подпольных групп, их отчеты, многочисленные воспоминания очевидцев и участников, с которыми я связан и личным общением, и перепиской. Книга задумана как документальная, и хотя большинство фамилий мне пришлось изменить, прототипы моих героев – люди, ныне здравствующие, – могут быть без труда узнаны, потому что в главном – в воспроизведении их характеров и поступков, в изображении событий – я старался как можно точнее следовать подлинным фактам. В то же время эта повесть не есть история винницкого подполья: далеко не все события нашли в ней свое отражение, далеко не обо всех людях, даже не о всех подпольных группах, действовавших в Виннице и ее окрестностях, удалось мне написать; тем более не удалось осветить жизнь винницких партизанских отрядов, которая заслуживает, конечно, многих и многих страниц, а скорее всего – самостоятельной книги. Для того чтобы уложиться в рамки литературного повествования, приходилось жертвовать многими интересными фактами, а главное – неумолимо сокращать и сокращать число действующих лиц. На самом деле их было гораздо больше, чем в этой книге, и среди них были замечательные люди, о которых хотелось иногда хотя бы просто упомянуть, чтобы воздать должное их заслугам, но, к сожалению, и тут пришлось придерживаться границ.
Те герои винницкого подполья, кого нет в живых, выступают в книге под своими подлинными именами. Эти люди – в большинстве совсем молодые – погибли в борьбе за свободу и счастье Отечества. Их подвиг не должен быть забыт. И мне хотелось, друзья, чтобы, прочитав и отложив эту книгу, вы не расстались с Ларисой Ратушной и Иваном Бадаевым, Виктором Даниловым и Борисом Крыжевым, с Володей Соболевым и Ваней Дидковским; чтобы они вошли в вашу жизнь и стали ее частичкой; чтобы память о них будила в вас те же высокие чувства, какие вели этих людей на борьбу и самопожертвование во имя Родины.
«…И после каждого из таких ударов воочию видно было, как несокрушима партия. Падал боец. И если его не мог заменить один, на его место становились двое, трое…»
Юлиус Фучик. Слово перед казнью
Часть первая
1941 год, весна
Здравствуй, дорогая Маринка!
Итак, ты уже в Виннице. Как же я тебе завидую! Как бы я сейчас хотела быть дома!.. Вот всегда так получается: останешься на зимние каникулы, а потом места себе не находишь. Только смотри, об этом ни слова никому.
Особенно не проговорись при моей маме (ведь ты зайдешь к ней). Она и так переживает из-за меня.
Переписываешься ли ты с Володей Кулягиным? Я вообще пишу ему довольно часто, но в последнее время боюсь просто садиться за письмо. Со мной случилась непонятная вещь: я потеряла «чувство меры». Раньше я спокойно писала письма и могла быть уверена, что ничего лишнего не напишу. А сейчас – как бы не так! Приходится думать над каждым словом – можно его написать или нет. Боюсь только, что когда-нибудь, под настроение, напишу ему глупое письмо, и потом будет неприятно мне, да и ему. Так и не знаю, что делать, чем «лечиться».
