«Тихая» Одесса
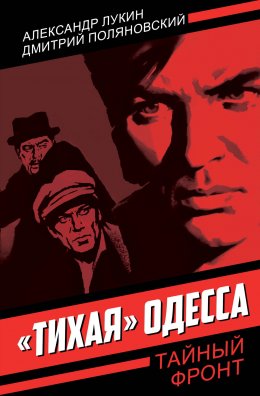
Тайный фронт
© Лукин А.А., 2024
© Поляновский Д.И., 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
Плотный, ниже среднего роста, с круглым и мягким лицом – таков был начальник разведотдела Одесской губчека Геннадий Михайлович Оловянников. Глубокие залысины прорезали его негустую шевелюрку, грозя в недалеком будущем сомкнуться на темени. Сквозь очки со стеклами для дальнозорких внимательно и, в общем, добродушно смотрели сильно увеличенные голубые глаза. Квадратные усики над губой он то и дело трогал пальцем, будто проверяя, на месте ли они. Подобная внешность, казалось бы, вполне подошла врачу или, скажем, учителю, но вовсе не соответствовала боевой репутации Оловянникова.
А репутация была громкая, известная далеко за пределами Одессы. Фамилия начальника разведотдела стала даже нарицательной. В особо трудных случаях, например, оправдывались тем, что, мол, «тут и Оловянников ногу сломит». И похвалой считалось, если говорили: «Вот это по-оловянниковски».
И вот неожиданно Оловянников приехал в Херсон.
Сразу же по приезде он имел длительную беседу с председателем Херсонской уездной ЧК, после чего у председателя заметно испортилось настроение. Содержание беседы осталось тайной, зато настроение начальства скоро почувствовал на себе уполномоченный по кадрам Завадько, которому было приказано доставить в кабинет председателя все личные дела чекистов. Завадько вышел из кабинета взмокший, сказал, отдуваясь: «Гроза! …» – но от дальнейших объяснений отказался наотрез.
В последующие дни поведение Оловянникова породило множество разнотолков. Он заходил то к одному, то к другому уполномоченному, интересовался следственными делами, иногда присутствовал на допросах, но ни во что не вмешивался, только сидел в углу и молча поблескивал оттуда стеклами очков. В свободное время он беседовал с сотрудниками о том о сем, исподволь выспрашивал о работе, о семейном положении и даже о состоянии здоровья.
Некоторые решили: ищет кого-то. Другие сходились на мнении, что Оловянникову поручена негласная проверка кадров. А кое-кто считал, что он подбирает людей для Одесской губчека. Последняя версия особенно заинтересовала: Одесса не Херсон, есть где развернуться!
Разговоры, впрочем, скоро угасли. Чего, в конце концов, гадать? Понадобится – скажут. Тут и своих забот по горло! …
И когда через десять дней Оловянников уехал, его отъезд прошел почти незамеченным.
Правда, в течение этих десяти дней отбыл в командировку один из сотрудников. Уехал он неожиданно, ни с кем не успев попрощаться, но командировки были в порядке вещей, и никто не связывал отъезд товарища с пребыванием Оловянникова в Херсоне.
А связь между тем существовала.
Правы были те, кто думал, что Оловянников подбирает людей для Одессы. Именно это и испортило настроение председателя уездной ЧК. Людей у него не хватало. Каждый сотрудник был на счету. А Оловянников положил на председательский стол категорическое предписание свыше: «Совершенно секретно выделить в распоряжение начальника разведотдела ОГЧК одного сотрудника по его усмотрению. Не чинить никаких препятствий…» и так далее.
После долгих препирательств председатель сказал:
– Сам выбирай, я тебе не помощник!
– Выберу! – заверил его Оловянников. – Можешь быть спокоен!
Но как раз потому, что председатель в этом не сомневался, он спокоен и не был.
И Оловянников действительно выбрал именно того человека, потеря которого была для председателя весьма ощутима.
Дом на Молдаванке
Рыбаки из Николаева высадили в Одесском порту долговязого парня с худым лицом, опаленным за дорогу морским солнцем. По виду он одинаково походил и на крестьянина, и на мастерового, приехавшего в Одессу на заработки. Старый, видавший виды пиджак сидел на нем мешковато. На голове топорщился мятый картуз. В руке – скромный дорожный узелок.
Простившись с рыбаками, парень широко зашагал через портовый двор, с явным удовольствием ощущая твердую землю под ногами, обутыми в тяжелые яловые сапоги. Такие сапоги считались по тем временам большой роскошью.
Одесский порт лежал в развалинах. Ветер сдувал желтую пыль с разбитых пакгаузов. В обломках возились крысы.
Возле разрушенных эстакад покинуто чернели мертвые пароходы. Единственное живое судно в порту – низкий буксирный катер огибал маяк, возвышавшийся на стрелке полукруглого мола. Вода закипала у его шершавых бортов, покрытых чешуею заплат, из трубы валил густой, дегтярно-жирный дым.
Сваи сожженных причалов, облизанные сначала огнем, потом волнами, блестели, как лакированные. На них пристроилось несколько рыбаков-одиночек. Из прозрачной, отстоявшейся в гавани воды они выуживали головастых бычков.
Минуя ряды пустых лабазов, приезжий выбрался из порта. У выхода, поперек железнодорожных путей, лежал на боку маневровый паровоз с зияющим прокопченным котлом. Рядом стоял ржавый каркас грузового вагона. Все деревянное было ободрано с него, должно быть, на дрова.
Широкая, белая, суживающаяся кверху Потемкинская лестница вывела приезжего на Николаевский бульвар. Здесь начиналась другая Одесса – красивый, солнечный город. На фасадах его домов красовались лепные фигуры кариатид и атлантов, подпиравших высокие балконы с витыми решетками. За бульваром жарко сияло море. Белым и розовым цветом распускались акации, отбрасывая на землю тонкую сетчатую тень.
Но какой лишней, безрадостной была вся эта красота!
Шагая по гулким плиточным тротуарам, приезжий видел мутные потоки нечистот, вытекавшие из подворотен, гниющие остатки прошлогоднего листопада на мостовой, заколоченные витрины магазинов Он искоса всматривался в лица прохожих и, хмуря прямые короткие брови, отворачивался, встречаясь взглядом с их угрюмыми голодными глазами. Часто попадались скорбные фигуры крестьян, сидевших где-нибудь на солнечном припеке. То были беженцы из пораженных засухой районов.
Была когда-то Одесса богатым городом. Но богатство давал ей порт, а не земля, окружавшая ее, – сухая, безводная степь. Интервенты сожгли порт и увели все мало-мальски пригодные суда, и голод полноправно воцарился в городе.
Приезжий ни у кого не спрашивал дороги. На перекрестках он читал названия улиц, уверенно сворачивал и шел все дальше и дальше, пока не оказался в пустынных кварталах городской окраины.
Двухэтажный приземистый дом стоял в тихом немощеном тупике. Его нижние окна были вровень с землей. На стенах сквозь отставшую штукатурку просвечивал ракушечник – «одесский» камень, из которого строились все дома в городе, и самые богатые, и самые бедные.
Приезжий вошел во двор. Шумный и грязный, каких много было на одесских окраинах, он, казалось, вобрал в себя всю уличную жизнь. По сторонам тянулись похожие на бараки флигеля с множеством дверей. Возле каждой двери был разбит крохотный палисадник. Над палисадниками нависала открытая галерея, на которой суетились крикливые хозяйки и между стойками болталось на веревках мокрое белье.
Приезжий, осматриваясь, только на мгновение задержался возле подворотни, но его сразу же окликнули.
На скамейке около ворот сидели двое: старик со сморщенным желто-смуглым лицом, одетый в черный сюртук и тусклый от старости котелок, и дюжий мордастый парень в широченных клешах и голубой шелковой рубахе, закапанной на груди жиром.
– Позвольте узнать, кого вам здесь надо? – спросил старик.
Несколько секунд приезжий, казалось, колебался, отвечать или нет, потом решительно сказал:
– Синесвитенко Петра. Здесь он живет?
– Синесвитенко, – повторил старик без всякого выражения— Ему нужен Синесвитенко, ты слышишь, Петя? … Синесвитенко стал важной персоной: что ни день, к нему кто-нибудь ходит. Как тебе это нравится?
Петя что-то неразборчиво буркнул. Вытянув толстые губы, он пустил длинную струю слюны в пробегавшую кошку.
– Интересно узнать, – продолжал старик, – для каких таких исключительно важных дел вам понадобился Синесвитенко? У вас с ним акционерное общество? Или вы вместе устраивали Советскую власть?
– Сродственники мы, – насупясь, ответил приезжий. – Жене его, покойнице братом прихожусь, с деревни приехал.
– С деревни… – снова повторил старик. – Он мне объясняет, что он с деревни, ты слышишь, Петя? А то я мог подумать, что он из Парижа!
Петя коротко хохотнул. Звук был такой, будто в горле у него что-то раскрошилось.
Старик покачал головой, точно приезжий вызывал у него самые безутешные размышления, и, повернувшись к Пете, стал горячо доказывать, что какой-то Яблонский имел хорошо поставленное «дело» в Красном переулке. Он, казалось, моментально забыл о приезжем.
– Где же Синесвитенко? – напомнил тот.
– Что ты ко мне пристал! – неожиданно возмутился старик. – Плевать я хотел на Синесвитенко! Вон Пашка бегает, наследный принц твоего сродственника, глаза б мои его не видели! У него и спрашивай! Пашка!!
Посреди двора несколько ребятишек резались в «бабки». Обернулся шустрый босой мальчонка в серой косоворотке:
– Вы до нас, дядя?
– Синесвитенко ты?
– Я.
– Значит, до вас.
Пашка бросил ребятам биту и подошел.
– Ишь вырос, – улыбаясь, проговорил приезжий, – не узнать прямо!
– Писаный красавчик! – заметил старик, толкая Петю локтем.
– Батя дома? – спросил приезжий.
– Дома. Идемте, дядя, проведу.
Пашка повел гостя в дом. За ними увязалась низкорослая мохнатая собачонка с разноцветными ушами: одно ухо у нее было коричневое, другое – белое.
Жили Синесвитенко в первом этаже, возле самых ворот.
Пашка, отворив дверь, сказал:
– Папаня, до нас пришли.
Приезжий спустился по маленькой лесенке в низкую темноватую комнату. Едко пахло металлической пылью. В глубине комнаты, у окна, стоял небольшой токарный станок. Очень худой, сутулый мужчина в рабочей блузе шагнул навстречу.
Приезжий снял картуз:
– Здравствуйте. Привет вам привез из Херсона. Говорили, вы ночевать пускаете, а то и на срок.
– Ежели от Сергея Васильевича, то пускаем.
– От Василия Сергеевича, – поправил гость.
– Верно, – улыбнулся хозяин, – от него можно. Заходите, товарищ, садитесь.
Он сразу стал радушным, придвинул табурет, рукавом смахнул пыль с обеденного стола.
Приезжий сел, пригладил добела выгоревшие волосы и обежал взглядом стол, две железные койки, токарный станок, несколько табуретов и кособокий комод. На комоде красовался убранный бумажными цветами поставец с портретом молодой женщины в черном закрытом платье и лежали рядком новые зажигалки, выточенные хозяином, должно быть, для продажи.
– Удобства у нас, сами видите, какие, – сказал Синесвитенко, – неважные удобства.
– С меня хватит, – махнул рукою гость. – А вас я не стесню?
– Какое может быть стеснение! – возразил Синесвитенко. – Никакого нет стеснения! Мы рады, что, значит…, можем помочь. Живите себе на здоровье. Спать будете вон тут, на Пашкиной койке, он на чердак пойдет.
– Зачем парня обижать, как-нибудь вместе устроимся.
– Не, дядя, там хорошо, – живо проговорил Пашка, – тюфяк есть.
– Вас как звать-величать? – спросил хозяин.
– Зовут Алексеем, а величаться не будем, – сказал приезжий и, сразу перейдя на «ты», напомнил: – Мы ведь свояки, не забыл?
– Нет, не забыл. Алексей так Алексей. А я, стало быть, Петр и сын Петров. Это так, для памяти. Жену Оксаной звали. Тогда, Алексей, устраивайся, а я побегу: велели сразу доложить, как приедешь. Пашка тебе поесть даст. Слышишь, Пашка?
– Слышу.
Синесвитенко натянул куртку, перешитую из красноармейской шинели, снял с гвоздя кепку и, напомнив сыну, где что лежит из еды, торопливо ушел.
Когда за ним закрылась дверь, человек, назвавшийся Алексеем, спросил:
– Павел, кто эти двое, что со мной разговаривали во дворе?
– Живут здесь. Старого фамилия Писецкий, – стал объяснять Пашка. – Он, дядя, знаете кто? Он с ворами возжается, они к нему краденое носят. А второй – это Петя Цаца. Его здесь все боятся. Он, дядя, запросто зарезать может.
– Да ну?
– Правда! Вы про Мишку Япончика слыхали?
– Слышал.
– Так Петька ему был первый друг!
– Так… – С минуту Алексей что-то соображал, разглядывая вздернутый Пашкин нос, попорченный кое-где рябинками. – Вот что, Паша, обо мне ты не очень распространяйся во дворе. Будут спрашивать, говори: мамкин брат, приехал из деревни работу искать. Зови дядей Лешей. Понимаешь?
– Понимаю! – кивнул Пашка.
Пашке было известно о госте самое главное: он знал, что дядя Леша – чекист. Но тем и ограничивались его сведения о новоявленном дяде, и многое казалось ему непонятным и таинственным. Зачем, например, чекисту скрываться в Одессе, где давно уже крепко стоит Советская власть? Чекисту полагается ходить по городу в кожаной куртке и кожаной фуражке со звездочкой, а по ночам ловить белогвардейцев и контрабандистов. Кроме того, чекисты представлялись Пашке суровыми пожилыми людьми, а дядя Леша был совсем молодой, лет двадцати двух, не больше. Это стало особенно заметно, когда он умылся над ведром и сел есть постный суп из чечевицы, который Пашка разогрел для него на плите. После мытья лицо дяди Леши как будто разгладилось, ярче запылало свежим загаром, мокрые волосы торчали вихрами, и ел он быстро, весело, как едят только молодые.
Словом, было чему удивляться. Но именно тайна, окружавшая гостя, более всего другого привлекала к нему Пашкино сердце. Молодой, а, поди ж ты, сколько у отца хлопот из-за его приезда! Серьезный, видать, человек! … Вон какой рот у него – будто стамеской прорубленный; на лбу складки, как у пожилого, а глаза быстрые, зоркие и совсем светлые, точно протертые стекляшки. Да и силен, видно. Высокий. Руки большие. В запястье Пашке одной рукой нипочем не захватить. Пожалуй, он и с Цацей совладал бы…
Пока дядя Леша ел, Пашка успел многое рассказать ему.
Гость узнал, что Пашкина мать умерла давно от черной оспы. Пашка тоже болел, но не умер, только оспины остались. Долго жил у бабки в деревне, подпаском работал, потому что отец с самого начала гражданской войны пошел воевать. На фронте отцу прострелили грудь. Привезли его к бабке совсем плохого. Думали, не встанет. А он встал, но от раны так и не может оправиться. Кровью харкает, чахотка к нему прикинулась. Ему бы питание, может, и поздоровел бы. А где взять? Говорят, собачье сало от чахотки помогает. Так какие теперь в Одессе собаки? Шкура одна да кости. Раздобыл Пашка щенка, думал выкормить отцу на лекарство. А щенок такой забавный попался, умненький да привязчивый, что отец и слышать не хочет, чтобы его на сало извести. Вон он уже какой большой, все понимает! …
Щенок возле двери лакал из жестяной миски свою порцию супа, Будто действительно понимая, что речь идет о нем, он поднял морду, махнул коричневой завитушкой хвоста и снова принялся за еду.
– Джекой назвали, – сказал Пашка. – Он, дядя, благородный. Я его у одной барыньки увел с Дерибасовской улицы.
Алексей вытряс в ложку последние капли супа из котелка, ложку облизал, завернул в тряпицу и сунул в карман (ложка у него была собственная).
– Знаешь, Павел, – сказал он, поглядывая на койку, – сейчас бы в самую пору поспать, как ты думаешь?
– Ложитесь, дядя.
– Разбуди меня, когда отец придет.
– Ладно, разбужу.
Алексей стащил сапоги, портянки развесил на голенищах, из внутреннего кармана пиджака достал браунинг и спрятал под подушку. Пиджак он бросил на табурет и растянулся поверх тонкого одеяла, продев босые ноги сквозь прутья слишком короткой для него кровати.
– Добро, – проговорил он, с удовольствием втискивая голову в подушку. – Так, значит, разбудишь?
– Разбужу, разбужу, спите спокойно, – заверил Пашка.
Алексей взглянул на него совсем уже сонными глазами и пробормотал:
– Хороший ты, по-моему, человек, Павел. А? …
Спал он бесшумно, слегка приоткрыв рот, и во сне, казалось, к чему-то прислушивался.
Вечерний разговор
Алексей рывком соскочил с койки. В комнате за столом сидели Синесвитенко и незнакомый седой человеке матросском бушлате. Окна были плотно заложены ставнями. На столе горела керосиновая лампа.
Пашка маячил в тени у двери.
– Я, дядя, не виноват, – быстро сказал он, – я хотел разбудить, а они не дали.
– Ничего, – произнес человек в бушлате, – было не к спеху. Ну, давай знакомиться. Инокентьев.
– Михалев, – Алексей пожал протянутую ему тяжелую и жесткую ладонь и присел на табурет к столу.
С минуту они разглядывали друг друга. Синесвитенко и Пашка вышли. Инокентьев свертывал цигарку. Широкое лицо его казалось бронзовым от неяркого света лампы, белые брови свисали на глаза. Помолчав, он спросил:
– Оловянников ничего мне не передавал?
– Передал. – Из часового кармашка брюк Алексей вытащил сложенный вчетверо листок бумаги.
Инокентьев внимательно прочитал записку, затем свернул трубочкой и подержал над лампой, пока бумага вспыхнула. Прикурив от огонька, он бросил горящую бумагу в глиняный черепок, служивший пепельницей.
– Оловянников говорил, зачем ты понадобился?
– Говорил, что для разведки.
– И больше ничего?
– Ничего. Остальное, мол, на месте.
– Так…
Бумага догорела. Огонек съежился и угас под кучкой пепла. Инокентьев растер пепел, щелчком очистил пальцы и заговорил негромко, отрывисто, будто выталкивал из себя слова:
– Дело, значит, такое… В Одессе худо. Голод, разруха, сам мог видеть.
Алексей кивнул.
– К тому же на Молдаванке и на Пересыпи до черта бандитов и блатных. Но это бы куда ни шло. Хуже – заговоры. Не успеем с одним разделаться – другой… В двадцатом году, когда в Крыму сидел Врангель, здесь работала его организация. Руководили Макаревич-Спасаревский, Краснов, Сиевич и Шаворский – все бывшие офицеры. Дело ставили широко. Тогда же, в двадцатом, их и прихлопнули. Макаревича-Спасаревского расстреляли. А Краснов, Сиевич и Шаворский ушли… – Инокентьев запустил руку во внутренний карман бушлата и достал конверт из черной непроницаемой бумаги. Из конверта он вытащил три фотографии. – Вот они. В пенсне – Краснов. Второй – Шаворский, с бородкой… Третий – Сиевич. Карточки я тебе пока оставлю. Присмотрись… Так вот. Больше года об этих людях ничего не было слышно. А недавно они снова всплыли. И знаешь, в какой компании? С петлюровцами! Монархисты, белая кость, ратовали за единую, неделимую Россию и – на тебе – с украинскими самостийниками стакнулись! Это, дорогой товарищ, неспроста. Раньше, сам знаешь, как они грызлась: не могли Россию и Украину поделить. А теперь им не до мелочей. Теперь у них один враг – мы… Первые сведения начали поступать еще в феврале. Стали наблюдать. Выяснить удалось вот что: организация у них большая, связаны с заграницей, по нашим данным, с белогвардейским центром и, возможно, с петлюровским штабом. Структура организации такая: все участники разбиты на группы по пять человек. Есть среди них старший – руководитель, который их объединяет и держит связь с другими группами. Получается этакая цепочка из отдельных звеньев. Допустим, провал, одна какая-нибудь пятерка накрылась. В центре делают перестановку, и цепочка не рвется. Хитро? Так вот… В одной из этих пятерок есть наш человек. Он, видишь ли, «с прошлым»: бывший левый эсер. На том они его и прихватили: подчиняйся, мол, иначе Советской власти будет известно, кто ты такой. Словом, как обычно. И знаешь, кто его завербовал? Вот этот! – Инокентьев указал пальцем на фотографию толстого врангелевского офицера в пенсне на вздернутом носу. – Краснов! Этот Краснов теперь старший в его пятерке и зовется Мироновым. А где Краснов, там и те двое могут быть.
– Краснова можно взять? – спросил Алексей.
– Взять? Зачем? Не, брат, это дешево. Если Краснова поставили на такую мелкую работу, значит, он у них невелика шишка. Нет, дорогой товарищ, одной пятерки нам мало. Нам нужно до конца всей этой цепочки добраться, до самого центра. Пускай Краснов-Миронов гуляет пока…
Инокентьев докурил цигарку, воткнул ее в черепок и сразу же принялся свертывать другую.
– Дело в том, что они кого-то ждут из-за кордона. Вот где можно зацепиться. Слушай теперь внимательно, Михалев. Тех, что являются оттуда, они проводят через три-четыре этапа. План Оловянникова такой: когда «гость» приедет, перехватить его, выяснить, с чем прибыл, и узнать все пароли. Если окажется, что его здесь не знают, тогда… введем в дело тебя. Пойдешь вместо «гостя». – Он выпрямился и несколько мгновений смотрел на Алексея, стараясь, видимо, понять, какое впечатление произвели его слова.
– Вон что… – произнес Алексей.
– Как тебе все это покажется? Справишься?
Алексей ответил не сразу. Сдвинув брови, он смотрел на раздвоенный огонек лампы. В прозрачной глубине его зрачков мерцал холодный желтоватый отсвет. И, глядя в эти глаза, Инокентьев подумал, что, хотя сидящий перед ним человек молод, Оловянников, пожалуй, не ошибся в выборе.
– Так как же? – поторопил он.
Алексей медленно проговорил:
– Кто его знает. Нужно справиться.
– Очень нужно! – сказал Инокентьев. – Судя по всему, заговор самый крупный за последнее время. К тому же есть одна тонкость… Спрашивается, почему нам понадобился чекист из другого города? Думаешь, у нас своих не хватает? Хватает! И кое-кто уже проник в организацию. Но связывать тебя с ними мы не будем. Почему? Скажу тебе прямо, Михалев: похоже – какая-то контра пробралась в чека. Выяснить, кто именно, – это тоже твоя задача. Потому и нужен человек, которого в Одессе не знают ни свои, ни чужие.
– Понятно. – Алексей тоже вынул кисет и принялся молча свертывать козью ножку.
Инокентьев пристально следил за его лицом, ища на нем признаки сомнения или нерешительности. Но лицо у парня было спокойное, малоподвижное, и при всей своей опытности Инокентьев не мог понять, какие мысли бродят у него в голове.
«Крепкий, кажется», – подумал Инокентьев. Но на всякий случай сказал:
– Давай начистоту. Тебя Оловянников выбрал… Он, конечно, в этом разбирается. Но я-то тебя не знаю… Дело тебе предлагается трудное. Опасное дело. Если сомневаешься или не уверен в себе, лучше сразу скажи. Такой случай, как сейчас, вряд ли еще представится, и действовать надо наверняка. Значит, и человек нужен, который на все готов. В одиночку придется работать. Чуть ошибся – и пропал.
– Это верно! – сказал Алексей, Он помолчал и вдруг смешливо растянул губы: – Того и гляди, испугаете меня, товарищ Инокентьев. Придется домой возвращаться. А ведь дело-то не опаснее других. Давайте уж не передумывать.
– Ну, коли гак, передумывать не будем, – сразу согласился Инокентьев. Парень все больше нравился ему. – В таком случае надо договориться…
Договорились они на том, что Алексей до начала операции поживет у Синесвитенко. Хозяин – бывший красноармеец и личный друг Инокентьева. Мальчонка у него смышленый и умеет держать язык за зубами. Алексею не мешает использовать свободное время для знакомства с городом. Что касается связи, то ее будет осуществлять Синесвитенко. А если случится что-нибудь непредвиденное, то вот адрес еще одной конспиративной квартиры, куда Алексей может перебраться, но лишь в самом крайнем случае. Пароль тот же.
– Когда приедет Оловянников, я тебе сообщу, – сказал Инокентьев, вставая.
Они пожали друг другу руки. Инокентьев надвинул на лоб выцветшую фуражку-мичманку, на все пуговицы застегнул бушлат, чтобы не было видно армейской гимнастерки, и ушел.
Алексей вернулся к столу, придвинул лампу и взял в руки фотографии.
«Тихая» Одесса
Наступили дни, которые Алексей Михалев прожил тихо и безмятежно, как не доводилось ему ни разу за последние четыре года. Свободного времени было хоть отбавляй. Хочешь – спи, хочешь – броди по городу.
Синесвитенко исчезал из дому чуть свет: у него были дела на заводе сельскохозяйственных машин. Вечерами по дороге домой он где-то встречался с Инокентьевым, получал от него паек для Алексея и неизменное распоряжение: ждать.
По утрам, закусив пайковой воблой и чаем с сахарином, Алексей с Пашкой отправлялись в город. Босиком (сапоги в целях экономии Алексей оставлял дома) они обошли всю Одессу, побывали в Лузановке и на Ближних Мельницах, исследовали заброшенные особняки Французского бульвара, купались на городском пляже – Ланжероне, удили рыбу с бурых камней Большого Фонтана. Пашка всегда таскал в кармане самодельную леску, свитую из конского волоса, и набор настоящих рыболовных крючков – бесценный по тем временам дар Инокентьева. В жестяной коробочке из-под монпансье у него никогда не иссякал запас дождевых червей. Случалось, к ужину они приносили увесистую связку бычков, а иной раз улова хватало даже для «коммерческих операций» на рынке: бычков удавалось выменивать на крупу и жмых, из которых Синесвитенко умел стряпать вкусные лепешки на пахучем «нутряном» жире из Алексеева пайка.
За эти дни Алексей исходил Одессу вдоль и поперек, изучил не хуже любого старожила. Его все больше привязывал к себе этот удивительный город, на знойных улицах которого цвели каштаны, в тенистых садах властвовала сонная тишина, и каждый дом, особенно в центре, хотелось разглядывать в отдельности. И жители Одессы тоже нравились ему. Он присматривался к лузановским рыбакам, к рабочим с Пересыпи и Ближних Мельниц, к болтливым хозяйкам, торговавшимся на рынках, и все больше убеждался в том, что, несмотря на все трудности, болезни и нехватку продовольствия, одесситы не утратили ни одного из тех качеств, которыми они всегда славились: ни живости своей, ни юморка, ни твердой уверенности в том, что рано или поздно Одесса непременно дождется лучших времен.
Он повидал и другую Одессу – зловонные слободки за Пересыпью, тайные и явные притоны на Молдаванке. Там кишмя кишел уголовный сброд. С наступлением темноты притоны выплескивали его на улицы. Но и днем в городе было неспокойно…
Однажды Алексей с Пашкой шли из порта, где в тот день удили рыбу. У каждого было по связке бычков, и путь их лежал на Привоз – шумный и жуликоватый одесский рынок.
Было два часа дня, знойно. На Пушкинской только несколько прохожих вяло плелись в тени платанов, росших вдоль тротуаров. В подворотне углового дома, возле Малой Арнаутской, прикорнув на скамейке, спал в холодке пожилой дворник. В стороне вокзала стучали колеса по торцовой мостовой: кто-то ехал на телеге…
Крики раздались неожиданно и сразу разрушили призрачное впечатление, будто в городе тишь да благодать. Прохожие зашагали быстрей, торопясь уйти подальше от опасного места. Дворник проснулся и, кряхтя, побрел взглянуть, что там случилось.
– Грабят кого-то! – сказал Пашка, и глаза его заблестели. – Айда, дядь Леша, поглядим!
Как истый одессит, он обожал всякие события.
– Стой, – нахмурился Алексей. – Нечего лезть, по делу ведь идем.
Пашка уже давно заметил, что дядя Леша не любит ввязываться в уличные происшествия, хотя случаев для этого было куда как достаточно: и на рынке, и в порту, и в слободках за Пересыпью.
Из-за угла вышел голенастый парень в примятой, косо надвинутой на самые брови кепчонке. На груди его сквозь сетчатую майку синими узорами просвечивала татуировка. Он тащил на плече большой узел, из которого свисали край оранжевой скатерти и черный рукав зимнего пальто.
За парнем бежала полуодетая, растрепанная женщина. Цепляясь за узел, она кричала высоким, пронзительным голосом:
– Ратуйте, люди! Грабят! … Что же вы смотрите, люди! … Ратуйте-е! …
Налетчик отталкивал женщину свободной рукой и хмуро косился по сторонам. Прохожие испуганно отводили глаза, стараясь показать, что все это их нисколько не касается.
Алексей сунул Пашке своих бычков:
– Держи-ка! …
Но вмешаться ему не пришлось и на этот раз. Из подворотни большого серого дома в конце улицы выехал на лошади какой-то чекист. Позже Алексей смог хорошо разглядеть его. Это был коренастый, немолодой уже человек в расстегнутой кожаной куртке, под которой, хлопая коня по боку, висела деревянная кобура маузера. Фуражку он сдвинул на затылок, открывая выпуклый, мокрый от пота лоб. Чекист, видимо, с первого взгляда разобрался в происходящем и пустил коня рысью.
Заслышав топот, парень в сетке оглянулся. До чекиста было меньше квартала. Не раздумывая, налетчик бросил узел и метнулся к тротуару. Не успел он, однако, сделать и трех шагов, как на нем, истошно вопя, повисла ограбленная женщина. Он с трудом оторвал ее от себя и наотмашь ударил кулаком в лицо. Женщина, охнув, свалилась на мостовую, зажимая ладонями рот, Налетчик побежал.
– Стой! – крикнул чекист, ловя на ходу болтающуюся кобуру пистолета. – Стой, стрелять буду!
Но бандит опередил его. Он шмыгнул во двор углового дома, у ворот обернулся, и по Пушкинской хлестнул гулкий револьверный выстрел. Было слышно, как с визгом и звоном срикошетировала пуля от чугунного фонарного столба.
Чекист неторопливо подъехал к дому, соскочил с коня и широкими шагами вошел в подворотню.
Возле ворот – откуда только люди взялись? – моментально образовалась толпа. Пашка со всех ног помчался туда, и Алексей, не удержавшись, последовал за ним. Они поспели как раз вовремя, чтобы увидеть завершение этой истории.
Стоя в подворотне, положив маузер на согнутый локоть, чекист выстрелил три раза и не попал.
Длинный и узкий двор заканчивался каменным забором в человеческий рост. Рядом находилась помойка. Налетчик успел вскочить на нее и перемахнуть через забор.
Чекист плюнул в сердцах, ни на кого не глядя, прошел сквозь строй расступившихся зрителей, влез на жеребца, смирно стоявшего возле тротуара, и уехал.
– Эх, мазила! – презрительно хмыкнул Пашка. – Из такой пушки промазал! Да я бы! …
– Сиди, стрелок! Много ты понимаешь! – сказал Алексей. – Думаешь, легко в бегущего-то попасть? …
И потом они всю дорогу обсуждали всякие способы стрельбы из разных систем револьверов – дядя Леша в этом хорошо разбирался.
Митинг «Местрана[1]»
Спустя два дня шли они по Ришельевской улице и увидели возле Оперного театра скопление подвод, извозчичьих пролеток и ручных тележек всех систем и размеров. Двери театра были открыты, в подъезде толпился народ.
Пашка, посланный Алексеем узнать, что там такое, сообщил:
– Местран митингует. Ох и крику! …
Алексей решил зайти взглянуть.
Пашка уже не раз бывал в театре на митингах и знал в нем все закоулки. Он уверенно провел Алексея на балкон второго яруса. Они устроились в пустой ложе сбоку от сцены.
Театр был красив. Затейливые лепные орнаменты покрывали барьеры его полукруглых ярусов. Мерцала старинная бронза канделябров. Портьеры и обивка кресел были из настоящего темно-красного бархата, и казалось странным, что участники многочисленных митингов, происходивших здесь за последние годы, не ободрали их на портянки.
В партере тесно набились местрановцы. Они принесли сюда крепкий запах махорки, дегтя, сыромятных ремней и конского пота. Табачный дым пластами вздымался к высокому потолку, расписанному порхающими нимфами и голыми бородачами, удобно разместившимися на розовых облаках. Сквозь дым вполнакала светили электрические лампочки.
Сцена была хорошо освещена. В глубине ее висело огромное декоративное полотнище. Оно изображало африканский пейзаж. За столом, покрытым бархатной портьерой, на фоне дикорастущих пальм и египетских пирамид восседал президиум: пятеро здоровенных мужиков в приказчичьих картузах с высокими околышами.
К самой рампе был выдвинут квадратный дирижерский постамент с пюпитром вместо трибуны.
За годы работы в ЧК у Алексея накопился изрядный опыт по части подобных митингов. Он довольно быстро разобрался в обстановке.
Прежде всего он заметил, что толпа митингующих отчетливо разделена на две группы. Первую – большую – составляли ломовые извозчики, или, как их называли в Одессе, биндюжники. Это были главным образом рослые, мускулистые, громкоголосые люди, одетые если не добротно, то, по крайней мере, прочно: в брезентовые куртки, поддевки, матросские робы. Некоторые щеголяли даже в сюртуках и сатиновых рубахах ярких расцветок. Биндюжники занимали переднюю, ближнюю к сцене, часть зала.
Прочие местрановцы – тележники, водители трамваев, грузчики, служащие трамвайного парка – размещались сзади. Как нетрудно было понять, жилось им похуже: лица изможденные, одежда в лохмотьях. Держались они особняком, с биндюжниками не смешивались.
Наконец, присмотревшись, Алексей различил и третью категорию участников: горластых, пестро одетых молодчиков, вроссыпь сидевших близ сцены. Эти были сродни Пете Цаце…
Митинг проходил бурно.
Обсуждалось решение губкома партии об организации обоза для борьбы с голодом. Служащие трамвайного парка, тележники и водители конок считали, что губком надо поддержать. Но они были в меньшинстве. Биндюжникам решение губкома пришлось не по вкусу. Расставаться с лошадьми и подводами, а тем более идти в обоз, им не улыбалось.
К тому моменту, когда Алексей и Пашка явились на митинг, положение уже определилось. Только что ушел со сцены дружно освистанный оратор, который пытался доказать, что губком затеял нужное дело. Его место на трибуне занял бородатый детина в брезентовой куртке.
– Говорить будет Ефим Паперник! – огласил один из членов президиума, исполнявший обязанности председателя.
– Скажите на милость, что он меня агитирует? – негромко начал Ефим Паперник. – Что он меня агитирует, я спрашиваю? – продолжал он несколько громче. И вдруг долбанул кулаком по пюпитру: – У меня дома пять ртов! Я поеду куда-то к черту на кулички, а они будут сидеть и щелкать голодными зубами? Кто их пожалеет? Ты их пожалеешь, агитатор?! Что у тебя есть? Твои тощие руки и ноги? Так они не станут есть твоих рук и ног! Им нужен кусок хлеба, вот что им нужно!
Биндюжники сочувственно зашумели.
– И вообще, кто такой Семка Бриль? – продолжал Паперник. – Что он может понимать в извозе! Он же тачечник, сам себе лошадь! Он поел, и, значит, его лошадь поела. У него голова не болит за сено, за сбрую, за деготь, за черт его знает что! Где это все достать? Советская власть даст? Дулю она мне даст! Свое клади, кровное, что я, может, годами наживал. А какая благодарность? Что я с этого буду иметь? Обратно дулю! Если у меня когда-то была несчастная пара битюгов, так я уже для Советской власти частник и буржуй! – Все больше распаляясь, Паперник сорвал картуз с лохматой головы. – А какой я буржуй?! Кто мне сундуки набивал? Что у меня есть – все мое, потом добытое! Если я для Советской власти буржуй, так на черта мне сдалась такая власть? И чтобы я для нее в обоз шел?! На вот! – Паперник выставил залу сложенные кукишем двухфунтовые кулаки. – Нехай без меня проживут! – и, плюнув, ушел со сцены.
В поднявшейся затем буре особенно усердствовали горластые молодчики, которые напомнили Алексею Петю Цацу. Папернику кричали:
– Правильна-а! …
– Долой! …
– Хай сами возы тягають! …
И значительно реже и слабее пробивались крики из конца зала:
– Буржуй ты и есть!
– Проживем, не волнуйся! …
Когда немного поутихло, председательствующий выкрикнул, что слово имеет «представитель гужевого транспорта» Фома Костыльчук.
На сцену взобрался вертлявый человечек в коротком пиджаке с закругленными полами. По виду этот «представитель гужевого транспорта» не имел ничего общего с другими биндюжниками. Лицо у него было обрюзгшее, бледно-розовое от пьянства, волосы зализаны на косой пробор, вместо галстука болтался на шее мятый засаленный бантик.
– Я хочу сказать за свободу, – заговорил он сипло, с надрывом, ударяя себя в грудь кончиками пальцев. – Кругом все уши пробуравили – свобода, свобода! А где она есть, та свобода? Пусть мне кто-нибудь объяснит, где она ховается в Одессе? Давайте рассуждать как соображающие люди. Говорят, царский режим давил нам на горло. Что верно, то верно. Но зато что мы имели? Мы имели в Одессе пароходы со всего мира. В порту было тесно, как на Привозе в базарный день. Бананы, персики, турецкий табак… – Фома Костыльчук загибал пальцы на руке, – Маслины – хоть завались, за муку и масло я уже не говорю! … Что? Не каждый мог? А я разве говорю, что каждый мог? Каждый, конечно, не мог, А биндюжники могли! Что на возу, то и домой везу. Или не так? Что тебе стоило схоронить пару кило апельсинчиков, например, если их у тебя на подводе полсотни ящиков? А теперь? Смотрите сюда: шо ни день – подай телегу, подай битюга, подай то, подай се… Так где же, спрашивается, свобода? Ежели я хочу жить, как мне нравится, при чем тут чека? Ведь теперь некоторые приличные люди не могут высунуть кос на улицу: их сразу заметут! … – Фома Костыльчук в большом волнении достал из кармашка платок и отер пот со лба.
Повадки этого субъекта, его бегающий взгляд, воровские словечки, зализанный пробор – все выдавало в нем одного из тех, кого скрывали в своих зловещих утробах молдаванские притоны. И, несмотря на это, каждое его слово падало в толпу, как пылающая головня в сухой хворост.
– Вот я и говорю: пусть, кому нравится, идет себе в обоз, а я, извиняюсь, не сумасшедший! – энергично повертев ладонью перед носом, «представитель гужевого транспорта» закончил свое выступление.
Кто что кричал, понять было невозможно. Выступать полезло сразу несколько человек. Члены президиума повскакали с мест, пытаясь навести порядок на сцене. Председательствующий широко разевал рот и за неимением колокольчика стучал кулаком по столу, но ни голоса его, ни стука не было слышно…
«Разгулялась, контра… – думал Алексей, стискивая зубы. – Слабину почуяли! … И наших никого, черт знает что такое! …»
– Пойдем, Павел, ну их к дьяволу! – сказал он, вставая.
– Ой, погодите, дядь Леш! – взмолился Пашка. – Интересно же!
Алексей взял его за руку с намерением увести и в этот момент увидел чекистов…
Вернее, сначала он услышал их.
Двое парней в гимнастерках и при оружии вытащили из-за кулис широкую дощатую дверцу, снятую, очевидно, с какой-нибудь театральной кладовой, поставили ее на попа и с размаху грохнули об пол. Резкий, как выстрел, хлопок покрыл все звуки, пыль тучей взвихрилась над подмостками. В зале на миг воцарилась оторопелая тишина. Не давая биндюжникам опомниться, один из чекистов— молодой ладный паренек – выскочил на середину сцены:
– А ну, тихо! Чего расходились? Митинг у вас тут или чертов шабаш?! Гвалт устроили на всю Одессу, в Балте, должно, слыхать! …
Придя в себя от неожиданности, биндюжники снова загалдели, но теперь шум стал какой-то разрозненный, неуверенный.
При виде чекистов первыми угомонились горластые «приятели Пети Цацы». Некоторые стали даже пробираться к выходу, но, встретив там какое-то препятствие, снова замешались в толпе. Ораторы растеряли боевой задор и поспешно убрались в зал. Шум начал быстро опадать, как опадает парус, потерявший ветер.
– Очистить проход! – командовал чекист со сцены. – Кто там на полу расселся? Кресел, что ли, не хватает? Эй, в углу, предлагаю соблюдать революционный порядок! Тихо, вам говорят! …
Чтобы лучше видеть, Алексей крепко притиснул Пашку к барьеру, но тот даже не заметил этого.
– Внимание! – объявил чекист. – Сейчас будет выступать председатель Одесской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем товарищ Немцов! Ша! Чтоб было тихо!
На этот раз предупреждение было излишним: фамилия председателя ОГЧК, назначенного в Одессу самим Дзержинским, подействовала сильнее, чем удар доской об пол. В проходе между креслами четко раздались его шаги.
Немцов вышел на сцену. Он снял с головы серую фуражку с лаковым козырьком и, оглядывая зал, разгреб пальцами густые рыжеватые волосы. Вытягивая шеи, биндюжники во все глаза разглядывали этого чекиста, грозная и шумная слава которого облетела всю Одесщину. А он стоял на возвышении, слегка расставив кривые и крепкие ноги старого кавалериста. На впалых его щеках темнели твердые морщины. Волосы уже изрядно поблекли на висках. Поверх защитного цвета гимнастерки на тонком ремешке висел револьвер.
– Уважаемые товарищи и граждане! – произнес он спокойным глуховатым баском. – Я тут немного послушал и должен прямо сказать: не то говорят. Совсем не то! Сюда пробрались некоторые субъекты, которые не в ладах с Советской властью. Они, видимо, решили, что у чека руки не дойдут до вашего митинга, контрреволюцию стали пороть. Но они ошиблись! Чекисты обязаны видеть все и все замечать не хуже, чем Патэ-журнал[2] – Из-под бровей чекиста выскользнула и моментально спряталась улыбка. – И этих господ мы хорошо знаем. Вот, к примеру, Фома Костыльчук. Известная личность! Кличка у него Гнилой. Гнилой отроду не брал вожжей в руки. Папаша его – другое дело. Папаша до революции большой извоз содержал, чуть не двадцать битюгов. И между прочим, вы же сами, товарищи, на него работали. Или не так? Есть тут кто-нибудь, кто знал папашу Костыльчука?
– Я знал! – откликнулись из зала.
– Как не знать?! Два года ишачил! … – Послышались еще голоса.
– Вот видите! – Немцов поднял палец. – Теперь вопрос: где у вас соображение? Сынок старого хапуги распинается против Советской власти, а вы и уши развесили. А почему он распинается? Кто за ним стоит? Вы о том думали? А стоит подумать и хорошенько разобраться!
Немцов заговорил о трудностях, переживаемых страной. В городах разруха. Заводы стоят. На огромные пространства республики обрушилась засуха – враг пострашнее Антанты и белых генералов. В результате— голод… Всем этим хочет воспользоваться мировая контрреволюция, чтобы задавить народную власть. В одной Одессе за последние полтора месяца раскрыто три крупных белогвардейских заговора. Из белой Польши, где сейчас прижился сам головной атаман Петлюра, тянутся через границу его верные эмиссары. Задача их известна: организовать на Украине широкую сеть политических банд, чтобы по сигналу из-за кордона поднять мятеж против Советской власти. На кого могут рассчитывать петлюровцы? Народ их, не поддержит. Честным людям надоело воевать, их к земле тянет, хлеб растить. Остается белогвардейское подонье и уголовный бандитизм. А ведь, как известно, в Одессе дело с борьбой против бандитизма обстоит хуже, чем в других городах. Налетчиков здесь развелось больше, чем крыс в портовых лабазах. И между прочим, они уже давно интересуются извозом. Ничего удивительного: извозчики всегда были связаны с самым злачным местом в городе – с торговым портом. Не случайно, например, знаменитый Мишка Япончик был сыном извозопромышленника и на первых порах сам промышлял на битюге…
– А кто есть извозчики? – продолжал Немцов. – Такие же рабочие люди, как и все другие! Горе мыкали, в семь потов исходили для хозяина, вмертвую заливали водкой постылую жизнь. Или, может быть, я ошибаюсь? Может, вам и вправду Советская власть ни к чему? Может, вы соскучились по старому Костыльчуку?
Местрановцы отозвались коротким протестующим гулом.
Алексей чувствовал, что в настроении толпы наступает перелом. Стояла такая тишина, что, когда Немцов ненадолго замолкал, слышалось чье-то хриплое дыхание за столом президиума.
Неприметно и настойчиво председатель ОГЧК поворачивал разговор на главный вопрос митинга.
– Глядите, как вам запачкали мозги эти типы. Вы уже перестали видеть, что вокруг творится. Слыханное ли дело: в Одессе помирают ребятишки! Не от кори, не от скарлатины или еще какой дитячей хворости – от голода помирают! Беженцы из голодных районов тащат их с собою в Одессу. Нашли куда тащить! Но будь я проклят, если я их не понимаю! Они же думают: Одесса – большой город, в нем много рабочего класса, он не даст помереть их детям! Что же получается? Вы, одесский рабочий класс, отказываете в помощи таким же трудовым людям! Сами вы до этого додумались или нет? Ну, вот ты скажи! – Он ткнул пальцем в курносого молодого биндюжника, сидевшего в первом ряду. – Скажи мне, сам ты решил откреститься от обоза или тебе кто посоветовал?
Парень растерянно пробормотал:
– А я-то что? … Один, что ли? … Я – как люди скажут…
– Как скажут! – повторил Немцов. – А кто скажет?! Он, что ли? Или он? … Нет, брат, они тебе этого не посоветуют! Они такие же рабочие, как и ты! А подбивает вас на саботаж всякая уголовная шушера, вроде Гнилого Фомки! Вот откуда все идет! Бывшие богатейчики, недобитые мироеды, на кого у Петлюры главная ставка, – вот кто вам мозги крутит! Не поверю я, чтобы рабочий человек отказал в помощи другому рабочему человеку!
– А ить верно! – пробасил кто-то. – Шнырют тут всякие! …
– Правильно говорит! Чего уж. Мы вроде бараны…
– Я-то с самого начала…
Немцов поднял руку…
– Тихо, я еще не кончил! Так вот, товарищи местрановцы, насчет обоза решайте сами, как вам совесть укажет! А я должен заявить… Уголовников, что затесались среди вас, мы выведем! Налетчики и воры висят на ногах трудового народа. Они играют на руку мировой контрреволюции и мешают нам строить светлое царство социализма! Но чекисты на то и поставлены, чтобы этого не допустить! И мы будем беспощадно… – Тут голос Немцова зазвенел глухо и напряженно. – …уничтожать их всюду, где они есть! Мы очистим ваши честные ряды от бандитского засилия – вот вам последнее большевистское слово. Очистим вполне и окончательно! – И он рассек воздух ребром ладони, будто ставя точку. – Теперь решайте, народ вам доверяет!
Еще мгновение держалась тишина, а затем театр взорвался криками. На сцену снова полезли желающие выступить. Кто-то, вскочив на кресло посреди зала, пытался говорить с места.
Алексей с беспокойством оглядывался. У всех выходов из партера он заметил людей в кожанках. Было похоже, что чекисты не собираются откладывать дело в долгий ящик и уже сегодня начнут чистить ряды местрановцев. Следовало поскорее убираться отсюда.
– Айда, Павел, пора.
– Куда вы, дядь Леш? Посидим, теперь уж недолго!
– Слушай, приятель, – сказал Алексей строго, – либо делай что велят, либо дружба врозь и больше мы с тобой не ходим.
Пашка нехотя поплелся за ним. В пустом сумрачном фойе Алексей спросил:
– Ты знаешь, как выбраться отсюда, чтобы никто не видел?
Это Пашка знал. Они двинулись какими-то служебными проходами и узкими винтовыми лестницами. Спустились в подвал. В пыльной темноте, натыкаясь на сухие занозистые стропила, прошли под самой сценой, слыша наверху рев все еще не успокоившихся местрановцев, еще немного покружили и наконец вылезли наружу позади театра через взломанную дверь погреба.
Вечерело. В разогретом воздухе пахло акацией. Улицы опустели, и Алексей с Пашкой зашагали быстро, торопясь дойти до дому, пока совсем не стемнело. Пашка всю дорогу шел надутый, в разговоры не лез. Только раз, взглянув на Алексея, он с тревогой спросил:
– Вы чего?
Алексей, улыбаясь, задумчиво смотрел себе под ноги, и Пашка испугался, что, возможно, пропустил на митинге что-нибудь самое интересное. Но Алексей успокоил его:
– Так, вспомнил кое-что… давнишнее…
Думал Алексей о Немцове и о ребятах в защитных гимнастерках. Все, что говорили и делали на митинге чекисты, даже необычный способ, каким они ввели тишину в зале, казалось ему справедливым, точным, единственно правильным в данной обстановке. И оттого ли, что был он сейчас отделен от них, или по какой другой причине Алексей, как никогда остро, чувствовал свою неразрывную, почти родственную близость с этими людьми…
Кусочек «пестрой» истории
Безделье становилось наконец в тягость. Город Алексей уже знал, фотографии, оставленные Инокентьевым, были изучены до последней черточки, рыбалка надоела, и если он продолжал ходить с Пашкой в порт удить рыбу, то лишь потому, что так можно было убить время и существенно пополнить их более чем скудный рацион. От Синесвитенко он узнал, что Оловянников давно приехал, но это не внесло в его жизнь никаких изменений.
Синесвитенко являлся домой поздно. Он возглавлял группу активистов, которые собирали среди рабочих вещи для обмена на продукты. На заводе сельскохозяйственных машин готовилась поездка в хлебные места.
Синесвитенко едва приволакивал ноги. На скулах его пятнами горел румянец. По ночам он надсадно кашлял и сплевывал в тряпку. Ел мало, неохотно, будто через силу.
– Сгоришь, Петро, – сказал ему как-то Алексей, – нельзя так.
– Не сгорю, – отмахнулся Синесвитенко. – От меня одни кости остались, а кости не горят, только тлеют… Завод надо восстанавливать, а у людей руки не поднимаются. Вот продуктов добудем – приободрятся… Отряд собрали, – рассказывал он, прихлебывая чечевичный суп. – Махнем куда-нибудь в сторону Раздельной с кулачьем торговаться. В губкоме обещали обоз. Еще разговор был об охране завода. А я так считаю, не завод надо охранять, а рабочих. Блатные шуруют в городе, как в собственной малине. Долго так будет?
– Недолго, – уверенно сказал Алексей, вспомнив митинг в Оперном театре, – за них крепко взялись,
– Пора! Моя воля, так я бы закон издал – стрелять их, где встретишь, без канители, вроде бешеных собак… Не знаешь ты, Алексей, что творилось в городе при Мишке Япончике! …
Кое-что Алексею было известно. О Мишке Япончике и его банде ходило много слухов.
Низкие кособокие домишки, дворы, пропахшие вонью конюшен и сточных канав, немощеные улицы, удушливо пыльные летом, а осенью затопленные непролазной грязью, – такой была до революции Молдаванка, район одесской бедноты, нищих жилищ, ночлежных домов, мелочных лавок и государственных «монополек». Населяли ее многодетные семьи извозчиков, ремесленников, портовых рабочих. Здесь оседал всякий пришлый люд, чаще всего голь перекатная, которую тянули в Одессу теплое солнце и надежда прокормиться около порта. Убогая, безысходная нищета царила на Молдаванке, и в ней пышно расцветала уголовщина.
Молдаванка создала свой особый вид налетчика, действовавшего в деловом сговоре с лавочниками, барышниками, владельцами извозов и постоялых дворов. Налет, ограбление, купля и продажа контрабанды возводились ими в высокую степень ремесла. Многие налетчики впоследствии открывали собственное «дело» – лавку, извозное хозяйство или увеселительное заведение.
Молдаванские ребятишки играли на пустырях «в налеты». Бандиты волновали их воображение. Налетчики жили на широкую ногу, одевались пестро, с крикливым провинциальным шиком, и разъезжали на лихачах. Это были люди, сумевшие вырваться из окружающей нищеты и «воспарить над ней».
Их главарем и предводителем был сын биндюжника с Госпитальной улицы Михаил Винницкий, прозванный Япончиком за скуластое лицо и черные раскосые глаза. Молва приписывала ему удивительные по смелости и дерзости налеты. По-видимому, среди подобных себе Япончик и впрямь был незаурядной фигурой. Хитрый, волевой, наглый, он сумел сколотить шайку из самых отъявленных молдаванских бандитов. Постепенно весь уголовный мир Одессы признал его своим вождем. Полиция была у Япончика на откупе, закон стыдливо обходил его стороной, поскольку с политикой он не имел ничего общего, и пути ему были заказаны только в те кварталы, где проживала одесская знать. Но разве и без этих кварталов мала Одесса?
Люди Япончика проникали всюду. Они наводили ужас на одесских скототорговцев, магазинщиков, купцов средней руки, и те безропотно платили Мишке щедрую дань, откупаясь от налетов на их конторы и лабазы.
Скандальная популярность Япончика была велика. Этот коренастый узкоглазый щеголь в ярко-кремовом костюме и желтой соломенной шляпе «канотье», с галстуком-бабочкой «кис-кис» и букетиком цветов в петлице гулял по Дерибасовской, сопровождаемый двумя телохранителями из самых отчаянных громил. Городовые делали вид, что не замечают его. Прохожие почтительно уступали дорогу. Небрежно помахивая тросточкой, Япончик отправлялся на Екатерининскую улицу. Там, в знаменитом кафе Фанкони, где собирались преуспевающие одесские дельцы, у него был постоянный столик. Мишка чувствовал себя здесь равным среди равных.
Япончик был честолюбив. На Молдаванке он время от времени обкладывал контрибуцией местных лавочников и закатывал шумные пиршества. Столы ломились от даровой еды, водку подавали ведрами, и в благодарность за бесплатную выпивку молдаванская голытьба нарекла Мишку «королем Молдаванки».
Но подлинную силу Япончик обрел во время гражданской войны.
То были смутные тяжелые годы. За сравнительно короткий срок в Одессе сменилось множество властей. Кто только не топтал ее прямые, выстланные сицилианской брусчаткой улицы! Австрийцы и немцы, польские легионеры, гайдамаки Скоропадского, Петлюры и Центральной рады. Были здесь войска Антанты – французы, итальянцы, греки, англичане. Занимали город генерал Деникин и атаман Григорьев.
Под ударами Красной Армии все они рано или поздно покинули Одессу, но, уходя, оставили в ней многочисленное охвостье, путь у которого был один – к Мишке.
Банда Япончика росла. В разгар гражданской войны под его началом оказалось несколько тысяч вооруженных до зубов головорезов. Они хорошо знали город, имели на окраинах много потайных «опорных» пунктов, а про запас, на самый крайний случай, – такое верное убежище, как катакомбы[3] – одесскую преисподнюю.
Впрочем, крайних случаев почти не было. И при Деникине и при Антанте бандиты чувствовали себя превосходно. В прошлое отошли времена, когда Мишка Япончик «ощипывал» купцов и магазинщиков. Теперь он не брезговал и простыми обывателями. Днем в городе лютовали белые, ночью он попадал в руки налетчиков…
Деникинский генерал Шиллинг, главноначальствующий Одесского военного округа, не разобравшись в обстановке, приказал своей контрразведке ликвидировать Япончика. Он не желал делиться властью с каким-то молдаванским бандитом.
Мишку взяли, когда он один, без телохранителей, выходил из кафе Фанкони.
Три офицера-контрразведчика подошли к нему с револьверами в руках и объявили, что он арестован.
– Я?! – страшно удивился Мишка. – Здесь, наверно, какая-то ошибка. Я так думаю, что вы сильно перепутали, просто даже неприятно за вас. Я же Япончик!
– Тебя и нужно! Подними руки, да поживей!
– Зачем такая спешка? – проговорил Япончик, оглядываясь и отступая к стене, чтобы не выстрелили в спину. – Давайте разберемся, мы же свои люди…
– Я тебе покажу «свои люди»! – зарычал один из контрразведчиков. – Руки вверх, бандитская морда!
Япончик укоризненно покачал головой;
– Ай-яй-яй, смотрите на него: такой интеллигентный, а какие нехорошие слова! … – Но руки поднял.
Когда его обыскивали, Япончик сказал стоявшему перед ним офицеру:
– Могу я просить вас опустить шпалер? А то, не дай бог, вы еще случайно выстрелите и наживете себе крупных неприятностей!
У него отняли висевший под мышкой револьвер и через весь город повели в контрразведку.
Но не успели доставить Япончика по месту назначения, как слух о его аресте распространился по Одессе и достиг Молдаванки.
Через полчаса к зданию контрразведки подкатила кавалькада фаэтонов и извозчичьих пролеток. На них сидели бандиты. У каждого в руках была связка гранат.
На глазах у деникинской охраны бандиты перегородили фаэтонами улицу и, опрокинув несколько проезжавших мимо телег, соорудили баррикаду. Затем один из них, в панцире из пулеметных лент, подошел к растерянным, напуганным этими приготовлениями часовым.
– Ты, – указал он выбежавшему на шум офицеру, – иди передай Мише Япончику, что мы за ним приехали. И еще скажи своим панам, что мы ждем пятнадцать минут, а потом пусть они не обижаются…
Больше он ничего не сказал и вернулся к товарищам.
Офицер убежал в дом. Вскоре оттуда выскочил багровый от ярости сам начальник контрразведки,
– Что за бедлам! – загремел он. – С ума спятили?! Немедленно очистить улицу! – и зашагал к баррикаде, желая, должно быть, устрашить бандитов своим грозным видом.
За ним потянулись другие офицеры.
Из-за телег негромко, но внушительно предупредили:
– Не подходить!
Начальник контрразведки остановился на полпути, дрыгнул тощей ногой в шевровом сапоге, повернулся и так же решительно зашагал обратно, сопровождаемый всей своей свитой.
Некоторое время в здании контрразведки слышалась какая-то возня. А затем на крыльце появился Мишка Япончик.
Вид у него был помятый, но он вежливо раскланялся с часовыми и, вертя пальцами щегольскую тросточку, неторопливо спустился с крыльца. Бандиты шумно приветствовали его. Мишка сел на одну из пролеток и уехал, помахав контрразведчикам рукой в палевой перчатке.
Деникинцы бурно возмущались наглостью молдаванского биндюжника, клеймили его позором в одесских газетах. Но и только. На большее они не осмелились, решив до поры до времени не связываться с бандитами. А Мишка после этого случая возомнил себя революционером. Программу он избрал наиболее подходящую для себя: анархизм…
Седьмого февраля двадцатого года в Одессу пришла Красная Армия. Город навсегда стал советским. И уже через три дня чекисты вместе с красноармейцами устроили первую большую облаву на бандитов. Япончик сразу почувствовал, что на этот раз в Одессу пришла настоящая власть, с которой ему не совладать. Ее поддерживал народ, в том числе бедняцкое население Молдаванки…
В эти дни к Япончику неожиданно явились представители матросского революционного комитета. Они коротко изложили свои требования. Послезавтра комитет устраивает благотворительный вечер с концертом и танцами в Матросском клубе, Весь сбор поступит в пользу сирот одесских матросов, погибших а боях за революцию. Но при нынешнем положении в Одессе вечер может сорваться: жители не решаются выходить из домов с наступлением темноты. Если концерт, в котором выступят знаменитые артисты, пройдет при пустом зале, в том будет вина Япончика, и комитет доведет это до сведения всех революционных матросов.
Угроза была нешуточная, но Япончик тем не менее чувствовал себя польщенным: как-никак это было признание его силы.
– Что ты мне доказываешь! – возмутился он. – Или я враг бедных сирот? У меня сердце разрывается слушать таких глупостей! Передай комитету, пусть положатся на меня!
В тот же день на улицах были расклеены объявления, напечатанные крупным шрифтом. Они гласили:
«В Матросском клубе состоится интересный вечер с артистами!
Сбор в пользу сирот!
Все на концерт!
Порядок обеспечен! Грабежей в городе не будет до двух часов ночи!»
И стояла подпись: «Михаил Винницкий».
Впервые за много лет одесситы безопасно гуляли вечером. Люди Япончика патрулировали по городу, охраняя порядок.
Но ровно в два часа те же патрули начали раздевать зазевавшихся горожан.
– Уже два часа, где дисциплина?! – возмущались они, вытряхивая из пальто какого-нибудь незадачливого гуляку.
ЧК и Особый отдел Красной Армии опубликовали совместное постановление: впредь налетчики, застигнутые на месте преступления, будут расстреливаться без суда и следствия. Никакой пощады бандитам, терроризирующим мирное население Одессы! …
Облавы на Слободке и Молдаванке убедили Япончика в том, что привольное бандитское житье кончилось. Советская власть оказалась таким орешком, который был ему явно не по зубам.
И Япончик решил с Советской властью не ссориться.
Однажды в кабинете начальника Особого отдела Красной Армии Фомина зазвонил телефон. Дежурный доложил, что два каких-то подозрительных типа требуют, чтобы их пропустили к высшему начальству. Один назвался Михаилом Япончиком.
– Вооружены? – спросил Фомин.
– Кажется, да.
– Отберите оружие и пропустите.
Япончик пришел с телохранителем – детиной саженного роста. Вожак молдаванских бандитов был одет необыкновенно скромно: в расшитую украинскую рубаху, в синие галифе из жандармской диагонали и хромовые сапоги.
– Привет! – развязно сказал он, поднимая руку, – Как поживаете?
Не дожидаясь приглашения, он опустился на табурет перед столом начальника и оглядел скромную обстановку кабинета.
– Фи! – оказал он и наморщил свое плоское лицо с коротким и будто расплющенным носом. – Разве не нашлось в Одессе пары хороших кресел и приличного дивана для такого солидного места? – Он покачал головой и с интересом уставился на начальника Особого отдела. – Вы и есть Фомин? – спросил он.
– Я и есть.
– А меня вы знаете?
– Не имею удовольствия.
– Я – Винницкий. Иногда меня еще называют Япончиком. Может быть, слышали? А это мой адъютант… – Япончик замялся. – Зовите его Жора Дуб, он не обидится.
Фомин выжидательно молчал, разглядывая посетителей и стуча карандашом по стопке бумаг. Лицо у него тоже было скуластое, твердое, монгольского типа, с редкой щетинкой на подбородке.
– Так вот, – продолжал Япончик, несколько сбитый с толку тем, что его имя, казалось, не произвело на Фомина никакого впечатления, – я имею к вам серьезный разговор. В последнее время вы стали очень грубо обращаться с моими людьми.
– С какими это «моими людьми»? – прищурился Фомин.
Япончик досадливо сдвинул брови:
– Товарищ Фомин, мы не дети! Вы знаете, кто я, я знаю, кто вы.
– Ну, допустим, – согласился Фомин – Дальше что?
– Вот я и говорю: вы очень грубо поступаете с моими людьми и коцаете[4] их где придется.
– Мы расстреливаем бандитов, – сказал Фомин, – Пока еще мало, недостаточно. Впредь будем расстреливать больше.
– Правильно! – Япончик хлопнул ладонью по столу. – Совершенно правильно делаете, товарищ Фомин! Это говорю вам я, Михаил Винницкий! Некоторые глупые люди думают, что я такой же, как они. Бессовестные враки! Спросите кого хотите, и вам скажут: Винницкий никогда не обижал бедняков! Винницкий всегда был за рабочий класс и подвергался страшным издевательствам в деникинской контрразведке! И я сказал своим людям: одно дело – грабить при белых и совсем другое дело – грабить при красных. Это две больших разницы! Я не бандит, чтоб вы знали! Я экс-про-при-атор! – запнувшись на трудном слове, объявил Япончик. – Революция для меня родная мать! И если теперь кто-нибудь возьмется за старое, тому я злейший враг, и пусть их бьет в самую душу чека и Особый отдел! Даю на то свое согласие!
– Покорнейше благодарим! – усмехнулся Фомин. Он все еще не мог понять, к чему клонит Япончик. – Обошлось бы и так как-нибудь.
Япончик «пропустил это замечание мимо ушей.
– И вот я имею до вас деловое предложение! – продолжал он. – До сих пор я боролся, сидя в Одессе. Теперь я хочу выйти на простор! Вы, вероятно, знаете, что под моим командованием (он так и сказал – «под моим командованием») тысячи человек. Если хотите, я могу сделать из них регулярное войско за Советскую власть! Что для этого надо? Ровным счетом пару пустяков! Одну бумажку, что я есть красный командир! Остальное я беру на себя. Вы получите боевой полк из отборных смельчаков! Оружие у меня есть, одежа у меня есть, авторитет у меня тоже есть. Дайте бумажку, и через неделю я выступлю на фронт громить белополяков! – Япончик припечатал кулак к столу и откинулся на табурете, победно глядя на Фомина.
– Та-ак… – протянул Фомин. – По-нят-но…
Неторопливо стуча карандашом по бумаге, он лихорадочно перебирал в уме все «за» и «против» Мишкиного предложения.
Обстановка в Одессе сильно разрядится, если Япончик выведет из нее бандитов Но удастся ли ему это? Станут ли они воевать? Народ ненадежный! …
К тому же выдать Япончику требуемый мандат – значит взять на себя ответственность за все его действия. Нелегкая задача!
Или все-таки рискнуть? Какой удивительный случай прибрать бандитов к рукам! …
– Я один таких вопросов не решаю, – произнес наконец Фомин. – Надо согласовать с Реввоенсоветом фронта.
– Правильно! – сказал Япончик. – Что я, не понимаю? Все должно быть солидно! Скажите Реввоенсовету, они не просчитаются!
– Ты уверен, что соберешь людей? – опросил Фомин.
– Товарищ начальник, – снисходительно проговорил Япончик, – вы здесь новый человек, и вам простительно задавать такие наивные вопросы. Мне просто смешно! Винницкого немного знают в Одессе, и его слово чего-то стоит! Если я говорю…
– Ладно, – перебил Фомин, – все ясно. Завтра получишь ответ.
– Вот это разговор! – сказал Япончик, вставая. – Люблю деловых людей! Тогда не буду вас больше отвлекать, разрешите откланяться… И скажите, чтобы нас выпустили отсюда.
Фомин кликнул дежурного и велел проводить посетителей.
В тот же день Реввоенсовет принял решение выдать Япончику мандат на формирование боевого полка. Риск, в конце концов, был невелик. Возможно, некоторая часть бандитов действительно возьмется за ум – каких только чудес не делала революция! Если же ничего не выйдет, то разоружить бандитов, собранных вместе, будет легче, чем сейчас, когда они прячутся по темным углам. Но главное: представлялась наконец реальная возможность очистить город от бандитов.
Япончик взялся за дело.
Не менее двух тысяч воров и налетчиков изъявило готовность вступить в его войско. Новосельская улица, где Япончик расположился штабом, превратилась в военный лагерь…
И вот в один прекрасный день – это был поистине прекрасный день для жителей Одессы! – бандиты выступили на передовые позиции.
Япончик сделал все, чтобы это событие надолго осталось в памяти одесситов.
Впереди шли музыканты. Люди Япончика собирали их по всему городу. Трубачи и флейтисты из Оперного театра, нищие скрипачи, побиравшиеся по дворам, гармонисты из слободских пивнушек – все они сегодня шагали рядом, играя походные марши и блатные молдаванские мелодии.
Позади оркестра ехал на белом жеребце сам Япончик в кожаной фуражке, «как у Котовского», в офицерском френче и красных галифе с золотыми позументами. Два маузера и прямой уланский палаш в сияющих никелированных ножнах с зазубренным колесиком на конце составляли его вооружение.
Рядом несли огромное знамя из тяжелого малинового бархата. На нем было вышито полное название полка: «Первый непобедимый революционный интернациональный одесский железный полк «Смерть буржуям!»
Около знамени ехал полковой комиссар, назначенный Реввоенсоветом, – смуглый черноволосый молодой человек в студенческой тужурке.
А вслед за ними нестройными рядами двигалось Мишкино воинство. Его украшали мундиры всех европейских армий, побывавших в Одессе. Рябило в глазах от голубых французских шинелей, английских хаки, синих жупанов и греческих курток. Особенное разнообразие являли головные уборы. Кроме обычных картузов и кубанок, здесь можно было увидеть гайдамацкие папахи с длинными шлыками, польские конфедератки, береты французских пехотинцев и даже немецкие каски с высокими острыми шишаками. Кокарды были ободраны, вместо них прикреплены красноармейские звездочки.
Сотрясая оконные стекла, гремел оркестр, развевалось малиновое знамя, и бандиты медленно шествовали по улицам, потея под бременем навешанного на них оружия – винтовок, пистолетов, гранат и пулеметных лент, их с избытком хватило бы, чтобы вооружить целую дивизию.
Поглазеть на такое небывалое зрелище высыпали тысячи зевак. Темпераментные одесские обыватели, падкие на все яркое и необычное, с удивительной легкостью поверили в то, что бандиты «исправились». Они даже готовы были гордиться «своими» бандитами: где вы еще видели такой город, чтобы в нем даже налетчики («Вы слышите, даже налетчики!») шли воевать за Советскую власть! Они махали платочками, выкрикивали пожелания доброго пути и победы, забыв, что еще совсем недавно эти самые люди превращали их жизнь в сплошной кошмар, не прекращавшийся ни днем ни ночью…
Едва эшелон с молдаванским воинством (покинул Одессу, как стало совершенно ясно, что Мишка переоценил свои силы. Ни малиновое знамя, ни звездочки на головных уборах не могли изменить его людей: бандитами они были, бандитами и остались.
В вагоне Япончика шло беспробудное пьянство. Бренчали гитары, раздавался дробный топот пляшущих, пахло сивухой, визжали прихваченные из Одессы женщины.
Урканы не отставали от своего вожака. На каком-то полустанке они расстреляли стоявшую на запасном пути цистерну, решив, что в ней спирт. Цистерну разнесло вдребезги: в ней оказался керосин. Крестьян, выносивших к поезду молоко и вареную картошку, бандиты обирали вчистую, не платя ни гроша.
Плоть от плоти молдаванской голытьбы, Япончик не усматривал в этом ничего из ряда вон выходящего.
– Подумаешь – дело! – оказал он комиссару, когда тот потребовал немедленно пресечь грабеж. – Может, у них такая привычка бороться со спекуляцией. И вообще, ты их не замай: люди на смерть едут!
Убедить его, что это бросает тень на всю Красную Армию, было невозможно. Комиссар принял свои меры. Предупрежденные им по телеграфу железнодорожники выставили на каждой станции вооруженные патрули. Базары опустели. Грабить стало некого. Боевой дух «отборных смельчаков» сразу же спал.
И тогда Мишкино воинство начало таять так же быстро, как создавалась. Понятия долга, чести, воинской дисциплины были налетчикам чужды. Будущее не сулило им ничего хорошего: окопную сырость и жестокие бои с белополяками, в которых, неровен час, и убить могут. Уголовники затосковали по своим теплым «малинам», где никакой дождь не страшен и рукой подать до чужих карманов. Наскоро собрав пожитки, они без лишних слов стали покидать эшелон и, кто как мог, удирать в Одессу. Остановить их можно было, пожалуй, только самыми крутыми мерами, вплоть до расстрела, а на это Япончик никогда бы не пошел. Он слишком хорошо знал своих приятелей: начни налаживать дисциплину – и никто не поручится за твою собственную шкуру…
За станцией Вапнярка поезд остановился в степи. Вдали раздавались глухие раскаты артиллерийской канонады.
Комиссар нашел Япончика возле штабного вагона.
– Почему остановились?
– Что это такое? – вместо ответа спросил Япончик и, прислушиваясь, поднял палец.
– А ты не знаешь? – сказал комиссар. – Это война. Черноморские матросы громят белополяков.
– Да? … – неопределенно пробормотал Япончик. – Подумать только, сколько там шуму! …
Из всех вагонов торчали головы его встревоженных дружков.
– Распорядись ехать дальше! – потребовал комиссар.
– Погоди, – сказал Япончик. – Куда нам спешить? …
Он еще постоял в раздумье, а когда земля донесла особенно сильный орудийный удар, ушел в вагон.
Эшелон продолжал стоять. Комиссара к Япончику не допускали.
– Думает! – сказали ему.
Утром в вагонах недосчитались еще двух сотен молдаванских «героев». А Япончик все еще продолжал «думать», запершись в штабном вагоне со своими приближенными.
Комиссар понял: Япончик струсил. Выбор у бандита был невелик: либо идти на фронт, либо признать провал своей затеи и предстать перед революционным трибуналом. Ни то, ни другое не привлекало Япончика. Он выбрал третье: взяться за старое, сохранить престиж в глазах собственных приятелей и ждать лучших времен. В конце концов, много было разных властей, все погорели, авось и Советская не устоит…
Комиссара вызвали в штабной вагон.
– Мы тут все обмозговали, – объявил ему Япончик. – Это не наше дело – сидеть в окопах!
– То есть, как это?!
– Очень просто! Завертаем до дому!
– Что ты болтаешь? Подумай, что ты говоришь!
– Я уже думал! Какой мне смысл здесь сидеть, спрашивается? Ревматизем наживать?
– А приказ? … Ты понимаешь, что это называется изменой воинскому долгу?!
– Воинскому долгу… – передразнил Япончик. – Не пугай меня красивыми словами! Если я буду в Одессе, она станет для белых могилой!
Комиссар был молод. Выдержка давалась ему с трудом. Но он все-таки заставил себя говорить спокойно:
– Винницкий, ты сейчас краском, а не кто-нибудь… То, что ты задумал, – предательство!
Япончик строптиво вздернул подбородок?
– Не капай мне на мозги, пока что я на свою голову не жалуюсь. Словом, нечего мазать кашу по столу, решили – и все! Между прочим, тебе я советую сидеть тихо и не рыпаться. Ты же знаешь моих ребят; у «их сильно испорчены нервы! …
Комиссар ничего не ответил и вышел из вагона.
…Пешком он добрался до ближайшего села, достал коня и без седла поскакал в Вознесенск – большую узловую станцию, которую бандиты миновать не могли.
Он загнал коня, шел пешком, пристраивался на попутные телеги и, верно, опоздал бы все-таки предупредить вознесенских коммунистов об измене Япончика, если бы неожиданные обстоятельства не задержали того на станции Вапнярка.
Когда эшелон с бандитами возвратился в Ваинярку, на станцию прискакал председатель местного ревкома, бывший студент, большевик Зонин, совсем еще молодой человек, двадцати двух лет от роду, больной туберкулезом, с бледным тонким лицом мечтателя и аскета. Только вчера он с почестями провожал этот эшелон на фронт…
Бросив коня на привокзальной площади, Зонин выскочил на платформу. Гомон, крики, матерная брань оглашали станцию. Бандиты тащили в вагоны все, что только можно было утащить: половики, ведра, какой-то захудалый железнодорожный инвентарь и даже сорванные со стен кумачовые плакаты. В суматохе никто не обратил на Зонина внимания.
Он побежал вдоль эшелона, ища Япончика. Навстречу попался взлохмаченный низкорослый бандит, тащивший для какой-то надобности длинную двухдюймовую доску. Зонин схватил его за рукав:
– Где Винницкий?
– Отчепысь! – рванулся бандит.
– Где Винницкий, спрашиваю!
– В вокзале. Душу вынает из якого-то начальника, чтоб паровоз давал…
Уже на пороге пассажирского зала Зонин услышал разъяренный голос Япончика. То, что он увидел, пробившись сквозь толпу бандитов, сразу объяснило ему, в чем дело.
А дело было в том, что едва налетчики захватили станцию, как, спасаясь от них, разбежались все станционные служащие. Это было бы еще полбеды, но вместе со служащими скрылась и паровозная бригада. Поймали только начальника станции. Из него-то Япончик и «вынал душу».
Начальник станции был тщедушный старичок с испуганными блекло-голубыми глазами и седой эспаньолкой. Япончик тряс его, сграбастав за лацканы синей форменной тужурки.
– Где машинист, старая крыса? – рычал он. – Где твои паровозники, сволочь? Отвечай по-хорошему, добром прошу! …
От «доброты» молдаванского бандита у начальника станции безвольно, как на шарнирах, моталась голова. Фуражка с красным околышем слетела на пол, обнажив легкие, как паутинка, белые волосы. Заикаясь и всхлипывая, он слабо взмахивал руками и пытался объяснить, что в Вапнярке работает недавно, что сам он из Умани и здесь почти никого не знает. Он бы всей душой рад помочь «товарищу командиру», но что он может сделать один, если все разбежались и бросили его на произвол судьбы? …
– Врешь! – неистовствовал Япончик. – Нарочно резину тянешь! Говори, где они, или самого заставлю поезд вести! Не поведешь – вздерну на водокачке, как паршивую собаку! Последний раз спрашиваю, куда машинистов задевал?
– П-поверьте, т-товарищ командир, жизнью вам клянусь, н-не знаю! – заплакал начальник станции.
– У-у! – Япончик коротко и жестко ткнул его кулаком в лицо.
Старик охнул. Кровь из разбитого носа окрасила его аккуратно подстриженные усы, потекла на дрожащий клинышек бородки.
– Стой, Винницкий! – закричал Зонин. – Требую прекратить произвол!
Япончик обернулся:
– А тебе что? Ты кто такой?
– Я председатель Вапнярского ревкома Зонин. Отпусти человека! Машинистов все равно не будет! Без приказа командования отсюда не уедет ни один человек!
Япончик отпихнул начальника станции и шагнул навстречу председателю ревкома. Перекошенное лицо его стало изжелта-бледным. Узкие глаза косили от ярости. Деревянные коробки маузеров путались у него в ногах, и конец длинного палаша со звоном волочился по кафельному полу.
– Задержать хочешь? Небось уже и подмогу вызвал? …
– Слушайте все! – Зонин вскочил на скамью посреди зала и сорвал с головы фуражку. – Бойцы первого одесского полка! Я обращаюсь к вам от имени Военного революционного совета! Вы добровольно встали под красное знамя Советской власти, а теперь вас подбивают не выполнять приказы красного командования, толкают на путь предательства революции! Властью, данной мне Республикой, я смещаю бывшего командира полка и беру командование на себя! Я знаю, среди вас найдутся верные революции, которые сомкнут свои ряды в борьбе за счастье народа! …
Нет, не этими словами можно было пронять стоявших перед Зониным людей! Да и существовали ли вообще слова, способные подействовать на это разномастное одесское жулье, собранное Япончиком в пресловутый «молдаванский полк»?! Злобные наглые лица окружали Зонина, пустые глаза…
– Через несколько часов сюда прибудут красные войска! – продолжал Зонин. – Предатели и изменники будут разоружены. Предлагаю не дожидаться прихода Красной Армии и своими силами обезвредить тех, кто подбивает вас на измену! …
– Га-ад! – завизжал Япончик. – Войска вызвал! Не слушай его, братва! То ж провокатор! Бей его!
Вот это было понятно!
– Бе-ей! Лягавый! … – завопили в толпе,
– Дави гада! …
Зонин взмахнул рукой:
– Стойте! … – но голос его потонул в яростном, неистовом реве.
Кто-то толкнул его в спину, кто-то выдернул скамью из-под ног. И когда он, неловко взмахнув руками, упал на пол, его захлестнула черная ревущая лавина бандитов.
Председателя вапнярского ревкома били сапогами, прикладами, рукоятками револьверов. Били по-бандитски, насмерть. В уже бездыханное, распластанное на грязном полу тело Япончик выпустил три пули из маузера…
После долгих поисков бандитам все-таки удалось найти машиниста, спрятавшегося в станционных складах. Его тоже зверски избили и заставили вести поезд в Одессу.
На рассвете следующего дня они прибыли в Вознесенск.
Но комиссар успел опередить их на несколько часов и поднять на ноги всю городскую партийную организацию. Япончику подготовили достойную встречу.
Поезд загнали в тупик, который находился на пустыре, названном Марьин луг, в честь посещения Вознесенска вдовствующей императрицей. В кустах расставили пулеметы. Местные комсомольцы раскопали на свалке старое испорченное полевое орудие, не способное сделать ни одного выстрела. Его вытащили на самое видное место. Для пущего впечатления навели на «штабной» вагон. И грозный вид покалеченного артиллерийского ветерана сделал больше, чем все прочие приготовления. Когда эшелон остановился, из него не вышел ни один человек, только двери и оконца теплушек ощетинились винтовочными стволами.
Члены ревкома во главе с председателем Синюковым и комиссаром в полной тишине поднялись в «штабной» вагон, где Япончик ожидал их со своими ближайшими дружками.
– Ты арестован, клади оружие! – сказал Синюков. Глазок его нагана в упор нашаривал грудь Япончика.
Опытный бандит сразу понял, что дела его плохи. О защите нечего было и думать. Оставалось последнее средство: наглость. И Япончик пустил его в ход.
– Вот как вы встречаете командира первого полка молдаванского пролетариата! – проговорил он, насупив вздернутые к вискам брови. – Это «как же надо понимать? Изме…
Синюков не дал ему договорить:
– Клади оружие, бандитская образина! Считаю до трех! Именем революции, раз! …
Япончик оглянулся. Стоявшие позади него расступились. Дружки, правильно оценив обстановку, уже поспешно снимали пояса с подвешенными к ним гранатами, через головы стаскивали перевязи пистолетов.
– Два! …
Сдача означала: военный трибунал и – смерть, неминучую позорную смерть… Нет, только не сдаваться! Только бы вырваться отсюда! Только бы вырваться! …
Медленно, стараясь выиграть время, Япончик отстегнул палаш, бросил его под ноги. Взялся за поясной ремень. И вдруг, пригнувшись, рванулся к двери в соседнее купе.
Тут и настигла его пуля. Он взвизгнул, разметал руки и ничком повалился на пол…
Известие о смерти Япончика ввергло его приятелей в панику. Немедленно возник слух, что красные войска близко, что со стороны Колосовки подошла кавалерийская бригада и уже окружает Вознесенск. Бандиты начали разбегаться кто куда. В панике никому из них и в голову не пришло мстить за своего главаря.
Войска из Одессы прибыли только на следующее утро. Красноармейцы ловили бандитов по дворам, снимали с чердаков, выволакивали даже из выгребных ям…
Бесславная история Мишки Япончика закончилась. Однако бандитская проблема еще не была решена.
Давно уже не существовало Япончика и его «армии», но по-прежнему ночами Одессу лихорадило от засилья уголовников. С наступлением темноты город испуганно замирал. Жители наглухо запирались в домах и, вздрагивая от шорохов, вслушивались в ночную тишину. То и дело на улицах раздавалось торопливое шарканье ног, где-то жалко трещали запоры, где-то зловеще тявкал револьверный выстрел, или вдруг, точно горох по железному листу, рассыпалась перестрелка. Всю ночь в городе шла невидимая борьба: чекисты охотились за налетчиками, налетчики – за чекистами.
Тревожно было в голодной Одессе, когда окончилось наконец вынужденное безделье Алексея Михалева.
Начало
Это случилось вскоре после того, как Синесвитенко уехал в Раздельную с рабочим продовольственным отрядом. На прощание Синесвитенко сделал Алексею подарок. Когда-то удалось ему раздобыть на базаре две одинаковые фигурки китайских болванчиков. Фигурки были из крепкой стали, полые внутри, и Синесвитенко смастерил из них зажигалки. Если нажать пружинку на спине болванчика, верхняя часть его головы немного откидывалась и изо рта вырывался тонкий язычок пламени. Еще раз нажмешь – рот захлопывался, проглатывая огонек. Таких зажигалок Алексею еще не доводилось видеть. У Синесвитенко были золотые руки.
– Возьми на память, – предложил Синесвитенко. – Кто знает, увидимся ли еще, а так, может, и вспомнишь… За Пашкой доглядывай, – попросил он. – Я ведь ненадолго. Ежели хорошо пойдет, через неделю буду обратно.
– На меня надежда слабая, – сказал ему Алексей, – не сегодня-завтра могу улететь.
– Ну, пока здесь… Он хлопчик мозговитый, проживет и сам.
Через два дня после его отъезда, поздно вечером, когда Алексей и Пашка от нечего делать играли перед сном в подкидного дурака, в дверь постучали. Джека, спавший на табурете, соскочил на пол и залаял. Алексей отложил примятые карты (а напринимал он много: Пашка играл здорово и к тому же еще жулил) и пошел открывать.
За дверью стоял невысокий человек в штатском пальто.
– Здравствуйте, – оказал он, – привет вам привез из Херсона.
– От Сергея Васильевича?
– От Василия Сергеевича. Вас ждут, просили скорей…
И казалось, с приходом этого человека жизнь сразу обрела привычный, тревожный ритм, будто и не было десятидневной передышки. Алексей торопливо навернул портянки, всунул ноги в сапоги и наскоро увязал в тряпицу немудрящее свое имущество – запасную пару исподнего белья и стопку писчей бумаги.
Одевшись, подошел к Пашке:
– Будь здоров, ухожу.
– Надолго? – опросил Пашка, который с тревогой наблюдал за сборами Алексея.
– Кто его знает. Ждать-то меня не надо.
У Пашки задрожали губы.
– Насовсем, что ли?
– Ну уж и насовсем! … Приду, наверно. А если нет, сам хозяйничай. Еды тебе дней на пять должно хватить, постарайся обернуться, пока отца нет. На рыбалку ходи… – Алексей говорил преувеличенно бодро и при этом старался не глядеть в огорченные Пашкины глаза, чтобы и самому не расчувствоваться (привык все-таки к мальчонке). – Словом, все должно быть в порядке. Если завтра не вернусь, скажи во дворе, что, мол, устроился работать к немцам в экономию. Понял?
Пашка не ответил. Веки его подозрительно набухли.
– Ну, прощай, – Алексей потрепал его по жестким вихрам, слипшимся от соленой морской воды, и направился к двери. – Пойдемте, – кивнул связному.
Они вышли на улицу.
– Отсюда в квартале – фаэтон, – вполголоса сказал связной.
Они свернули за угол, и Алексей увидел в отдалении желтый светлячок цигарки. Связной громко кашлянул. Огонек прочертил в темноте кривую и, упав на землю, рассыпался красноватыми, сразу погасшими искрами. Застучали копыта, фаэтон подъехал.
– Раскуриваешь! – недовольно проговорил связной. – Нашел занятие.
– Вы бы еще дольше возились! – отозвался возница. Голос у него был молодой и сердитый. – Садитесь уж…
Алексей сел рядом со связным на кожаную подушку сиденья, щелкнули вожжи по конской спине, и фаэтон покатился, качаясь на мягких рессорах.
Они ехали довольно долго. Сперва по немощеной, в глубоких рытвинах дороге, потом по твердому настилу брусчатки, звонко цокавшей под копытами, и, наконец, по мягким деревянным торцам в центре города.
Остановились вблизи какого-то сквера.
– Жди здесь, – приказал связной вознице. – И насчет курева сократись. Двинули, товарищ, – он легонько подтолкнул Алексея и соскочил на землю.
Обогнув сквер, они пересекли улицу, вошли в темный подъезд большого дома и поднялись на второй этаж. Связной дернул ручку звонка. За обитой войлоком дверью брякнул колокольчик, и почти тотчас же им открыли. Пожилая женщина в домашнем халате провела их в конец длинного коридора, толкнула одну из дверей.
В комнате с завешенными окнами, обставленной тяжелой дубовой мебелью, сидели за столом Оловянников и Инокентьев. В углу Алексей увидел еще одного человека— седого, кряжистого, в потертом пиджаке, по виду рабочего.
– Спасибо, – сказал Оловянников связному, – можете идти. – Когда связной и женщина вышли, он взглянул на Алексея, приветливо щурясь из-за очков. – Как дела, херсонец?
– Какие дела? – хмуро сказал Алексей. – Для таких дел незачем было из Херсона уезжать: там тоже рыбалка хорошая.
Оловянников усмехнулся: – Ничего не поделаешь, приходилось выжидать. – Он указал на стул. – Садись. Как чувствуешь себя? Нашему брату отдых на пользу не идет, это уже доказано. Привыкаешь к неспешному существованию, и что-то в тебе ослабевает, размягчается, а после все как будто внове. Замечал?
– Нет. Опыта не было, – сухо ответил Алексей.
– Понятно, – засмеялся Оловянников. – Ты, я гляжу, совсем на нас (разобиделся. Ну ничего, дорогой товарищ, теперь работы хватит, можешь быть спокоен. Давай, Василий Сергеевич, рассказывай.
– Ты все помнишь, что я тебе говорил у Синесвитенко? – опросил Инокентьев.
– Помню.
– Насчет агента, которого мы ждали из-за кордона, и все остальное?
– Да.
– Так вот, агент прибыл. Второй день здесь.
– Второй день? А почему…
– Не спеши вопросы задавать, сейчас все узнаешь. Раньше мы думали агента перехватить и (послать тебя вместо него. Но в последний момент оказалось, что он приезжает второй раз. Значит, подменять нельзя: верный провал. Словом, обстоятельства изменились… – Инокентьев повернулся к сидевшему в углу человеку. – Двигайся ближе, Валерьян, – сказал он ему, – доложи все сначала.
Как менялись обстоятельства
Некто, по имени Григорий Павлович Рахуба, прибыл в Одессу морем. Высадили его в районе четырнадцатой станции Большого Фонтана[5], и день он отсиживался в колючих зарослях на берегу. Ночью Рахуба пробрался в город на явочную квартиру. Хозяин явки, по профессии наборщик, Валерьян Золотаренко скрывал его у себя весь следующий день, а в сумерки повел на новую явку.
И вот по дороге с ними приключилась неприятность, грозившая в те годы каждому, кто осмеливался совершать ночные прогулки по Одессе.
На темной улочке возле Греческого базара, куда по заранее намеченному плану Золотаренко привел Рахубу, их окружили какие-то люди. Один из этих людей, в надвинутой до бровей кепке, осветил их фонариком.
– Кто такие? – спросил он удивленно. – Куда вы собрались, уважаемые? Что вам дома не сидится?
Он вел себя, как блатной, этот человек.
Золотаренко оттер Рахубу плечом.
– Добрые граждане! – оказал он проникновенно. – Отпустите с миром, доктора веду к жинке, помирает совсем…
– Доктора? …
Светя фонариком, человек в кепке оглядел прочные сапоги Рахубы, его синюю куртку военного покроя, в отворотах которой виднелась мятая украинская рубаха, и широкие, слегка обвислые плечи.
– Что ты мне баки заколачиваешь! – проговорил он. – Какой же это доктор? Или я докторов не видел?
– Право слово, доктор! – принялся уверять его Золотаренко. – По женским делам специалист.
– Я действительно врач, – сказал Рахуба, – недавно из армии.
– Ой ли! – Человек в кепке недоверчиво покачал головой. – А что у вас в карманах, гражданин доктор? Может быть, что-нибудь стоящее? Так лучше отдайте мне, а то вас непременно ограбят: Одесса – это такой город! …
– Есть немного денег, – сказал Рахуба. – Возьмите, если надо.
Он достал из кармана несколько «лимонов»[6]. Не взглянув на деньги, человек в кепке шагнул ближе и вдруг провел ладонями по груди Рахубы.
– А это что такое? – спросил он, нащупав под сукном куртки что-то плотное.
– Пусти, это инструмент, – ответил Рахуба.
– А ну, покажи! – потребовал тот.
И тогда, резко отпихнув стоявшего перед ним человека, Рахуба бросился в сторону. Дальнейшее происходило быстро и в полном молчании. Кто-то успел подставить Рахубе ногу, он растянулся на земле, а когда вскочил, на него накинулись сразу трое.
Рахуба отбивался отчаянно: это был недюжинной силы человек и драться он умел. В темноте слышались хриплое прерывистое дыхание, тупые шлепки ударов.
В самый разгар потасовки кто-то крикнул:
– Облава! …
И вслед за тем на соседней улице пронзительно заверещал милицейский свисток.
В одно мгновение улица опустела: нападающие будто испарились.
Золотаренко подскочил к Рахубе:
– Бежим! Скорее! …
Рахуба сидел на мостовой, держался за колено. Он хотел было встать, но тут же, охнув, снова опустился на землю.
– Нога…
Свистки приближались. Подхватив Рахубу под мышки, Золотаренко оттащил его в ближайшую подворотню. Мимо, тяжело дыша, протопали милиционеры. Когда шаги их затихли в стороне Греческого базара, Золотаренко спросил:
– Что с вами?
– Похоже, ногу вывихнул…
– Взяли что-нибудь?
– Не успели…
Золотаренко встревоженно оглянулся по сторонам:
– Как бы милиция не вернулась! Идти-то вы сможете?
– Далеко еще?
– Далеко! До Пересыпского моста.
Рахуба, кряхтя, растер колено. Откинувшись на спину, он уперся локтями в землю и приказал:
– Ну-ка, дерни!
Золотаренко с силой потянул его за сапог. Рахуба зарычал от боли…
Отдышавшись, он поднялся с помощью Золотаренко и сделал несколько шагов.
– М-м, дьявольщина! … Нет, не дойду…
– Куда ж теперь? Что делать будем? – всполошенно шептал Золотаренко. – Мне вон тоже руку рассадили, пиджак весь в клочья! …
– Дай плечо опереться, – проговорил Рахуба, – назад пойдем! – И он выматерился сквозь зубы, кляня одесских налетчиков и собственное невезение.
Так в самом начале своего рейда эмиссар белогвардейского союза «Освобождение России» был вынужден прочно осесть на квартире наборщика Валерьяна Золотаренко.
Нога его отекла и болела нестерпимо.
– Должно, трещина у вас в кости, – высказал предположение Золотаренко. – Хотите, врача позову? Есть один по-соседству. Скажем – родственник приехал…
Рахуба отказался. Боль пугала его меньше, чем разоблачение.
Он сидел в тесной кухонной кладовке, прикладывая к ноге холодные компрессы. Встрепанный, обросший черной щетиной, он удивительно напоминал попавшего в капкан зверя…
Вечером он велел Золотаренко сходить к руководителю его пятерки и, если будет возможно, привести его сюда.
Золотаренко ушел и через два часа ввалился в кладовку бледный с искаженным лицом, не сел – рухнул на топчан. Придя в себя, рассказал следующее.
Три дня назад к руководителю его пятерки – Миронову – явился кто-то из центра. Миронов оставил его ночевать, и в ту же ночь явку накрыла чека. Когда чекисты окружили дом, Миронов и его гость стали уходить по крышам. Чекисты открыли огонь и ухлопали обоих. Во дворе до сих пор засада. Золотаренко повезло: в квартале от дома он встретил мироновского дворника – своего человека, и тот предупредил его.
– Что делать будем? – вздрагивая и косясь на дверь, шептал Золотаренко. – Сейчас они подряд начнут чистить! …
– Тихо! – прикрикнул Рахуба. – Миронов живой?
– Убит Миронов! И тот, второй, тоже! Дворник сам помогал их на извозчика укладывать. Говорит, прямо в висок…
– С кем у тебя еще связь?
– Ни с кем. Только с Мироновым.
– А сейчас не было за тобой слежки?
– Не было. Я больше часу по городу колесил.
Рахуба вздохнул с облегчением.
– Время-то уходит! – напомнил Золотаренко.
– Не трясись, – со злобой проговорил Рахуба, – развалишься! Если Миронов убит, до тебя еще не скоро доберутся, мертвый не выдаст… – Он откинулся на груду мягкого тряпья, сложенного за спиной, с минуту молчал, раздумывая, – на лбу у него вздулась толстая вертикальная складка – и вдруг процедил сквозь зубы грязное ругательство: —…одно к другому, как нарочно…
Положение действительно было аховое. Через три дня за Рахубой должна была прийти шаланда из Румынии: задерживаться в Одессе он не мог. Но и уехать, не выполнив ни одного из имевшихся у него заданий, тоже было невозможно. Все было бы просто сделать с помощью Миронова, имевшего постоянную связь с центром. Теперь же приходилось искать другие пути. У Рахубы были еще явки, но для того, чтобы плутать по ним, необходимо время. На худой конец можно было бы послать Золотаренко, но Рахуба не хотел оставаться один: с больной ногой без помощника из Одессы не выберешься.
Все это он, не таясь, поведал Золотаренко. Вывод был таков: нужен еще один человек.
– Есть у тебя кто-нибудь подходящий на примете? – спросил Рахуба.
Золотаренко подумал и сказал, что такой человек имеется.
Осенью восемнадцатого года красные расстреляли мужа его родной сестры: он владел на Херсонщине пятью мельницами и сотрудничал с немцами, когда те хозяйничали на Украине. Сестра не надолго пережила его: в конце того же года она померла от тифа. Остался сын. Сейчас ему двадцать один – двадцать два года. Парень гайдамачил за Центральную раду, служил у Деникина, а затем долгое время состоял в повстанческом отряде известных на Херсонщине эсеров и националистов братьев Смагиных. Когда отряд ликвидировали, он с полгода скрывался у какой-то бабенки недалеко от Серогоз. Но и там спокойно не усидел: заварил какую-то кашу, убил комбедовца. Пришлось удирать. Парень раздобыл где-то бумаги демобилизованного красноармейца и подался к родному дядюшке. Вот уже третий месяц живет на птичьих правах в Одессе, на Ближних Мельницах. Его давно бы надо пристроить к «настоящему делу», да все как-то случая не было…
– Уверен ты в нем? – спросил Рахуба.
– Как в себе. Парень битый!
– А убеждения у него какие?
Золотаренко пожал плечами:
– Какие убеждения! Красных ненавидит – вот и все его убеждения. Да сами увидите. Завтра схожу за ним, приведу.
– Не завтра – сейчас! – твердо сказал Рахуба. – Сразу же и отправляйся. К утру чтобы был здесь!
– Далеко это… – уперся было Золотаренко.
Рахуба нетерпеливо сморщился:
– Разговаривать ни к чему! Минуты нельзя терять. Стой! Как его звать-то, племянника твоего?
– По новым документам – Алексей Николаевич Михайленко…
«Племянник» Золотаренко
Лампа стояла на стуле. Его высокая спинка отгораживала Рахубу от света, и, войдя в каморку, Алексей увидел только большую, закутанную в старое одеяло ногу, вытянутую на топчане. Из одеяла торчала белая пятка с твердыми расплющенными краями.
– Вот это он и есть, племяш мой, – сказал Золотаренко, входя следом за Алексеем и затворяя за собой дверь.
Сдвинув брови, «племяш» силился разглядеть Рахубу. Высокий, с прямыми костистыми плечами, он стоял, держа руки по швам, слегка разведя локти, и эту военную выправку, которую не мог скрыть даже чужой мешковатый пиджак, прежде всего отметил Рахуба. Видимо, служба у Деникина не прошла даром для племянника Золотаренко.
– Как звать? – спросил Рахуба.
– Михайленко Алексей, – четко, как и полагается докладывать начальству, отозвался парень.
– Я спрашиваю настоящее имя.
– Какое еще настоящее? … – «Племяш» нахмурился и взглянул на Золотаренко.
– Говори, говори, – подбодрил тот, – все говори, не сомневайся. В жмурки играть нечего!
– Ну, Василенко… Алексей Николаевич Василенко.
– Садись, Алексей Николаевич.
Рахуба, кряхтя, передвинул больную ногу к стене, освобождая место.
Алексей сел, сложил на коленях большие руки.
– Расскажи, что ты за человек? – предложил Рахуба.
– Человек я обыкновенный, – сказал Алексей простовато. – Демобилизованный красноармеец. По причине болезни отпущен вчистую.
– Что за болезнь?
– Желтуха Заболевание печени,
– И документ есть?
– Есть.
Рахуба помолчал, прищурился и спросил в упор:
– А если хозяин объявится?
– Какой хозяин?
– Не придуривайся! Хозяин документов.
Одно мгновение Алексей настороженно смотрел на Рахубу, потом отвел глаза и глухо выговорил:
– Не объявится! …
– Ясно! – Рахуба придвинулся к нему. – А как докажешь. что ты есть Василенко?
– Кому доказывать?
– Хотя бы мне.
Алексей поерзал на топчане и снова нерешительно оглянулся на Золотаренко.
– Доказать нетрудно, – медленно проговорил он. – Только больно много вы с меня спрашиваете, гражданин… не знаю даже, как вас величать. Если уж начистоту, так начистоту. Мне ведь тоже жить охота!
«И впрямь, битый! …» – подумал Рахуба.
Парень казался ему подходящим. Смущало только одно обстоятельство: племянник Золотаренко был птицей перелетной, а Рахуба предпочел бы сейчас иметь дело с человеком солидным, оседлым. Таких легче держать в руках.
Однако приходилось рисковать. К тому же рекомендация Золотаренко, который за эти дни показал себя абсолютно надежным человеком, тоже кое-чего стоила.
– Ну ладно, – сказал он, – коли так… Ты про «Союз освобождения России» слышал?
– Доводилось…
– Так я его полномочный эмиссар полковник Рахуба.
Наблюдая за «племянником» Золотаренко, Рахуба с удовлетворением отметил, что при слове «полковник» у того, будто сами собой, по-строевому раздвинулись плечи. «Военная косточка, деникинец! …»
Желая усилить впечатление и в то же время показать, что Алексей внушает ему доверие, Рахуба слегка отодвинул стул. Тень отскочила в угол. Свет упал на заросшее лицо эмиссара с сильной челюстью и широким, наползающим на глаза лбом.
– Теперь давай начистоту! – сказал он. – Мне нужен человек для серьезного поручения. Сам я, как видишь, из строя выбыл, угодил здесь в одну переделку…
Алексей наклонил голову: знаю.
– Он, – Рахуба указал на Золотаренко, – советует использовать тебя. Вот я и хочу знать, будешь ты работать для великого дела освобождения России или, как некоторые, уже продался большевикам?
– Насчет этого не извольте беспокоиться! Пускай, господин полковник…
– Называй по фамилии, без чинов.
– Виноват… Пускай дядя Валерьян скажет, можно мне доверять или нет.
Тон у Алексея был нетерпеливый, даже грубоватый, и это подействовало на Рахубу сильнее, чем если бы Алексей стал клясться и уверять его в преданности.
– Ладно, – кивнул Рахуба, – документы покажи.
Алексей порылся в кармане и протянул ему справку о демобилизации и бумагу, выданную тульским военным госпиталем. Затем, подпоров подкладку пиджака, он вытащил небольшой пакет, завернутый в кусок черного лоснящегося шелка.
– Это мои, настоящие…
Из пакета был извлечен аттестат зрелости выпускника 1‑й херсонской мужской гимназии Василенко Алексея и заверенная печатью справочка, в которой говорилось, что вольноопределяющемуся 1‑го симферопольского добровольческого полка Василенко «поручено заготовление продовольствия в деревнях Дубковского уезда».
Рахуба тщательно просмотрел документы.
– Бумаги правильные. На, спрячь… Нужно будет еще один документик составить. – Он обернулся к Золотаренко: – Принеси-ка, что нужно для письма.
Пока Золотаренко ходил за бумагой, пером и пузырьком с чернилами, Рахуба спросил:
– Ты украинец?
– По отцу, мать русская.
– Украинский язык знаешь хорошо?
– Как русский.
Вернулся Золотаренко. Рахуба сказал, улыбаясь одними губами:
– Проверим твою грамотность, господин бывший гимназист. Ну-ка, пиши! …
Алексей пристроил бумагу на стуле возле лампы.
– Я, Василенко Алексей Николаевич, – начал медленно диктовать Рахуба, – проживающий ныне… написал? … по документам убитого мною красноармейца…
Алексей бросил перо:
– Вы что?!
Рахуба уперся в него темными сверлящими глазами:
– А ты как думал, уважаемый? Ты, может, считаешь, что мы в бирюльки играем? Решил идти с нами, так не оглядывайся! И знай: если оправдаешь доверие, эта бумага после нашей победы сделает тебе карьеру. А нет… – Рахуба, помолчав, растянул губы в подобие улыбки. – Мы тебя искать не станем: чека найдет. Понял? … Ну что, будешь писать?
Несколько мгновений в каморке стояла тишина. Алексей напряженно думал, уставясь на белый тетрадный листок, и взял перо.
– Давайте! Все равно уж! … – и написал все, что ему продиктовал Рахуба:
