Дом преподавателей, или Бегство из рая. Часть 1
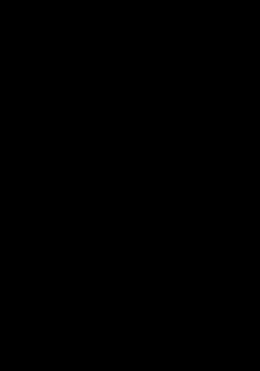
Посвящается моему брату
Дом преподавателей
Дом, в котором я родился, в 50–60-е годы был известен всей Москве. Громадный, с четырнадцатью подъездами, лоджиями, эркерами и башнями, в которых были двухэтажные квартиры.
Переезжать мои родители начали весной – 6 марта 54-го года, в воскресенье. Закончили 15 марта, хотя дом был еще достроен не полностью. А в конце мая мама родила меня в роддоме на Большой Калужской улице – тихо и спокойно, без крика, слез и стонов. В первые дни июня я был уже дома. Лето установилось жаркое, температура поднималась выше 30°.
По тем временам наш дом был шикарен. Дядя Петя Ухов – друг отца, поселившийся в соседнем подъезде, – бегал по новой квартире и в изумлении восклицал: «Смотрите-смотрите, как живут буржуи!»
Дом имел 1-й, а потом 14-й номер, сначала по Боровскому шоссе, а позднее – по Ломоносовскому проспекту. В просторечии он назывался «Домом преподавателей», поскольку большинство жильцов работали в Московском университете. Открытие огромного комплекса новых зданий МГУ на Ленинских горах состоялось 1 сентября 1953 года, так что наш дом чуть запоздал – самые первые жильцы стали въезжать в него в конце года.
Не только наш дом не был достроен, когда мы в него заселились, но и кругом была сплошная стройка – возводились дома на Ломоносовском и Ленинском проспектах. Поэтому жизнь в нашем районе поначалу была плохо организована. Моего старшего брата до конца 55-го года приходилось возить в детский сад через пол-Москвы – на Моховую. А открытия каждого нового магазина ждали с нетерпением, как праздника.
В 57-м году Кировско-Фрунзенскую линию метро продлили до «Спортивной», а в самом начале 59-го года был пущена станция «Университет». Открытие метро как по волшебству изменило всю жизнь нашего района. И прежде всего это коснулось тех, кто преподавал или работал на гуманитарных факультетах МГУ. Моего папы – в том числе. Вместо часа с лишним на автобусе по Ленинскому проспекту теперь до центра мы добирались за 15–20 минут. Отныне и навсегда мы перестали быть жителями глухой московской окраины.
Пространство нашей дворовой детской жизни было ограничено двумя домами по Ленинскому проспекту – 66-м и 68-м (где находился всем известный «Зоомагазин»), улицей Молодежной и следующим домом по Ломоносовскому – 18-м (с книжным магазином). Мимо 18-го дома пролегал путь на общую для всех близлежащих домов территорию – пустырь. Рядом с проспектом на пустыре находились отвалы от строительства Главного здания МГУ, куда мы ходили в походы (с бутербродами, приготовленными нашими мамами) и где занимались раскопками. Добывали мы там карбид, от которого шипели и бурлили все близлежащие лужи, и свинец, из которого можно было сделать много всяких полезных вещей. Ближе к Университетскому проспекту располагались карьеры, которые зимой превращались в настоящие горы, привлекавшие толпы лыжников. На месте добычи свинца теперь – Цирк на проспекте Вернадского, а на месте гор – Театр Наталии Сац.
Рядом с домом стояли две школы1. Здания школ были красного кирпича. Наша была 14-я, а в другой некоторое время находился таинственный институт, в котором работала мама моего друга. На полках в этом институте стояли большие банки, а в них в растворе плавали зародыши. Я увидел эти банки, когда мы с другом зашли к его маме, и с тех пор предпочитал обходить это здание стороной.
Зелени вокруг было немного. Остатки старых деревьев и новые посадки. Весь двор по периметру был засажен кустарником, который осенью покрывался белыми ягодами с большой косточкой. Эти косточки стали нашим подручным оружием и летали в многочисленных битвах по всему двору, поскольку были скользкие и довольно крупные. Весеннее цветение собирало огромные стаи майских жуков. Они носились друг за дружкой у кромок деревьев, освещенных уличными фонарями.
В округе попадалась и кое-какая живность. На территории Дворца пионеров на проспекте Вернадского были большие пруды, где любители аквариумных рыбок добывали циклопов, и там же водилось немало ужей. Один мелкий уж, пойманный в тех краях, жил довольно долго у меня между оконными рамами к вящему «восторгу» моей бабушки и мамы.
Сам дом имел довольно сложную форму – две арки с подъемами, внутренний двор с уступом под склад – и был идеальным местом для игр, прежде всего, – в казаков-разбойников. Весь асфальт вокруг дома в те годы был исписан меловыми стрелками-указателями. Велосипедов тогда было мало, но были самокаты, деревянные, самодельные, на подшипниках.
Девчонки в наших мужских играх участия не принимали, они в основном играли в классики или прыгали через скакалки. Гранитное основание дома прекрасно подходило для испытания маленьких бомб. Делалась конструкция из гаек, туда засыпалась сера из спичек, все это туго закручивалось, и бомба запускалась в гранитную стену. Играли в чижика, штандер, хоккей.
Но все-таки над всем царствовал футбол.
Футбол
Футбол приходил в наш двор вместе с весной. Для меня весна – это не расцветающие деревья, не листья и уж тем более – не березовый сок. В детстве весна приходила, когда еще лежали горы снега, который никто не вывозил, а дворники лишь сгребали его с проезжей части. Начинало ярко светить солнце, и по всем дворам текли ручьи, превращавшиеся затем в целые реки.
Все оставляли тающие горки, санки, лыжи и бросались делать кораблики. От арки нашего дома шел уклон к Ломоносовскому проспекту, и здесь устраивались главные соревнования. Чей кораблик проплывал дальше – тот и победитель. Кто не пускал кораблики – выжигал через увеличительное стекло. И во дворе стоял резкий запах паленого дерева. Именно так пахла весна.
Потом наступало время, когда на земле и асфальте появлялись большие сухие проплешины, а снег лежал только у стен дома, в глубокой тени. И тогда все игры становились неинтересны, все занятия – скучны. Приходило время футбола. И нам было уже все равно – май это, июнь или октябрь. Главное, что это была пора, когда можно было погонять мяч.
Что же такого было особенного в футболе нашего детства, что исчезло и не вернется уже никогда?
В футболе были звезды, известные всей стране. Собственно, они и были только в кино и футболе. Но если кино было миром сколь волшебным, столь и недоступным, то футбол был доступен всем. Площадка и хоть какой-нибудь мяч – больше ничего не надо.
Но это только на первый взгляд. Выйдя во двор и ударив по мячу, я становился участником спектакля, и между мной и всеми другими ребятами и звездами футбола протягивались невидимые нити. Можно было играть под Боброва, Стрельцова или Воронина. Я старался обводить, забивать, прыгать, вести мяч, как они, и точно так же вели себя остальные ребята. Мир нашего двора раздвигался, а обычный дворовый матч становился в ряд с взрослым футболом. Ведь никто не сумеет спеть песню или арию, как великий артист, для этого нужны годы обучения, а в дворовом футболе мы все были Пеле и Гарринчи. И действительно, талантливых ребят во дворах было множество.
Я давно забыл и голы, которые забивал, и сами матчи. Но ощущение восторга, полета и, главное, чувство победителя забыть невозможно.
Для меня главными кумирами были бразильцы. История семнадцатилетнего мальчишки, который почти случайно попал на чемпионат мира 58-го года и стал самым великим, захватывала воображение.
Я стал собирать вырезки из газет и журналов с фотографиями и описаниями матчей бразильцев. В 65-м году я обменял всю свою коллекцию марок на чилийский журнал «Estadio» с массой фотографий и большим отчетом об очередной победе «Сантоса» – команды, где играл Пеле. Помню, как первый раз раскрыл этот журнал, и у меня загорелись глаза – черный как смоль Пеле в белой форме бьет через себя – и эта фотография на весь разворот! Даже запах у этого журнала был особенный – наши газеты так не пахли.
А имена бразильцев, с их особенной музыкой – Вава, Диди, Джалма и Нилтон Сантосы, Загало! Двор был полон рассказов о «сухом листе» Диди, о силе удара Гарринчи, об убитой им обезьяне, которая стояла в воротах, о его знаменитых финтах.
В 66-м году проходил чемпионат мира по футболу в Англии. Это был первый чемпионат, который показывали по советскому телевидению. Я в то время гостил у своего двоюродного деда в Калининграде. Никогда не забуду позор и унижение своих любимых бразильцев. Матч Португалия–Бразилия – самый трагичный матч, который я видел в детстве. Пеле подхватывал мяч, португальский защитник бежал за ним и бил по ногам, догонял и бил снова, а свисток рефери молчал. Матч закончился победой португальцев со счетом 3:1. Бразильцы играли слабее, но я этого не видел, а только ужасался унижению величайшего игрока на планете. Рыданиям моим не было конца, и дед с бабушкой сбились с ног, пытаясь меня успокоить. Я прыгал по дивану и орал во весь голос.
И тут само собой родилась идея написать Пеле письмо. Я пришел в восторг. Точное содержание письма стерлось у меня из памяти (хотя писал я его сам, без помощи взрослых), но общий смысл был таков: не огорчайся из-за Португалии, выздоравливай, все советские дети болеют за тебя. В конце попросил прислать майку с десятым номером для всех советских детей. На конверте я вывел такой адрес: Эдсону Арантису ду Насименту (Пеле), Бразилия, Сан-Пауло. С замиранием сердца ждал я ответа. Недели через три мое письмо вернулось с международного почтамта в большом конверте. В нем была бумажка с напечатанным текстом: «Уважаемый товарищ… Просим указать точный адрес Эдсона Арантиса ду Насименту в Сан-Пауло». Моему разочарованию и обиде не было предела!
Но футбол не только любого мальца поднимал до уровня взрослого мира, он потрясающе показывал характер. Если парень был «гнилым», но пытался это спрятать, то в футболе спрятаться было невозможно. Пижон был пижоном, дурак – дураком, широкая душа – широкой душой. Я был «водилой», индивидуалистом, и заслуженно получил кличку «балерина». Хотя сейчас мне кажется, что это была не только моя черта как футболиста. В той или иной степени этим страдали все знакомые мне мальчишки. Дворовый футбол на маленьких площадках не был футболом команд. А скорее – соревнованием отдельных ребят – кто из нас лучше владеет мячом, кто сильнее, кто быстрее бегает и т. д. И в конечном итоге все мы думали, что талант футболиста измеряется количеством забитых голов и обведенных на пути к чужим воротам противников. И главная красота футбола в этом и состоит – в финтах, обводке, силе удара и забитых мячах. Очень поздно, в конце 70-х – начале 80-х годов, наблюдая за игрой спартаковского полузащитника Юрия Гаврилова, я впервые увидел иную красоту футбола. Оказалось, что главное в футболе – это как раз коллективная игра, умение видеть поле и отдать точный пас – вовремя и тому, кому нужно.
Но все же футбол, и дворовый в том числе, не может совсем обойтись без чувства локтя и справедливости. И эти свойства футбола вступали иногда в противоречие с новыми чертами, появляющимися у взрослеющих ребят. Одним из самых лучших игроков нашего двора (а футбол у нас был общий для двух домов – 14-го и 68-го) был Коля Муравьев по кличке Муссолини.
Но Коля связался с блатной компанией и стремительно стал превращаться в злобную шпану. И все же, когда он подходил к мячу, весь мутный налет слетал с него мгновенно. Однажды мы играли на поле между домами и заметили, что за нами внимательно следит незнакомый мужчина. После матча он подозвал нас к себе и протянул Коле бумажку с адресом: «Приходи сюда, большим человеком станешь». Когда он ушел, Муссолини швырнул бумажку на землю и смачно сплюнул. Он свой выбор уже сделал.
Некоторых из моих дворовых друзей я до сих пор изредка встречаю, о ком-то что-то знаю, кого-то вижу по телевизору, и каждый раз соотношу их с тем, как они играли, как вели себя на поле, как переносили поражение или победу, как относились к сопернику. И поражаюсь! Прошло сорок с лишним лет, а как будто ничего не изменилось. Они остались точь-в-точь такими, какими были на футбольном поле.
Характер «вылезал» и в футбольных предпочтениях. За какую команду ты болел, какие игроки тебе нравились. В принципе, по определенным нюансам поведения можно было, пообщавшись немного с малознакомым мальчишкой, определить, за какую команду он болеет. У нас во дворе царствовал «Спартак», хотя кое-кто болел за «Динамо» и «Торпедо». А вот армейских болельщиков я почти не помню.
Но не все играли в футбол. Были ребята, которые за всю жизнь ни разу не ударили по мячу. Но не потому, что они были больные, кривые и не могли в принципе по мячу попасть. Ведь особого приглашения не требовалось. Ты выходил в жаркий день, во дворе никого нет, а тебе охота постучать по мячу. И если ты боишься настоящей игры – подходи просто так, постучи вместе со мной, я буду только рад показать тебе приемчики и удары.
Мы все, играющие, знали, что неиграющие чем-то от нас отличаются. Никто, конечно, объяснить этого бы не смог, но чувствовали все. Может быть, мотивы у неиграющих были самые разные, но сейчас мне представляется, что дело было как раз в страхе или нежелании показать самих себя, обнажить свой характер. А ведь отношение ребят во дворе в значительной зависело от того, как ты вел себя на поле.
Правда, рядом с нами жили и другие мальчики, у которых место в жизни целиком определялось родителями. Которые точно знали, что, когда и как должен делать их ребенок. Конечно, такие ребята тоже находили всякие лазейки, но самостоятельно добиться места под дворовым солнцем они не могли или делали это уродливо, выбиваясь из общей канвы нашей жизни. И мне до сих пор жаль этих ребят, потому что они остались вне мира, в котором пинали мяч, болели, плакали от поражений, радовались победам и восхищались красотой голов. Причем этот мир был общим для детей и взрослых. И от наших дворовых площадок лежал прямой путь к большим стадионам.
Жители
Хоть дом наш и назывался Домом преподавателей, но социальный состав его был весьма неоднороден. В доме во всех подвалах были квартиры, и там жили дворники, полотеры и слесари, в основном работавшие при нашем домоуправлении. Общение с «подвалом» – первое мое жизненное переживание, связанное с социальным неравенством. Начиналось оно сразу при входе в подъезд. Я входил со своим приятелем, и пути наши разделялись – я шел наверх, к лифтам, а он – вниз, по крутой и довольно темной лестнице. И сам приятель сразу становился маленьким, жалковатым, хотя на самом деле был довольно упитанным мальчиком. Его отец был полотером, и я никогда в жизни больше не видел таких красивых полов, как в этой подвальной квартире. Они блестели, как настоящее зеркало.
Но и на этажах жили отнюдь не только преподаватели и сотрудники. Многие работники, обслуживающие огромное здание Университета на Ленинских горах, получили квартиры в нашем доме. Когда мы жили в первой, коммунальной, квартире, соседкой по этажу была тетенька из домоуправления, а такими же соседями в другой, отдельной, квартире была семья пожарного.
В доме было много известных семей (или тех, кто стал известен позднее) – Несмеяновы, Николаевы, Зенкевичи–Флинты, Засурские, Городецкие, Золотовы, Дынники.
Хотя большей частью дом заселялся молодыми семьями. Старых, заслуженных людей – академиков и профессоров – было не так уж много. В основном это было поколение моих родителей – рождения 20-х годов. Соответственно рангу и количеству членов семьи получались и квартиры. Поэтому ученые и преподаватели тоже жили в основном в коммунальных квартирах.
Назвать Дом преподавателей домом молодых ученых совершенно невозможно. В самом крайнем случае – домом будущих академиков. Классический стиль, высокие строгие двери, башни. Эта торжественность не предполагала молодости, она ее скрывала и запирала в себе. Торжественность создавала эпоха – первая половина 50-х годов и сталинский классицизм. Но к началу 60-х торжественность стала анахронизмом и превратилась в исторический тупик. Естественно, возникало сравнение с Главным зданием МГУ на Ленинских горах. Но МГУ при всех стилевых совпадениях слишком привязан к местности. Университет словно является ее продолжением, как маяк собирает и совмещает в себе берег и море. И в таком случае форма, архитектура становится вторичной. А у Дома преподавателей нет местности, он ничего не знает о своем окружении.
Между тем подвалы в доме постепенно расселяли, устраивая там технические помещения, и, странным образом, я с тех пор как будто забыл, что на свете есть такая вещь, как социальное неравенство. Вернее сказать, я не обращал внимания на то, что многие друзья из нашего дома или из соседних жили не так, как мы. Когда я приходил к ним, мне всегда было хорошо и уютно, даже в коммунальной квартире, где в одной маленькой комнате ютилась вся семья моего одноклассника. Его мама замечательно варила щи, я их очень любил, особо вкуснейшее жирное мясо на косточке. И собственным умом я так и не дошел до того, что условия, в которых жил я, могли казаться моим дворовым приятелям просто царскими. Я узнал об этом, вернее, услышал впервые от собственной мамы.
Отслужив армию, я зашел к бывшему соседу по этажу и был ошеломлен от неизвестно откуда взявшейся и внезапно выплеснувшейся на меня ненависти. Ничего не понимая, я пришел к маме за советом. «Он всю жизнь завидовал тебе и ненавидел», – сказала она. Ее ответ меня ужасно поразил. Зависть можно скрыть, но ненависть? А наши игры, хохот, смех, путешествия на лифте, который мы раскачивали, стоя друг у друга на голове и умирая от страха и восторга? Двенадцатый этаж, все-таки!
Но было и иное отношение. Однажды мы собрались небольшой компанией на могиле друга, погибшего в середине 70-х годов. Выпили, постояли. И вдруг один из нас, как раз тот, у которого мама готовила вкусные щи, сказал: «Ребята из 14-го дома! Спасибо за то, что вы есть, за то, что мы дружили, и наши дома стояли рядом! Вы перевернули мою жизнь! Не знаю, какой бы она стала, если бы вас не было, но вы открыли для меня другой мир. Вы говорили иначе, вы давали опыт и знания, которые я бы никогда не нашел в другом месте. Вы изменили мою жизнь, и сейчас, уже почти прожив ее, я хочу поблагодарить вас за это».
Мудрость взрослых
В доме 18 по Ломоносовскому проспекту, 68 и 70 по Ленинскому были основные магазины, в которые ходили все жители нашего дома. Восемнадцатый дом открывался магазином «Молоко», потом шел «Кондитерский», а последним, ближайшим к нам, были «Консервы» (позднее – «Овощи и фрукты»). В 68-м, рядом с аркой, был винный магазин, затем продмаг с мясным отделом, около следующей арки – «Булочная», а прямо за выступом дома – «Зоомагазин». Но самой лучшей булочной, без продавца, считалась та, что была через дорогу, в доме 70 по Ленинскому, рядом с кафе «Луна» и магазином «Сыр» (сначала просто – «Молоко»). В этом же доме был знаменитый на всю Москву магазин «Изотопы», а на крыше громоздилась видная издалека надпись – «Atome puor la paix. Атом для мира. Atoms for peace». Эта реклама атома внушала тревогу. А иностранные надписи только ее увеличивали. Слухи об этом месте ходили самые зловещие – про высокий уровень радиации (который кто-то случайно измерил) и в магазине, и вокруг него.
В нашем доме, за кругом, напротив кинотеатра «Прогресс», до семидесятых годов был продмаг с винным отделом. Именно в нем я совершал свои первые в жизни покупки, – еще до школы родители стали просить меня принести домой хлеб и молоко, а это был самый удобный магазин, поскольку не надо было переходить дорогу, а только завернуть за угол дома.
Мама объясняла мне, что я должен купить, что сказать кассиру и сколько получить сдачи. Пока я доходил до дверей магазина, цифры путались, и что-нибудь я обязательно забывал. Как-то, отправившись в магазин перед обеденным перерывом, я сделал одно открытие. У кассы столпилась довольно большая очередь мужчин, которые молча протягивали кассиру трехрублевую купюру, та, также не спрашивая ничего, выбивала чек, и в таком же молчании продавец отпускал мужчине товар. Я не присматривался к тому, что покупали эти мужчины, но сам способ произвел на меня неизгладимое впечатление. Я ведь не умел умножать и вычитать, а тут не только не надо было считать, но и говорить не надо было вообще ничего! Странно, но мне не пришло в голову, что дело может быть в товаре, который берут эти одинокие мужчины.
Я решил, что это такой особенный способ покупки, про который мне пока ничего не объяснили, и к этому просто надо внимательно приглядеться. Поэтому я не стал ничего спрашивать у родителей, а решился провести эксперимент. Я пришел специально перед обеденным перерывом, дождался, когда у кассы было не так много народу, и молча протянул деньги кассирше. Она с большим удивлением уставилась на меня, некоторое время подождала, а потом рявкнула: «Ну?! Ты что, немой?» Я стоял молча, сжав губы. По совести, я и не мог ничего произнести, потому что готовился к диалогу без слов, и все покупки вылетели у меня из головы. А сзади уже подпирали ввалившиеся в магазин новые покупатели.
Забрав деньги, я понуро побрел домой, а вечером рассказал родителям всю историю и поделился своими наблюдениями. Отец с матерью сначала недоуменно уставились друг на друга, а затем схватились за бока и стали хохотать.
Оказывается, мужики перед обеденным перерывом заходили в магазин и протягивали трешку, а кассирша, не задавая ни одного лишнего вопроса, пробивала бутылку «Московской» водки за 2 рубля 87 копеек, и в прибавку – плавленый сырок за 13 копеек.
Разговение
В детстве я постоянно гонялся за чем-нибудь вкусненьким. Как и все дворовые ребята. Нашлись 10 копеек – можно купить газировки за три и стаканчик фруктового мороженого за семь. А можно выпить молочного коктейля.
Лучше – мороженое и газировку. Или все-таки коктейль?
На праздники – 9 мая, дни рождения родителей – приходили гости. Накануне мы с отцом ездили по раз и навсегда заведенному маршруту – в центр, в магазин «Армения», и в «Диету» на теперешней площади Гагарина. В «Армении» покупали суджук и горный маринованный лук. В «Диете» – рыбу: осетрину, белугу и семгу. И уже без меня отец покупал копченую колбасу на площади Ногина.
Рыба меня мало интересовала, а вот без суджука и маринованного лука праздник был – не праздник.
Пасху в нашей семье отмечала только бабушка, папина мама. В среду шла на исповедь в храм в Хамовниках, а на саму Пасху уходила на всю ночь.
Что она делала в храме – мне было непонятно. Про исповедь я как-то спросил у мамы. Она ответила: «Что бабушка там делает? Жалуется на нас священнику!»
Все бабушкино имущество помещалось в крошечной тумбочке. И в последние дни перед Пасхой там появлялись крашеные яйца, кулич и пасха.
Еще в середине 50-х мой отец запретил бабушке при внуках произносить слово «церковь». И поэтому все связанное с Пасхой поселялось в нашем доме в маленькой бабушкиной тумбочке. Я твердо знал, что пробовать кулич можно только тогда, когда бабушка вернется утром воскресенья из церкви и принесет его уже освященным. Хотя смысл последнего слова оставался непонятным. А соблазн был велик! Комната была маленькой и от запаха ванилина текли слюнки.
Утром бабушка отдыхала пару часиков, потом стелила поверх тумбочки чистую вышитую салфетку и раскладывала угощение.
И мы с ней, чаще всего – вдвоем, разговлялись. Что означает это слово – я не знал. И не понимал, почему надо все эти вкусные вещи хранить столько дней в тумбочке. И хотя я открывал тумбочку и в пятницу, и в субботу, когда бабушки не было дома, но воровать себе не позволял. Хотя отщипнуть кусочек очень хотелось.
Любовь и пуговица
Моя мама была учительницей в школе, и в нашем доме постоянно толклись ее ученики. Все они были веселые и хорошие ребята, но мне особенно нравилась девушка по имени Женя. У нее было широкое скуластое лицо, чуть раскосый разрез черных блестящих глаз. Волосы у нее были тоже черные, а кожа очень белая. Держалась она уверенно и говорила обо всем со знанием дела, как обычно говорят взрослые. Она была старше меня на девять лет, мне же было шесть, и я подсчитал, что ей не так уж долго придется меня ждать после окончания школы. Лет восемь, а потом у нас могут начаться серьезные отношения. Я рос довольно хорошеньким мальчиком, но, честно говоря, так и не знаю, замечала ли она мои воздыхания.
И вот как-то зимним вечером Женя пришла к нам в гости. Ее вид в прихожей поразил меня в самое сердце. На ней была новенькая шубка, подаренная ее мамой. Женя в первый раз надела ее и прибежала к нам похвастаться.
Здесь необходимо кое-что объяснить, чтобы стал понятен ход дальнейших событий. В те времена в дождливые дни, а особенно зимой, главной дворовой игрой был пуговичный футбол. Это был настольный футбол, только в качестве «игроков» выступали обычные пуговицы. Для игры необходима была большая ровная поверхность, два участника и набор пуговиц у каждого. Четыре пуговицы обозначали ворота (либо на ластики клался карандаш), в них стоял «вратарь», а количество «игроков» на поле зависело, в том числе, и от размеров стола. Обычно, пять-шесть с каждой стороны. «Мячом» была пуговица от брючной ширинки. Гоняли «футболистов» большой пуговицей, которую играющий держал в руке.
Увлечение носило повальный характер. И скоро на смену локальным схваткам между соседями пришли настоящие дворовые пуговичные чемпионаты. На больших ватманах чертились таблицы, в которые вписывались даты матчей, результаты и названия команд.
А в 14-м доме была открыта охота на пуговицы. Были выметены подчистую все сундуки и коробки, но этого катастрофически не хватало. Особым шиком считалось достать «игрока», срезанного с чьего-нибудь пальто. Это было не столь просто, ведь пуговицы нужны были большие – маленькие просто не могли забивать голы, а такие пуговицы носились на пальто, плащах или шубах. Срезать пуговицы с бортов пальто было опасно, поскольку это сразу бросалось в глаза, а вот срезать одну, даже две пуговицы с рукавов можно было почти незаметно. Немало гостей, посещавших в те времена Дом преподавателей, с удивлением обнаруживали по дороге домой, что где-то потеряли пуговицы!
Я до сих пор помню одного «игрока», который играл в моей команде. Были пуговицы с косыми краями, они отлично бегали по полю, а эта пуговица была большая, черная, плоская, с чуть поднятыми краями и небольшой выпуклостью посередине. Мне попадались похожие пуговицы, но эта обладала особым талантом забивать, причем она великолепно умела поднимать «мяч», который залетал в самую «девятку». Или в то место, где она должна быть.
И когда в нашем доме появилась Женечка в новой шубке, я с порога понял, что пропал. Пуговицы были великолепны! Конечно, с ходу определить хорошего «игрока» было сложно, потому что некоторые пуговицы имели почти невидимые изъяны или плохо скользили по полю, но внешние данные были, как у самых лучших «футболистов».
Женечка с мамой ушли в большую комнату, а я заперся в маленькой. Я понимал, что на рукавах шубки пуговиц нет и придется резать по самому видному месту. И решил еще раз осмотреть пуговицы более внимательно, захватив на всякий случай ножницы. Затем прокрался на цыпочках в переднюю и потрогал шубу. Она была прохладная и блестящая.
Я не услышал, как подошли мама и собравшаяся уходить Женя. Я оглох, потрясенный размерами и красотой срезанной пуговицы, которую подбрасывал на руке со словами: «Закэн игрок!»
Что уж говорить про то, что Женя меня не дождалась. А я не понял тогда, что сделал что-то противное любви к ней. Но чувство мое стало увядать, хотя пуговица еще долго являлась мне во сне.
Случайная встреча
Мне было лет шесть, и мы ехали на метро вдвоем с отцом. Вагон был полупустой. Напротив нас сидела крупная, высокая блондинка. И вдруг я почувствовал на себе ее пристальный взгляд. Лица я не запомнил, но она была красива, и, самое главное, у нее были совершенно потрясающие ноги. Я в то время плохо разбирался в женских ногах, но ее ноги почему-то сразу сумел оценить. На ней была короткая юбка, и ноги она, чуть-чуть скрестив, поджала под себя. И вот она смотрит на меня и начинает улыбаться. Едва-едва, так что другим особенно незаметно. И я непонятным образом начинаю понимать, что самое главное – это ее ноги. Именно на них она призывает меня смотреть. Я начинаю вертеться, усаживаться, хвататься за отцовскую руку, но только поднимаю голову – упираюсь в ее смеющиеся глаза.
Я было подумал – не сказать ли об этом отцу, но мне почему-то показалось, что в такой жалобе будет что-то постыдное. Вскоре я ощутил, что не могу больше ей сопротивляться. Она хочет, чтобы я так же, не отрываясь, начал смотреть на ее ноги. И вместе с тем делать этого ни в коем случае нельзя, я был в этом абсолютно уверен.
Я весь промок от ужаса, но тут объявили нашу остановку, и я бросился вон из вагона. Отец ничего не заметил. И вот сколько за жизнь с тех пор я повидал женских ног, но стоит мне увидеть скрещенные и поджатые под себя в сочетании с короткой юбкой – я сразу вспоминаю ту блондинку и ее смеющиеся глаза.
Дом
Дом наш стал обваливаться почти сразу после того, как его построили. Начал падать облицовочный кирпич, причем падал столь густо, что дом потерял единый окрас и словно покрылся пятнами. Тогда под окнами второго этажа построили железные сетки, и кирпич в изобилии уже стал сыпаться на них. На сетки также удобно было выбрасывать мусор, поэтому вскоре на них образовался густой кирпично-мусорный слой. Зато коты, жившие на втором этаже, были счастливы. Не знаю, упал ли хоть один кирпич кому-нибудь на голову, но сетки спасали прежде всего детей, которые ходили вокруг дома исключительно под окнами.
Вообще, несмотря на облик, внешний шик, гранитное основание, прохладные подъезды с двумя лифтами, дом был странный, в нем порядок наблюдался со второго по десятые этажи. Выше лифт не шел, и этот невидимый барьер между охваченными и не охваченными лифтом этажами ощущался сразу. Там, наверху, было словно другое пространство: лифт грозно висел над шахтой, отсюда начинался путь на крышу и чердак, а на площадках ходили особенные люди. Эта особая присущая дому стихия обитала не только на последних этажах. Некоторые квартиры в доме как будто втискивали в стены, и поэтому они приобретали дикую планировку. Однокомнатные квартиры, в которых можно было бегать друг за другом по кругу: коридор – дверь в комнату – комната – другая дверь в коридор – коридор – первая дверь в комнату. Окна в ванных комнатах, кухни, в которых места хватало только на мусоропровод и крохотную плиту.
Эта стихия разливалась по всему дому, но имела свои точки «выхода». В некоторых квартирах был проход на черную лестницу, как бы второй подъезд. В него вела дверь, крашеная белой краской. Обычно ее стыдливо занавешивали разноцветными тряпочками, но от этого она становилась еще таинственнее. Ключ от двери хранился у родителей. Если ты попадал на эту черную лестницу, то испытывал разочарование – жильцы складывали там ящики с картошкой, какую-то ненужную мебель и прочие малоинтересные вещи. Домоуправление периодически скандалило и заставляло жильцов прибираться. Нас в принципе туда не пускали, хотя спереть ключ и побродить по этажам, послушать у дверей, чем занимаются соседи, было занятием довольно интересным. Но когда ты оставался дома один, сидел в коридоре, куда выходила черная лестница, то невольно начинал прислушивался к тому, что происходит за закрытой дверью. Не раз и не два я слышал там осторожные шаги. Совсем бесшумно по черной лестнице пройти было невозможно, на ней всегда что-то валялось под ногами, и поэтому раздавались скрип и шуршание. Человек за дверью доходил до нашего этажа и замирал. Замирал и я с другой стороны, обливаясь потом от страха. Ведь когда мы попадали на черную лестницу, мы никогда не ходили поодиночке, а всегда компанией, и соседи это, конечно, слышали и разгоняли нас по домам. А здесь кто-то шел один, и шаги у него были тяжелые, недетские.
На рубеже 1963–1964 годов страх перед черной лестницей приобрел особые черты. Как-то вечером к нам пришла соседка, работавшая в домоуправлении, и о чем-то долго шепталась с моими родителями на кухне. В тот день слово «Мосгаз» навсегда потеряло свою обычность, став таинственным и пугающим. Я не помню в точности, что мне сказали родители после ухода соседки, но смысл был таков – не открывай двери никому в наше отсутствие, по Москве ходит человек, представляется работником Мосгаза, грабит квартиры и убивает маленьких детей.
Самое интересное, что трое семей в нашем доме опознали потом Ионесяна и клялись, что тот побывал в их квартирах.
Моя мама рассказывала такую историю. Она была одна дома – мыла пол в большой комнате, раздался звонок, и она бездумно впустила человека, сказавшего через дверь ровно эти самые слова: «Мосгаз!» Вошел хорошо одетый мужчина, на что мама сразу обратила внимание. Она шла впереди, и ей стало неудобно за мокрые полы, она автоматически прикрыла дверь в комнату и сказала: «Извините, муж отдыхает». Мужчина покопался на кухне ровно минуту и протянул маме для подписи не бланк, а абсолютно чистый листок бумаги. И ушел. Мама всегда считала, что ее стеснительность спасла ей жизнь. Кто знает? Наш дом был известен, жильцы казались богатыми, и, может быть, действительно Ионесян заходил сюда на удачу.
Конечно, с годами наш дом терял загадочность. Но вот совсем недавно мой приятель, живущий там до сих пор, затеял капитальный ремонт и сделал дыру в одной из стен. В этой стене обнаружился колодец, уходящий вверх и вниз. Теория родилась почти сразу. Работники КГБ опускали в эти колодцы сверхчувствительные микрофоны и прослушивали все, что говорили жильцы.
Про КГБ я в детстве мало думал, но высота дома меня пугала чрезвычайно. В 14-м подъезде мы жили на шестом этаже, и там была лоджия, смотревшая на нашу школу, и балкон на кухне. Этот балкон имел низкий даже для меня бортик и тонкие прутики вместо решетки. Он как бы висел над двором. Когда ты выходил на этот балкон, ощущение было такое, что вот-вот упадешь и полетишь вниз.
И все же поверить, что у нас на крыше могли гнездиться работники КГБ, я вполне мог. Крыша была средоточием страха. Не так часто я на ней бывал маленьким мальчиком, но все визиты помню достаточно ясно. Мало того, что под ней жили странные, безлифтовые люди, но сама крыша поражала своими размерами и пустотой. Трубы, кирпичные и железные будки, выступы, перегораживающие крышу, казались элементами огромного и чуждого механизма. И никакие виды с высоты не могли заслонить эту внезапно открывавшуюся пугающую сопричастность к изнанке дома, в котором я живу, уютного и освоенного только в одной своей части. Несмотря на нашу дворовую вольницу, маленьким детям категорически запрещали подниматься на крышу. Я с легкостью в детстве отмахивался от любых запретов. Но в этом случае вел себя, как послушный мальчик.
Люди в нашем доме начали падать с балконов и из окон сразу, как только он был построен. Были самоубийцы, но большая часть падала случайно. Если посмотреть на дом со стороны Ломоносовского проспекта, от бывшего кинотеатра «Прогресс», то вы увидите ровную стену крепости, или замка. Но внутри эта крепость не имела защиты. Устремляющаяся ввысь стена превращалась для жильцов в пропасть. На вершине этой пропасти возвышались башни. Каждая из квартир имела свою высоту и свой оконный выход вон из домашнего уюта наружу.
Для того чтобы попасть домой, надо было проехаться на лифте, который я ненавидел. Лифт был трясущийся, мелко дрожащий, упрямо едущий, но как будто желающий замереть или полететь вниз. Во дворе периодически рассказывали об очередном лифте, упавшем в недалеко стоявшем от нас Главном здании МГУ. Не знаю, правдив ли был хоть один рассказ, но подробности были душераздирающие. Девушка с парнем спешили на лифт, но ей не хватило места. Парень стал подниматься, лифт упал к ногам девушки, и в нем парень – всмятку.
Лифт был барьером, преградой, которую я должен был преодолеть для того, чтобы попасть к себе домой. Он принадлежал и моему, и чужому миру. Лифт сам был частью порядка, автоматом, который подчинялся моему желанию попасть на нужный этаж, но это было кажущееся подчинение, потому что ходил он в пустоте, там, где скрывались все страшные, беспорядочные стихии нашего дома.
Уют
Квартира, в которой я рос, была очень неуютной. Кабинет отца (площадью 12 м²) был забит книжными шкафами, в углу у двери стояла никелированная кровать и старозаветная тумбочка. В этом углу жила мать отца – Александра Ивановна. В тумбочке хранилось все ее имущество: замасленное Евангелие, маленькая бумажная икона, несколько фотографий, документы в старой сумочке, железная кружка, из которой она пила чай, блюдце, сахарница с кусковым сахаром и щипчиками и всякие бытовые мелочи. Вместо люстры висел абажур с синенькими цветочками, на окнах – белые шторы с синей вышивкой, а стены были оклеены желтыми обоями. На улицу выходила лоджия, проход к которой загораживал двухтумбовый рабочий письменный стол отца, купленный к переезду. Лоджия была пустая, с полочками по бокам и с удобным креслом, сидя в котором я сначала перелистал, а потом прочитал большую часть книг из нашей детской библиотеки. Под окнами была школа, до восьми лет – как вызов, как неведомое и обязательное будущее, а после восьми – как символ навязанной жизни, с которой поделать ничего нельзя, и вся надежда только на субботний день, когда влияние этого символа ослаблялось ровно на сутки.
До получения квартиры мои родители десять лет прожили в общежитии и поэтому обстановкой не обзавелись. Большая комната (23 м²) с эркером, помимо книжных шкафов, была заставлена бестолковой мебелью, а слева от двери стоял круглый обеденный стол. На окнах висели гипюровые креповые шторы, на полу лежал разрезанный пополам большой ковер, а посередине комнаты висел оранжевый абажур.
Я спал на темно-зеленом диване в большой комнате. Через комнату – родители, и рядом – брат на раскладушке. Просыпался раньше всех. Вставать мне не разрешали, чтобы никого не будить. И я начинал рассматривать рисунки на обоях. Чудесным образом эти рисунки начинали преображаться и превращаться в картинки, фигурки, в целые сценки. То чертик с рожками, то чье-то копыто, а вот – чудо-юдо, а вот – огромная рыба, а вот – смешной человечек. Я вставал на колени на диване и начинал водить по воображаемым картинкам пальцем. Очень хотелось обвести их карандашом. До сих пор вспоминаю те обои и картинки: страшную морду – то ли черта, то ли кабана, на которую я старался поменьше смотреть, и дельфина, который проплывал прямо над спинкой дивана и успокаивал меня во время болезни.
Чтобы выскользнуть во двор – нужно нажать кнопку английского замка, ее я отодвину, но сам замок – очень тугой2. Можно, конечно, попытаться открыть замок, но будет грохот – придется тащить стул из комнаты. Нет, родители будут ругаться. И я опять отправлялся в путешествие по обоям.
Первой вставала мама, потом – брат, а я уносился во двор до завтрака.
Уже в школе, если я учился во вторую смену, мама будила меня перед уходом. Всегда одним и тем же утренним приветствием: «Вставайте, граф! Рассвет уже полощется!»
И я, если просыпался в хорошем настроении, отвечал:
И граф встает. Ладонью бьет будильник,
Берет гантели, смотрит на дома
И безнадежно лезет в холодильник,
А там зима, пустынная зима3.
Мама, уже в дверях, вкратце разъясняла, что я смогу найти в холодильнике. И далее иронически прокомментировав гантели, уходила.
Надо сказать, что граф имел и иное измерение, превратившись чуть ли не в главную детскую тайну. Рассказ моей второй бабушки о своем деде, царском генерале, показался мне недостаточно полновесным. И один точно известный генерал обернулся в тринадцать поколений генералов! Я не слишком хорошо знал, что такое поколения, но звучало очень красиво. Только избранные во дворе были допущены к этой тайне, и один из них, мой сосед Чан, в ответ признался, что он из рода армянских князей. Я подумал и решил, что мои генералы, как минимум, должны были заслужить графский титул. Так я стал графом и потомком череды царских генералов. В присутствии других ребят мы с соседом заговорщицки переглядывались и тихо произносили наш пароль: князь… – граф…
Если мое и Чана аристократическое происхождение было чистой выдумкой, то с нашим третьим другом – Анваром все было совсем не так просто. После появления заметки в газете «Неделя» мы узнали, что он – настоящий потомок хивинских ханов. Репортаж был посвящен его маме – хивинской принцессе. В те годы я страдал от сильнейших головных болей. Когда было уж совсем невмоготу, я приходил к Анвару. Его мама усаживала меня в кресло и начинала массировать виски. Боль уходила через несколько минут. После появления статьи я понял, что сказочные истории про нежность принцесс и «горошину» – никакая не выдумка. Не массаж, а невероятно нежные пальцы мамы Анвара как по волшебству излечивали мою головную боль.
При всяком удобном случае я сбегал из большой комнаты в кабинет – или в бабушкину постель, или на раскладушку. Здесь было спокойнее и лучше спалось. Но однажды ночью моя эмиграция кончилась раз и навсегда. После довольно длительного перерыва я решил переночевать в кабинете. Спал я на раскладушке, разложенной посреди комнаты, и вдруг проснулся с ощущением тревоги и страха. Я приподнялся на локте, оглянулся и не поверил своим глазам. Верх моей подушки был покрыт темной массой. При свете, падавшем от балконной двери, я увидел, что эта масса шевелится. Моя подушка и вся постель были полны клопов. Их были сотни.
Испугался я не сразу, а потом, через несколько часов, но эта картинка врезалась в память на всю жизнь. Мы долго гадали, почему бабушка не чувствовала клопов. Не знаю, она была уже довольно старенькая.
Когда мастер делал на заказ книжные шкафы для кабинета, он прибил их намертво к стенке. И вот под этими шкафами расселились в неисчислимом количестве клопы. Шкафы пришлось отдирать от стен с мясом, а в доме на многие годы поселился запах карандаша от клопов, которым промазывали задние стенки мебели, ковры, кровати и плинтусы. Правда, это не очень помогало. Мама часто жаловалась: «Сколько лет живу с Андреевыми, столько мучаюсь с клопами!»
Кроме клопов, в доме водились мыши. В основном, они обитали на кухне, где был мусоропровод. Из-за мышей у меня один раз произошел тяжелый конфликт с бабушкой, с которой вообще были непростые отношения. Я сидел в комнате, когда услышал шум из кухни. Я выскочил в коридор и остолбенел. Моя бабушка, сухонькая и маленькая женщина, подняв над головой здоровенную книгу, носилась по кухне. Она была столь увлечена, что не заметила меня, внезапно запустила книгу куда-то под стол, издав при этом торжествующий крик. Затем опустилась на корточки рядом с поверженной мышью. Но повержена была не только мышь, немедленно брошенная в мусоропровод. За завтраком я листал том по истории из обожаемой мной «Детской энциклопедии» желтого цвета. Видимо, я оставил его на кухне. И именно этот том превратился в орудие убийства, при этом сам немало пострадав, поскольку у него покоробилась обложка.
Третью комнату нашей квартиры, примыкающую к кухне, занимали соседи. Сначала там жил доцент Неустроев с 70-летней мамой, а потом поселились другие соседи, у которых была та же фамилия, что и у маминого отца – Волковы. Они были тихие, отец с дочерью, жили в основном на даче, а в субботу или в воскресенье днем приезжали мыться в ванной. После их отъезда отец наливал полную ванну воды и бросал туда хлорку. Ванна сначала долго мокла, и только ближе к вечеру мы по очереди отправлялись купаться. А запах хлорки повисал в воздухе на несколько часов.
На кухне стояли светло-желтые шкафы, наш и соседский, газовая плита и при ней столик.
Между кабинетом и большой комнатой был довольно большой холл, где мы с братом играли в хоккей (клюшками и теннисным мячиком) и в футбол.
Я очень хорошо помню с самого раннего детства, что у дома не было своего запаха. Запах был в квартирах – пахло едой, собаками, самими людьми, но в подъезде этот запах куда-то исчезал, и там царствовала неприятная стерильность. Лишь от лифта пахло смазкой и тоже хлоркой, с которой уборщица мыла подъезд. Правда, и от квартир пахло не всегда приятно, от некоторых шел явственный враждебный запах, а иногда запах был тяжелый, больной.
Моя вторая бабушка, мамина мама, жила в Ярославле, и я довольно часто у нее гостил. В ее доме, в подъезде, было два главных запаха. Там пахло кошками и водой. Это особый запах воды в провинции, запах железа. От этой воды образовывались оранжево-желтые полосы в туалете и ванной. А вот в комнате у бабушки пахло хорошо – книгами, пылью, чем-то съестным и свежезаваренным чаем.
Но самый вкусный запах моего детства – запах барака. Моя тетка по отцу, его старшая сестра, жила в бараке, который располагался где-то в районе современной гостиницы «Космос» на ВДНХ, может быть, прямо на этом самом месте. 7 ноября мы приезжали всем семейством к тетке в гости. По улицам были развешены кумачовые транспаранты, и в осеннем, часто уже подмороженном, воздухе, разливалась особая строгость и чистота. В эти минуты город, забывая о себе, становился красивее и служил иной идее, более высокой, чем он сам.
Барак, где жила тетка, был деревянный, двухэтажный, и в нем проживало полно народу. Уже на улице, за добрый десяток метров до барака, нас начинала овевать целая смесь запахов со все подавляющим запахом пирогов с капустой, мясом, яйцами, луком, рисом, вареньем! Весь барак пек пироги. Когда же мы переступали порог дома, примешивались более тонкие запахи – теста, чеснока для холодца и уже собственно самого дома, вымытых деревянных полов. Мы входили в комнату, и тетка наливала детям чайный гриб из большой банки, стоявшей под марлей на окне с короткими занавесками. А потом, получив по порции пирога, мы начинали носиться по всем лестницам с соседскими мальчишками, перебегая из комнаты в комнату и прося добавки. А взрослые рассаживались за столы и поднимали первые тосты.
Вещи
Мне одиннадцать лет. Я влетаю в комнату в носках и узких брючках. Гремит «Черный кот». Танцуя, я двигаюсь к окну, где сидит друг отца – дядя Витя. Он впервые в жизни видит твист и открывает рот, глядя, как я верчусь. Потом начинает хохотать во всю глотку.
На нем – нейлоновая белая рубашка с жестким воротничком, который не надо гладить.
Танцуя, я все время, как завороженный, поглядываю на этот потрясающе красивый воротничок.
Отец с матерью всегда считали, что, если бы не революция 1917 года, они никогда не смогли бы пожениться. Социальный барьер между ними, конечно, был, но ничего непреодолимого между ними не существовало. Моя мама по папе из семьи священников, а по маме – из захудалого польско-немецкого дворянского рода. Отец по папе из безземельных крестьян, а по маме – из мещан Смоленской губернии. Так что если и были противоречия, то только на уровне отношения моей бабушки, маминой мамы, к мало отесанному жениху. В остальном они были равны – две, если не нищие, то с трудом выживавшие в годы войны семьи.
Никаких материальных свидетельств прошлой жизни семья моей матери не сохранила. Последние драгоценности были отнесены на киевский рынок в 19-м году. Милых сердцу мелочей, напоминающих о прошлом, тоже не осталось. Это было и невозможно. После отъезда из Киева в 21-м году моя бабушка исколесила полстраны и только в самом конце 30-х годов осела в Ярославле. География и скорость, с которой она меняла места жительства и работу, были просто удивительны. С 26-го года она возила с собой мою маму (родившуюся в Ленкорани, в Азербайджане), правда, иногда оставляя ее у случайно подвернувшихся под руку людей.
Быт их был до чрезвычайности неустроен – они жили и в общежитиях, и в съемных квартирах, и такого понятия, как свой дом, для них просто не существовало. Поэтому из вещей была только одежда, и все вместе умещалось в два чемодана. Практически до самой смерти, получив постоянное жилье в Ярославле, бабушка продолжала путешествовать и уж три летних месяца обязательно проводила вне города. И остались после ее смерти, помимо книг, ровно эти два чемодана, только не с вещами, а с письмами.
У родителей моего отца был дом в Смоленске на Реввоенсоветской улице, не так далеко от Днепра. Мой дед был телеграфным служащим еще с дореволюционных времен, зарабатывал неплохо, и дом не был нищим. Этот дом сгорел со всем имуществом, когда немцы оккупировали Смоленск в 1941 году. Из оставленных вещей отец вспоминал только книги, особенно часто – собрание сочинений Ницше в роскошном кожаном переплете.
Когда судьба свела моих родителей в Ярославском пединституте во время войны, за плечами у каждого было по котомке. У моей матери вообще никогда не было своего дома, она росла среди чужих людей в общих коридорах. Лишь перед самой войной, в старших классах, в их жизни с бабушкой появилась относительная стабильность.
Поженившись, уже в Москве, отец с матерью стали жить в общежитии на Стромынке и только в 54-м году, перед самым моим рождением, получили две комнаты в трехкомнатной квартире в Доме преподавателей. В 40-е годы, правда, их приютила на довольно длительное время ближайшая подруга бабушки Рая Лерт.
Так что и я рос среди разношерстной мебели и случайных вещей.
У мамы была только одна вещь, которую она любила. В 60-м году отец и бабушка подарили ей вскладчину маленькие золотые часики с золотым браслетиком. По-настоящему отношение мамы к этим часам я понял в середине 70-х, когда она их потеряла. История была такова. Мама ехала домой после уроков на 34-м троллейбусе, когда рядом стоящий мужчина неожиданно сильно прихватил ее за руку. Только через некоторое время, по приходе домой, она обнаружила, что часики пропали, а на их месте красуется свежий синяк. Вор, вероятно, прижал ей руку, она отвлеклась, и он стянул часы. Единственный раз я видел, чтобы мама была так расстроена из-за какой-то вещи. Прошло года три, мама начала серьезно болеть и подолгу лежать в больницах. И вот, собирая книги для больничного чтения, она захотела перечитать старый роман, опубликованный в «Новом мире». Все журналы лежали в шкафах под книжными полками. Она покопалась, достала журнал, раскрыла его – и ахнула! Посреди журнала, в когда-то читанном романе, лежали ее часики в качестве закладки! Смеху и восторгам не было предела. И самое удивительное, что вся история с кражей часиков, которую она восстановила почти по минутам, оказалась выдумкой! То есть синяк-то, конечно, был, и мужик был, но вот часиков у нее в тот момент на руке просто не было. Пропали окончательно эти часики уже после маминой смерти.
Мой отец к вещам был равнодушен, хотя мог чем-то восхититься, но и тут же забыть. Он по-настоящему любил только свое рабочее кресло, стол и пишущую машинку «Эрика». В 47-м году бабушкин брат подарил ему роскошный трофейный немецкий дамский пистолет. На обратном пути из Калининграда отец выбросил его в окно поезда. Туда же отправился и штык-нож к прикладу. Я все детство не мог этого понять. Как можно было вышвырнуть в окно такую красивую вещь! Хотя где бы он ее в общежитии хранил?
Самые дорогие вещи моего детства тоже не сохранились. Больше всего я любил открытку с изображением носовой части броненосца «Потемкин» и парадную фотографию двоюродного деда, старшего брата бабушки. Открытка была самая обычная, но я бесчисленное количество раз обводил корабль карандашом и потом разрисовывал на бумаге. В результате она стала портиться – рваться и мохнатиться. Тогда мама сказала, что переводить надо с наиболее удачного рисунка, а открытку отложить, чтобы сохранить. В конце концов она просто затерялась среди детских книжек.
Фотография была большая, дед сидел в парадной форме, с шашкой, сразу по окончании Киевского военного училища в декабре 1914 года и получения звания прапорщика. Все дворовые мальчишки, хоть на секунду попадавшие в поле моего зрения, должны были отправиться ко мне домой, чтобы посмотреть на эту фотографию. И кто-то из них незаметно от меня ее унес. Несколько лет я искал эту несчастную фотографию. Раньше я часто закладывал ее в большие книги по искусству и в альбомы, где каждая иллюстрация лежала отдельно, – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей. И вдруг ночью мне представлялось, что она точно в Русском музее. Раз за разом пересматривал я все альбомы. Но фотография пропала навсегда.
Я любил также все связанное с танками. Вырезал изображения из журналов, перерисовывал. Один мамин ученик подарил мне серьезную книжку про устройство танков, и я прочитал ее от корки до корки и не раз, не понимая практически ничего. Однажды дед моего друга Саньки привез ему из Парижа в подарок игрушечный танк. Ничего более потрясающего я не видел за все свое детство. Танк был большой, тяжелый, ездил, светил фарами, двигал гусеницами и даже оставлял настоящие полосы на паркете. Через день или два Санька с невероятной легкостью подарил мне этот танк. Я еле донес его до своего дома, дрожа от счастья, вожделения и предчувствуя восторги своих родных. Но через пару часов позвонила Санькина мама, строго поговорила с моей, и танк отправился восвояси.
В отличие от отца я мог по уши влюбляться в вещи и совершенно терять голову. Лет в девять меня покорил револьвер «Бульдог» (им пользовались революционеры в 1905 году), который был выставлен в экспозиции краеведческого музея в Ярославле. Все зимние каникулы я провел в залах музея, разрабатывая план, как мне получше подковырнуть витрину, отвлечь служительницу и спереть «Бульдог».
С годами я стал замечать, что вещи, в которые я влюблялся, которые мне снились, и я трепетал от одной мысли, что буду к ним прикасаться, постигает одинаковая судьба. Когда я становился их владельцем, я вдруг терял к ним интерес, и они отправлялись куда-нибудь в дальний ящик, а затем и вовсе пропадали. Сейчас я даже не могу вспомнить, когда в последний раз хотел чем-нибудь обладать. У меня была очень неплохая коллекция марок, я собирал английские колонии, но в результате она осталась у школьного приятеля.
Из родительских вещей сохранился только один маленький деревянный столик, «купеческий», купленный по случаю в 40-е годы и залитый потом синими чернилами так, что пришлось отдирать инкрустацию. На нем теперь громоздится ксерокс с принтером.
Наберется у меня, пожалуй, только один чемодан. В нем поместится все самое дорогое – пара редких книг, фотографии, кое-какие рукописи и документы. И в качестве добавки – два чемодана бабушкиных писем.
Война домов
Своим двором я считал полоску асфальта перед 14-м подъездом, площадку перед школой, затем – круг, находящийся между двумя каре дома, смотрящими на Ломоносовский проспект, и заднюю часть двора, перед школьным стадионом. Условно нашей была часть дома, которая глядела в сторону современного цирка. Нейтральные полосы отделяли нас от 68-го дома с одной стороны и с другой – от 18-го. До середины 60-х годов мы четко знали, что принадлежим 14-му дому, и что наши враги – 68-й и 18-й.
Наш дом был самым большим, но и самым слабым. В 18-й дом заселялись расконвоированные зэки, которые строили здание Университета на Ленинских горах. Главным образом это были бригадиры, которые обрастали потом большими семьями. В двух комнатах могло жить по двадцать человек. Дети бывших зэков через некоторое время держали в страхе весь район.
Если наш дом заселялся не только интеллигенцией, то и в 68-м и 18-м жили не только рабочие. В 68-м – инженеры и партработники. Там же жил генерал-полковник Родимцев. В 18-м доме то ли подъезд, то ли несколько этажей были отданы писателям. Здесь поселился бабушкин знакомый по Ярославскому пединституту Григорий Абрамович Ременик, литературный критик, специалист по Шолом-Алейхему. Когда мне было лет десять, я часто бывал с бабушкой у него в гостях. Ременик отсидел в сталинских лагерях 16 лет, и, видимо, атмосфера 18-го дома его не слишком поражала. Напротив нас через Ломоносовский проспект – в Красных домах – был писательский подъезд, в 15-м доме, рядом с кинотеатром «Прогресс», тоже жили писатели. Не знаю, был ли злой умысел в подобном расселении, но когда писательские дети приходили домой с расквашенными носами, у их родителей должно было появиться подобное подозрение.
Таким образом, наш дом оказался меж двух огней. Нельзя сказать, что мы были совсем слабаки, и у нас были крепкие ребята, но способность к организации была очень плохой. К тому же из-за архитектуры дома у нас было фактически четыре двора, а не один, как в 68-м и 18-м. И в каждом из четырех дворов были свои лидеры и свои противоречия с соседями. В 68-м и 18-м двор был посередине дома, а наши дворы были ничем не прикрыты, оголены и беззащитны. В них не за что было зацепиться и негде спрятаться, мы были видны как на ладони, и по нашим дворам-проходам шастали армии наших соседей.
Во дворе иной раз было трудно разобраться, кто свой, а кто чужой, но если начиналась война, ты должен был стать в строй. Нередко два дома объединялись и шли бить третий. В большой войне 14-й дом объединялся с 68-м и нападал на 18-й. В другой раз 18-й мог сохранять нейтралитет, а 68-й приходил бить нас. В войне участвовали все желающие. Малолетки шли сражаться так же, как взрослые, без отбора по возрасту и силе. Битвы бывали разные, в иных случаях договаривались о месте и времени, а иногда совершали внезапные вылазки и били всех, кто попадался под руку.
Два больших детских сражения я помню очень ясно. Мне было лет шесть, это было зимой, и мы вместе с 68-м пошли в атаку на 18-й. Сначала перед моим подъездом собралась толпа из 68-го дома. Было очень тревожно, и у ребят были решительные лица. Посовещавшись и собрав палки и камни, мы вышли в узкий проход между школой и нашим домом и вдруг резко и сразу побежали вперед, в сторону 18-го дома. Я бежал в самом конце, в большой неудобной шубе, и впереди видел черную змею из мальчишек, которая добежала до конца дома и внезапно замерла. Страшный удар поджидавших нас ребят из 18-го дома привел авангард в полное замешательство. Через минуту вся змея, казавшаяся столь грозной, рассыпалась. По полю битвы бегали мелкие отряды наших врагов, которые настигали и валили с ног не успевших скрыться. Хотя, зная ребят из 68-го дома, я могу предположить, что кто-то из них продолжал драться.
Но я этого уже не видел. Обезумев от страха, я побежал совсем не туда, куда надо было бежать, – не в сторону своего подъезда, а на школьный двор и дальше – к Молодежной улице. Переждав там несколько минут и переведя дыхание, я пошел домой. Было очень тихо и тепло, на фонари валил снег, и только время от времени мелькали фигурки отставших ребят из 14-го и 68-го домов. Наша армия была разбита в пух и прах.
На следующий день мне рассказали во дворе, что наш авангард встретили ребята с палками, в некоторых были гвозди, и одному гвоздь пробил голову, а палка еще некоторое время продолжала крутиться по инерции. Впрочем, может, это была легенда, надо же было как-то оправдать свое поражение.
В другой битве наш дом тоже проиграл, на этот раз 68-му дому. Мне было лет семь, я упал, был пойман тремя ребятами и отведен к 12-му подъезду на расправу. По идее, они должны были начать меня бить. Я сначала для острастки начал рыдать и только потом заявил, что сейчас выйдет мой старший брат и всех их отметелит. Получилась очень глупая сцена, они явно не знали, что со мной делать, бить им меня не хотелось, и они просто присели на железную изгородь и молча слушали мои вопли. Один из них был старше меня года на два, его звали Гена, а второй, чернявый, – Вовка, младше меня ровно на год. Через некоторое время я орать перестал, и мы мирно разошлись в разные стороны, правда, меня предупредили, что в следующий раз мне навешают по первое число.
С Вовкой мы учились восемь лет в одном классе, и он стал моим ближайшим другом. Собственно, именно из-за школы прекратились войны домов. В школе мы все перемешались, исчез домовый патриотизм и пришла пора других разделений.
Позднее 68-й стал для меня родным домом, а вот если я ненароком забредаю в 18-й дом, то сразу чувствую, что здесь я чужой.
Шпана. Часть 1
В 60-е годы моя жизнь и жизнь моих друзей во дворе зависела от шпаны самым непосредственным образом.
Шпана – это прежде всего группа. Один человек может быть просто хулиганом, а вот когда появляется стая хулиганов, то это – шпана. До середины 60-х у нас во дворе шпаны не было. Были сильные ребята, которые дрались и утверждали свой дворовый авторитет, но существовали они сами по себе, имея пару-тройку друзей, и, если объединялись с кем-то, то ненадолго, чтобы провести какую-нибудь операцию или подраться с другим домом. Из самых сильных я помню братьев Серединых, похожих на современных культуристов, но, при всей их склонности к дракам, маленьких они не обижали. Это было хорошо, и это было плохо. Все герои нашего двора того времени родились в войну и сразу после нее, и их было очень мало. А подрастающая шпана была рождения начала 50-х годов, то есть, моего возраста и чуть старше. До конца 60-х шпана проявляла уважение к старшим хулиганам, а потом просто смела их полностью со двора и установила свою безраздельную власть, которая длилась до начала 70-х годов. Эта власть была не только дворовая, она выплеснулась на близлежащие улицы. Тогда мало кто из парней мог спокойно пройти по Ленинскому проспекту мимо 68-го дома, чтобы его не остановили и не стрельнули денег. Особенно перед закрытием винного магазина. И если он отказывался, из подворотни выходила компания ребят, и вопрос решался довольно быстро.
В детстве мы не знали даже такого слова – шпана, а за хулиганов могли принять не тех, кого нужно. В самом конце 50-х я впервые увидел в нашем дворе стилягу в брюках-дудочках. Мы с ним столкнулись в арке около 11-го подъезда, нос к носу.
Тут потребуется небольшое пояснение. Если ты хотел опозориться во дворе окончательно, то должен был одеться модно. Вернее, такого понятия, как мода, вообще не существовало, просто нужно было одеть что-то новое – брюки или ботинки. Каждый встречный еще издалека кричал с восторгом: «Обновим!» и с разлета заезжал грязной подошвой на твой чистый ботинок. И пока ботинки не переставали выглядеть, как новые, нельзя было спокойно гулять по двору.
Поэтому короткие брюки-дудочки, торчащие носки, шарфик или галстук, странные ботинки на толстой подошве меня ошеломили! Если бы я увидел совершенно голого гражданина, я бы, пожалуй, удивился гораздо меньше.
Мы сами ходили во дворе бог знает в чем. Родителям, наверное, было жалко выпускать нас на улицу в обновках. В 50-е годы вокруг была сплошная стройка – возводили Ленинский проспект, от современной площади Гагарина до нас. Кругом были пустыри, на которых все играли. Там же валялись стройматериалы, возвышались кучи песка и глины. Выходишь поиграть в ножички и, естественно, плюхаешься тут же в грязь, где сидишь целый день. А еще кругом были ямы. В одной такой яме я чуть не утонул.
Лет в пять-шесть родители купили здоровую, больше меня по росту, меховую шубу и шапку, в которой я походил на пингвина. В феврале или начале марта мы носились перед самым подъездом по льду, который уже сильно подтаял. Внезапно я провалился и ушел под воду целиком, прямо с головой. Кто-то из старших ребят не растерялся, подлетел к краю ямы и ухватил меня за воротник шубы. Потом «спасатели» довели меня до квартиры, позвонили в дверь и убежали. Я не решился встать прямо у двери и стоял на площадке через один пролет. Лило с шапки, шуба промокла насквозь, лилось из глаз, и вокруг образовалась здоровенная лужа. Я был уверен, что мать первым делом меня побьет. Но бить она меня почему-то не стала.
В 60-е возникла униформа шпаны – брюки клёш. Но не все перешли на клёш, были и хранители старых традиций, которые продолжали ходить в штанах с пузырями на коленях и в ботинках, похожих на бутсы.
Конечно, тогда нам было не до таких тонкостей. Какая разница между стилягой и шпаной, если и от тех, и от других ты получаешь подзатыльники?
Меня и даже моего брата в нашем подъезде преследовал долговязый парень по кличке Малай. Не было случая, чтобы он, увидев меня, не учинил какую-нибудь пакость. От него в нашем дворе доставалось всем маленьким. Кончилось тем, что мы объявили ему открытую войну. Малай жил на втором этаже, прямо под ним была сетка от кирпичей, и когда было тепло, он вылезал с голым пузом на сетку, вытаскивал туда же магнитофон и включал его на полную громкость. Мы мгновенно собирались под его окном и начинали орать во весь голос: «Малай, продай штаны!» Что значила эта фраза – неизвестно, но она приводила Малая в неистовство. Он либо начинал швыряться в нас осколками кирпичей, либо, оставив реветь свой магнитофон, бросался за нами во двор. Догнать нас он, конечно, не мог, но лица запоминал и потом мстил жестоко. Кто-то, чуть ли не моя мама, пожаловалась на Малая своему ученику, который жил в 15-м доме. После встречи с учеником Малай стал вести себя гораздо тише. Любопытно, что первый раз в жизни рок-н-ролл я услышал как раз в исполнении малаева магнитофона. Под малаевыми окнами как раз располагалась главная футбольная площадка, поэтому, когда мы играли, Чак Берри часами ласкал наш слух.
Хулиган, драчун, пижон и шпана существенно отличались друг от друга. Хулиган мог одновременно (хотя не обязательно) фарцевать, хорошо одеваться и слушать современную музыку. Шпана же была антикультурна – гитарный перезвон, который раздавался в наших подъездах, до сих пор стоит в ушах. И не перезвон это был вовсе, а удары всей лапой по струнам, сопровождаемые воплями: «Наташка и я! Любимая моя!» Остатки образования и воспитания быстро слетали с тех, кто становился шпаной. Мой одноклассник Коля Евсеев доучился класса до седьмого и вдруг перестал называть учителей на «вы». Он всем тыкал, но не потому, что хотел кого-то оскорбить, а поскольку искренне перестал понимать, что такое «вы» и почему к кому-то надо так обращаться.
Но главным свойством шпаны было то, что она сбивалась в стаи. Именно из-за этого шпана захватила власть в наших дворах к середине 60-х годов. До этого времени во дворе правили бал немногочисленные компании хулиганов. Их штаб-квартирой была огромная деревянная беседка, стоявшая с той стороны двора, где была школа. Слева были качели и детская площадка, а справа – столы для настольного тенниса. Иногда они залезали и на детскую площадку, но большей частью дефилировали между столами и беседкой. В ней всегда была полутьма, вокруг дымовая завеса от сигаретного дыма и вечный хохот. Туда захаживали развязные девицы, а мы старались обходить беседку стороной. Но если вдруг отлетал мячик и ты подбегал, думая, что не заметят, оттуда мог раздаться голос: «Слышь, поди сюда!» Если были девицы, то еще не так плохо, я, помню, попал на такую. «Какой хорошенький мальчик, – сказала она, – хочешь конфетку?» «Пшел вон», – сказал кто-то из парней. В принципе, маленьких они не обижали. Но их было мало, катастрофически мало, и настоящих лидеров среди них не было. До поры до времени они «держали» дворы, но потом сил у них не хватило. Они были просто пьяным хулиганьем, а на смену им пришли дворовые стайные псы.
С самого начала, как только возникли наши дворы, в них не было справедливости. Никто никогда не защитил маленького, и слабый не мог надеяться на защиту. Вытащить из ямы с водой – могли, а защитить – нет. Каждый был сам за себя, и правее был всегда тот, кто сильнее. А поскольку в этом возрасте любой, кто старше тебя, был одновременно и сильнее, то в зубы ты мог получить, в принципе, от кого угодно. Я иной раз получал совершенно неожиданно от ребят, от которых никак не мог этого ожидать.
ххх
Беззаконие, царившее у нас во дворе, не нравилось даже настоящим уголовникам. В середине 60-х годов во дворе с большим удовольствием рассказывали одну историю, расцвечивая ее новыми и новыми красками.
Мальчишки, и среди них мой приятель, Пашка, играли в настольный теннис. Вдруг на площадке появилась компания старших, которые отобрали ракетки, надавали подзатыльников и стали играть сами. Из восьмого подъезда вылетела тетка из домоуправления (единственный подъезд, где у нас сидела консьержка и вечно собирались уборщицы и домоуправы) и начала кричать, чтобы прекратили хулиганить. Никто, естественно, на нее внимания не обратил.
Но за этой сценой, оказывается, наблюдали не только из восьмого подъезда. От арки к теннисной площадке подошли двое солидных мужчин. Один из них попросил ракетку у кого-то из старших, тот прошипел в ответ угрожающе, но ракетку отдал. Мужчина сделал несколько неплохих ударов по шарику, потом положил ракетку и сказал: «Так, а теперь отдали ракетки мелкоте и пошли отсюда вон». «Чего-чего?? Мужик, а может тебе рога пообломать?» – ответили ему. Неожиданно мужик, как клешней, схватил ближайшего хулигана за горло, подтащил к дереву и достал из кармана … большой садовый секатор. Медленно раскрыл и поднес к лицу несчастного парня. «Тебе мама никогда не говорила, что нельзя обижать маленьких и грубить старшим?» – спросил он. Говоря, он одновременно проводил лезвием секатора по горлу, слегка его царапая. Вся братия оцепенела: бросишься на мужика – он вообще зарежет. После того, как прижатый к дереву парень просипел: «Я больше не буду», наступила очередь следующего. Так половина наших хулиганов подверглась унизительной пытке.
Открывшая рот и онемевшая было консьержка наконец очнулась и бросилась к телефону. Через некоторое время, кряхтя и испуская клубы дыма, в арку въехал мотоцикл с коляской, на котором восседал наш участковый. Мужик спрятал секатор, кинул последнюю фразу хулиганам и спокойно направился вон со двора по направлению к 18-му дому. Участковый ситуацию оценил, обогнул на мотоцикле площадку и медленно поехал за ним. Когда между ними оставалось несколько метров, мужик внезапно обернулся, так же медленно достал секатор и сказал милиционеру: «Жить хочешь? У тебя там в кобуре не пукалка, а, небось, бутерброд – лучше не нарывайся. Никто никого не убил, не порезал, я вот сейчас уйду, а ты за мной не езди». Он убрал секатор и скрылся за углом дома. Участковому было, видимо, неудобно, он подождал и через некоторое время все-таки поехал за ним. Но того и след простыл.
Самое интересное, что все это время второй мужик стоял в стороне, ни во что не вмешивался, а потом просто исчез так, что никто и не заметил. Именно он и был главным, известным вором, к тому же дальним родственником Пашки.
Эта история согревала нам душу – есть против этих жлобов хоть какая-то сила, пусть и уголовная.
ххх
Старшие хулиганы пытались устраивать разборки, устанавливать правила, и подрастающая шпана их побаивалась, но совершенно не уважала. Перед 8-м подъездом внизу, под каменной балюстрадой, были помещения продмага. Как-то один из старших устроил там разборку. Он стоял внизу, спиной к балюстраде, усердно воспитывая младших, а сверху, над ним, примостился парень по кличке Бамбелла и спускал на рубашку «хозяина двора» длиннющую, липкую слюну. Если бы старший заметил, он бы Бамбеллу прибил. А он стоял, важно всеми распоряжался и не понимал, почему все вокруг ржут как лошади.
И то, что должно было случиться, случилось рядом со столами для пинг-понга. Очередной конфликт перерос в грандиозную драку, в которой молодых поддержали и несколько старших. Это были старшие братья – Юрка Евсеев, который поддержал младшего Кольку, и Шурик Калинин, шедший вместе с Толиком и Генкой. Надо сказать, что в этой драке тоже получилось разделение по домам. Старшие были большей частью из 18-го дома, а костяк младших был из 68-го. Драка переместилась к гаражам рядом с домом 18, где был в 90-е годы магазин «Университетская книга», и там же и закончилась. «Молодые» не только выстояли, но одержали моральную победу, после которой начался закат «стариков». Кто-то из них присоединился потом к молодым, а кто-то вовсе исчез со двора.
Блатной морок
В моем детстве все очень боялись уголовников. В наших дворах их не было и быть не могло, так мы все считали. Когда в кино в 50-е годы показывали настоящего, матерого, вора, то он совершенно не походил ни на жителей наших домов, ни на прохожих на улице. Ровно так же гитлеровский офицер в кино не был похож на обычного человека – он весь дергался, имел горб на спине, говорил с акцентом, носил дурацкий монокль, был глуп и имел отвратительную внешность. Вор же обязательно носил за сапогом финский нож, был жаден, хотя и не глуп, и тоже имел отвратительную внешность. Этот любимый всеми советскими людьми образ уголовника идеально показан в фильме «Место встречи изменить нельзя» (причем для полноты образа горб, до этого украшавший фигуру офицера люфтваффе, переехал на спину главному бандиту – упырю и кровопийце). Затем, в 60-е, был длинный период, когда уголовников играли обаятельнейшие актеры – Бернес, Лавров. Но они при этом категорически отказывались продавать Родину и, может быть, поэтому внешне стали походить на обычных советских людей. Они как раз были не страшные, и их перестали бояться.
Конечно, страх рождался не только в кино. Была пора, когда вся страна боялась реальной, а не киношной «Черной кошки».
Мои родители зимой, сразу после войны, приехали в гости к бабушке. В Ярославле стоял лютый мороз, больше тридцати градусов. И вот как-то ночью в их дверь постучали. Когда они спросили, кто там и чего надо, то услышали, что стучат и в соседнюю дверь. Гражданин на площадке путанно объяснял, что его ограбили, раздели и чуть не убили, и он сейчас умрет от холода. Никто ему не открыл. Мужчина начал бегать с этажа на этаж в четырехэтажном доме и колотиться, как безумный, во все двери. А подъезды тогда не отапливались, и там была температура почти, как на улице. Бегал он довольно долго, а потом внезапно все стихло. Утром выяснилось, что действительно, гражданин шел из кино, с последнего сеанса, на него налетели, приставили ножи, ограбили и раздели до нижнего белья. Грабителей было двое, и один сказал другому: «Добей его». А тот махнул рукой: «Все равно подохнет». И вот несчастный, в одних подштанниках и босиком, побежал в сторону пединститута (он был его работником), но не добежал, выскочил на Которосль, а там его прихватило ветерком с реки, и он ринулся в ближайший дом, где жили коллеги, преподаватели родного пединститута. Но коллеги боялись «Черной кошки» и думали, что так «кошка» и проникает в квартиры, стуча во все двери разом. И погибнуть бы несчастному ни за грош посреди целого дома. И только какая-то старая еврейская семья, муж и жена, то ли не слышала ничего про знаменитую банду, то ли им уже было все равно, но дверь они открыли.
Вообще страх может наводить самый настоящий морок, так что два человека смотрят в одну сторону, а видят совершенно не похожие вещи.
Я был совсем маленький, мне было лет пять, и вдруг я стал замечать, что дома происходит что-то неладное. Родители шептались по углам и были чем-то озабочены. Потом мама рассказала мне, что к нам в гости, может быть, с ночевкой, придет очень страшный человек, бандит, но он наш дальний родственник, и не пустить мы его не можем. Я не должен его бояться, но лучше мне не выходить из своей комнаты. Легко сказать – не бояться, если родители ходили с бледными лицами! Наступил день его приезда, и началось томительное ожидание. И когда раздался звонок в дверь, я стремглав бросился в прихожую. В дверях стоял маленький человечек, только очень широкий, который тихим голосом спросил мою бабушку, Александру Ивановну.
Это был племянник моей бабушки, который действительно был самым настоящим бандитом, отсидел в последний раз чуть не 20 лет и решил заехать к тетке. Бабушку он очень уважал, к тому же она была старшая в роду. Он прошел в бабушкину комнату и просидел там несколько часов. Родители ходили по коридору на цыпочках и цыкали на меня, чтоб я не шумел. Ночевать гость не остался, они попили с бабушкой чаю с конфетами, и он удалился. В общем, визит этот на меня большого впечатления не произвел, вот разве что запомнился мамин и папин испуг.
Прошло года три-четыре, и бабушке пришло известие от племянника. То ли его опять посадили, то ли он женился (насколько я помню, он потом действительно женился и жил в маленьком городке на севере). Мы с мамой по этому случаю стали со смехом вспоминать его визит, всполошивший всю семью. И вдруг выяснилось, что наши воспоминания не только не совпадают, но прямо противоречат друг другу! Я помнил маленького, широкоплечего мужчину с тихим голосом, а мама – высоченного громилу, который загородил всю дверь, когда мы ее открыли, так, что потемнело в передней, и говорил громовым голосом! Отца, к сожалению, мы не могли привлечь к спору, потому что он вообще не вышел встречать двоюродного брата. Прошло еще пару лет, и я попытался доказать маме, что это я был маленький, и если он был громилой, то должен был мне показаться вообще великаном, а в ее глазах он вырос от страха. «Я же не сумасшедшая!» – ответила мне на это мама.
Мир книг
У отца была большая библиотека, которую он стал собирать, когда пришел с фронта. Книгу как таковую, как «вещь», произведение искусства, он не ценил. Всю жизнь он собирал только те книги, которые были нужны для работы. В 40-е – 50-е годы он еще мог заходить к букинистам, а потом перестал. Основную часть его библиотеки составляли книги, которые он привез после войны из Кёнигсберга. Город был долгое время закрыт, и книги из библиотеки Кёнигсбергского университета валялись под ногами, гибли под дождем, отправлялись на растопку. Отец, ходивший тогда с палочкой, раскидывал ею груды книг и отбирал для себя только самое нужное. Классиков немецкой литературы – прежде всего, и ему было все равно, старинная эта книга или современная. Скорее, он предпочитал книги современные, лучше сохранившиеся.
Только одну книгу, не связанную с профессией, он позволил себе привезти – Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts («Мифы ХХ столетия») Альфреда Розенберга. Тоже не самое шикарное издание, напечатанное готическим шрифтом, с большим портретом автора. Он внимательно ее прочитал и всю исчеркал своими пометками. В нашей семье эта книга была самым большим секретом, и именно поэтому фамилия Розенберга была известна практически всему двору. Я завлекал друзей на этаж, под рубашкой выносил книгу и рассказывал биографию Розенберга всем желающим.
Надо сказать, что отцовский «рационализм» сказался и здесь – большую часть книг, привезенных из Кёнигсберга, он отдал германистам из МГУ (в первую очередь нашему соседу – Неустроеву) в обмен на французские книги. В библиотеке, помимо русских, было много книг на тех языках, на которых отец читал – французском, немецком, испанском, английском. Вообще, его библиотека в своей художественной части почти перестала расти с 60-х годов (прирастая, в основном, собраниями сочинений и книгами из Франции), но увеличивалась большими темпами за счет литературоведения и искусства.
В годы моего детства была популярна теория, что учить грамоте до школы не обязательно. Поэтому когда я пошел в школу, то читать не умел, и в первом классе так и не научился. Я проболел почти все первое полугодие, а зимой попал в больницу на три месяца.
В первый больничный день вечером меня привели в палату, горевшую желтым светом, закутали в одеяло и дали в руки книжку. По-моему, это были русские сказки. Никому и в голову не пришло, что такой большой мальчик не умеет читать. Я улегся, а за мной внимательно наблюдали мальчики (их было пятеро), лежащие в палате, но знакомиться они не спешили. Признаться, что я не умею читать, было невозможно. Я раскрыл книгу и стал водить глазами по строчкам, лихорадочно подсчитывая, сколько времени у меня должно уйти на прочтение страниц и не слишком ли я их быстро переворачиваю.
Мне довольно долго удавалось водить за нос медсестер и мальчиков, хотя, в конце концов, моя тайна была раскрыта. Но к тому времени я уже передружился с половиной больницы, и поэтому вскрытый обман не отразился на отношении ко мне. Ребята удивились немного и вскоре забыли. Правда, у мальчика по имени Никита, над которым все смеялись из-за того, что он был тезкой Хрущева, появилась возможность отыграться, и он радостно показывал, как я тупо переворачивал страницы. Но вскоре ему это надоело, и меня оставили в покое. Читать же я научился слету, мгновенно, почти незаметно, летом, даже не летом, а в мае, на Украине, куда меня после больницы увезла бабушка.
Живя среди книг, листая до бесконечности альбомы, книжки Бидструпа, иллюстрированного Доде французского издания XIX века, обожаемую годовую подшивку «Нивы» за 1912 год, в которой была масса статей и рисунков, посвященных 100-летию войны 1812 года (она была собственностью друга отца – дяди Игоря, и каждый раз, когда мы приходили к нему в гости, я ее выпрашивал на время, потом он приходил к нам, забирал обратно, затем я опять просил, и так продолжалось несколько лет, до тех пор, пока родители не перестали брать меня с собой), я познавал язык. Познавал зрительно – образы букв и слов соединялись с иллюстрациями, печатью, обложками и запахом бумаги. Этот особый язык жил во мне очень долго и после того, как я научился читать. К образам стали присоединяться непонятные слова. Например, Скриб и Лабиш читались, как Скриб-Лабиш – нечто сокрытое за всеми нечитанными и непознанными книгами отцовской библиотеки. Можно сказать, что вся библиотека была для меня одним Скриб-Лабишем.
Когда я уже начал читать, пока только корешки и обложки, то обнаружил другой мир, отличавшийся от того, что я тогда уже знал. Здесь к стране почему-то было приделано имя Анатоль, к городу – Джек. Я был уверен, что мне не хватит жизни, чтобы прочитать все эти книги, и я пытался освоить книжный мир своим, особым, образом, выстраивая собственную логику. Книги подразделялись на иностранные, русские, собрания сочинений, с иллюстрациями и по количеству: одна книга, две. С многотомными собраниями было проще всего. Мне надо было выяснить, кто из авторов более великий и почему, и с этим вопросом я постоянно приставал к взрослым. Из иностранных заголовков и фамилий лепились странные образы. Золя вызывал доверие краткостью: Эмиль Золя – Деньги – Дамское счастье – Западня. Автор с фамилией Фейхтвангер в принципе не мог написать ничего хорошего, хотя имя было загадочное. Арагон – красивое слово, но он вызывал легкое недоверие слишком будоражащим красным цветом. Разрозненные многочисленные тома были подозрительны, казалось, что писали их большие путаники, особенно Марсель Пруст. Авторов, которые написали одну-две книги, было немного жалко, они терялись среди собраний, я часто повторял их имена, может быть, чтобы хоть немного компенсировать их неполноценность – Бодлер, Верлен, Ламартин, Альфред де Виньи.
Поражало странное имя – Ги. Когда мы с братом немножко созрели, Ги внезапно пропал и через довольно солидный промежуток времени был случайно обнаружен нами на антресолях вместе с «Декамероном». Брат, не сообразив, поделился радостью находки с отцом. Отец что-то буркнул в ответ, как бы изображая крайнее удивление – «надо же, а я и не знал!» А вот «Золотой осел» Апулея был спрятан в неведомом месте и возник снова на полке античности уже после того, как мы с братом завели свои семьи.
Библиотека была строго поделена – западная литература в кабинете, русская – в большой комнате. Кабинет был очень темным, из-за лоджии там и днем надо было зажигать свет. Книги занимали всю стенку до потолка, и верхние ряды терялись почти в полной темноте. Там стояли немцы, скандинавы, поблескивал готическим золотом Шлегель, а где-то недалеко от Маннов прятался Розенберг.
Большая комната была очень светлой, и солнце целый день взирало на русскую литературу. Ярче всего был освещен Салтыков-Щедрин, который стоял на самой верхней полке. В самом низу располагался колоссальный 30-томный Горький в раздражающе желтом супере, похожий не на собрание книг, а на монумент. Взгляд каждый раз невольно цеплялся за черные тома, которые давно потеряли суперобложку. Там, вероятно, были «Мать» и «Данко», которых проходили в школе.
И все-таки книги что-то потеряли, когда я научился читать. Они потеряли объем и стали плоскими. Я испытал некоторое разочарование от того, что книга превратилась всего лишь только в текст. Он был и раньше, но к невозможности его понять, к таинственности шрифта, букв, которые складываются в слова, но не для меня, присоединялся запах, особый у каждой книги, и картины, часто непонятные, о смысле которых я подчас мог только догадываться, и фантазия моя пускалась взапуски. Книгой кто-то раньше владел и оставлял на ней повсюду разбросанные следы – пятна, заметки на полях, подчеркнутые строки.
Я листал огромную Библию (она принадлежала старшей сестре отца), от которой шел кисловатый запах старой церковной книги. Неведомые люди за десятки лет до меня переворачивали эти страницы и вкладывали туда сушеные цветы и куски яркой материи. Но когда позже я сумел, открыв книгу, самостоятельно прочесть слова, в ней написанные, образ старой книги внезапно поблек. Она как будто высохла, запах уже говорил не столь много, а записи на полях показались скучными.
С тех пор через мои руки прошли многие тысячи книг – от инкунабул до редчайших книг 20-го века, оставшихся в одном-двух экземплярах.
Но книгу как предмет, как вещь – я не люблю. И совершенно равнодушен к тисненой коже и роскошным иллюстрациям. Скорее что-то жалкое, умирающее-рассыпающееся, грязное и мало читаемое вызовет мой интерес. Понятно, что я очень люблю различные справочники, особенно какие-нибудь дикие, составленные сумасшедшими коллекционерами.
Источниковед давно победил во мне читателя. Проще – профессионал победил во мне человека, – и мне очень жаль, что так произошло. Я считаю, что, может, это одна из самых больших духовных потерь за всю жизнь.
Париж
Я рос в немузыкальной семье. Бабушка любила оперу и всю жизнь собирала пластинки. Но хранила эту любовь для себя и ни с кем не делилась.
Для родителей музыка скорее сопровождала веселье и танцы. Поэтому моими музыкальными вкусами никто не управлял. До всего я доходил сам. В принципе, мне нравились все те пластинки, что хранились у нас дома.
В 56-м папа купил пластинки Поля Робсона и Федора Шаляпина. С тех пор «В двенадцать часов по ночам» могли поднять и меня – в любом состоянии и виде.
Первым моим увлечением стала Эдит Пиаф. До нее музыку я воспринимал, как книги, – перевернута последняя страница и наступает перерыв. Эдит Пиаф была похожа скорее на сказку, которую мама читала на ночь. Было известно каждое слово, а слушать все равно хотелось.
А потом пришел черед Ив Монтана. На Новый 1957 год, первого января, родители отправились на его концерт в зал Чайковского. Билеты достала мама одной ученицы. Родители сидели в третьем ряду в партере, а в ложе располагалось все правительство – Булганин, Хрущев, Микоян и Молотов. И с тех пор родители полюбили Ива Монтана на всю жизнь. Они покупали все пластинки, и без его песен не обходился ни один праздник.
Через много-много лет я неожиданно признался себе в том, что Ив Монтан – видимо, единственный мужчина в моей жизни, которого я обожал. Как девушки любили актеров, собирая открытки, так я – любил Монтана. Правда, никогда ничего не собирал, а просто всегда хранил в своем сердце его образ.
В нашем доме царил культ Франции. В 60-м году отец первый раз побывал в Париже. Я мало что помню из его рассказов. Что-то – об открытых кафе, о художниках на Монмартре. И еще было много фотографий. Папа и все французы – в похожих плащах. И, конечно, был рассказ об Иве Монтане и его пластинки.
С тех пор Ив Монтан стал для меня символом и душой Франции. А Париж – моим городом – обожаемым, родным и знакомым. И хотя я никогда в жизни не был в Париже, но люблю его как город своего детства.
И стоит мне послушать любую песню Монтана, как я забываю обо всем и говорю себе: жизнь прекрасна, потому что на свете есть такая музыка и лучший город на свете – Париж.
«Дверной» роман
1 сентября 1961 года я пошел в первый класс вполне здоровым и щекастым мальчиком. Уже через пару месяцев я превратился в полного доходягу.
Мои первые школьные воспоминания расплываются словно в сплошном мареве. Комната, набитая битком детьми (сорок с лишним человек), неприятный запах в туалетах и классах, неудобные парты, чернильницы-непроливайки, ломающиеся перья, промокашки и завтраки, которые приносили прямо в класс. А в портфеле – обязательный бутерброд с сыром и расползающимся маслом, который я брал из дома и съедал на второй перемене.
Странно, но я вообще не помню в школе солнца и яркого света. Везде было сумрачно или горели желтые электрические лампы. Когда я учился во вторую смену, зимой должен был гореть свет. Но утром тоже клоками всюду висела полутьма. Коридоры были темные, раздевалки, лестница, первый этаж, актовый и физкультурный залы, буфет. Весной и осенью в школе было прохладно и темно, зимой – жарко и темно. Тьма около учительской, внизу – у кабинета директора, и только в туалетах светлело – они, хоть отчасти, были нашей территорией. И, наоборот, на выходе из школы я не помню дождя или снега, а почти всегда – солнце.
На уроках я не понимал ничего. Я не умел читать, не умел складывать и вычитать, а палочки на чистописании все в ряд получались кривые. Когда нам стали выставлять оценки и проводить контрольные, моей оценкой стала цифра, которую я тут же хорошо усвоил. Кол или единица. Иногда – двойка. Ни с одним одноклассником я не подружился и ни одного не запомнил. Моей первой учительницей была молодая недобрая женщина.
Здесь я впервые столкнулся, вернее, даже стал частью иного мира, который существовал по законам мне недоступным и не проявлял не то что заботы, но вообще никакой видимой заинтересованности в моем существовании.
Естественно, я стал искать выход и попытался убежать из этого мира.
Я начал болеть. Приходил в школу на пару дней, затем валился с температурой. Маме давали бюллетень на три дня, но она сидеть со мной не могла, потому что сама была учителем. За мной ухаживала бабушка, мать отца.
В январе, в каникулы, я поехал к другой бабушке, маминой маме, в Ярославль, чтобы меня посмотрел знаменитый ярославский доктор Полетаев. К тому времени мне хорошо были знакомы разнообразные врачи – участковые терапевты, ухо-горло-нос, стоматологи и даже ревматологи. Полетаев же был единственным в своем роде – его называли диагностом.
Похожий на старого профессора врач пришел к бабушке домой, послушал ее сбивчивые объяснения и спросил: «А ребенку делали Пирке4?» Ребенку Пирке не делали. Полетаев попил чаю с вареньем и ушел.
В одном подъезде с бабушкой жил папин старший брат – дядя Паша. Его сын Игорь тоже часто болел: день-два побегает, на третий – свалится. В связи с этим в их доме постоянно распевалось на мотив коробейников: «Без словечка Плиний падает, рядом валится слуга»5. После визита Полетаева роль слуги Плиния закрепилась в нашей семье за мной.
Дядя Паша знал массу старых дореволюционных студенческих песен и часто применял их по разным поводам. Когда папа получил звание профессора, дядя Паша приехал в гости и прямо на пороге, хлопая отца по плечам, запел своим немного надтреснутым голосом:
Мы Шиллера и Гете не читали,
Раз-другой их почитаешь,
Ничего не понимаешь,
Как безумный хохотаешь!
А потом обнявшись, они восторженно заорали хором:
Бей профессоров – они гадюки,
Они нам преподносят все науки!!!
В Москве мне сразу сделали Пирке и на три месяца уложили в больницу. Возможно, именно из-за болезни первый класс стерся из моей памяти. Я помню отрывки, как будто я давным-давно смотрел фильм и порядочно его забыл: зима, снег или просто холодный вечер, и я за ручку с мамой иду в детскую поликлинику на Университетский проспект. Так прошел почти весь мой первый учебный год.
Но школьный порядок нельзя было разрушить болезнью. Как угроза, как неотвратимое будущее он нависал надо мной и в больнице.
В моем классе была особенная девочка. Когда кончалась перемена, она выходила к доске и становилась лицом к классу. Открывалась дверь, входила учительница, и девочка произносила звонким голосом: «Встать!» Мы все вскакивали с мест, учительница дожидалась, пока в классе наступит полная тишина, и говорила: «Здравствуйте, дети. Можете садиться». Эта особенная девочка была старостой класса. Естественно, что она была круглой отличницей и звали ее Лена.
Я сам, маленький первоклашка, даже не мог представить всю глубину пропасти, которая лежала между мной и миром школы – директором, завучем и учителями. И так получилось, что именно Лена была глашатаем этого мира для нас, учеников.
Мы с Леной жили в одном подъезде, и я часто встречал ее во дворе. Она никогда ни с кем не играла, а чинно проходила мимо под руку со своим папой, который был такой же прямой и высокий, как она. Папа был седым и скорее походил на дедушку.
Когда весной я вышел из больницы и вновь вернулся в школу, я уже безнадежно отстал от класса, и в то время, как все вокруг пыхтели и выполняли задания или слушали учителя, я просто сидел за партой и рисовал что-нибудь на листочке. На меня вообще не обращали внимания – я окончательно стал изгоем. Но я понимал, что этот мир так просто меня не отпустит, хотя и не представлял, что же будет дальше. И тогда взрослые впервые сказали: «Его надо оставить на второй год». Я осознал, что мир, который заставил меня страдать, задумывает еще что-то гораздо худшее. Болезнью я его победить не сумел.
И тогда я решил влюбиться.
И действительно – впервые в жизни влюбился в свою ровесницу.
Конечно, и до этого некоторые девочки мне были симпатичны. Но теперь случай был особый – между моей избранницей, Леной, старостой нашего класса, и мной лежала непреодолимая граница. И любая форма известных дворовых отношений тут не годилась. Я не мог как следует треснуть ее по спине или дернуть за одну из роскошных кос. А доступный ей язык не подходил для меня – писать я не умел, мог бы что-нибудь нарисовать, но мне это почему-то не пришло в голову. Таким образом, все дворовое не подходило ей, а все школьное – мне. И я выбрал то, что отделяло ее мир от моего – дверь в ее квартиру.
Я достал мел и стал писать наискось, огромными буквами, через всю дверь: «Лена, я тебя люблю». Вернее, писал мой друг Санька, а я стоял на атасе – вдруг кто-нибудь пойдет, где-то хлопнет дверь или поедет лифт. Как только раздавался шум, мы вылетали из подъезда. Двери были деревянные, крашеные, высокие, с большими филенками, и писать было трудно. Мел ломался, царапал краску. Смывать написанное, наверное, было еще труднее. Через несколько дней о «дверном романе» узнал весь двор. Но поскольку Лена участницей наших дворовых игр не была, то и интереса особого никто не проявил. Я же часто подходил к двери и старался, чтобы надписи появлялись сразу же после того, как делались попытки стереть предыдущие. Тут все было просто – надо было обводить мелом по следу старой, полустертой надписи.
В начале мая доктора сказали, что меня надо увозить из Москвы. В Прибалтику – нельзя, на юг – тоже, и мы уехали с бабушкой на Украину.
Прошло четыре месяца, я вернулся, и вся эта школьная любовь вылетела у меня из головы. Я загорел, повзрослел и целыми днями гонял во дворе в футбол.
И вот, уже в самом конце августа, мы, наигравшись вволю, пошли с товарищем (он был на три года меня старше) попить воды. И хотя нас мучила жажда, мы не стали пить из кранов, которые торчали на всех углах дома, и к которым дворники приделывали шланги для полива двора, а решили заглянуть в школу и заодно посмотреть, как идет подготовка к первому сентября.
Когда мы спустились со второго этажа, то увидели недалеко от белевшего в полумраке бюста Ленина стенд «Лучшие ученики школы». Мой товарищ подошел к нему. И тут меня внезапно охватила беспричинная тревога. Он глянул на фотографии и сказал: «Слушай, а ведь твоя Ленка – отличница. Ну-ка, покажь ее фотографию!» Я непонятно почему испугался и соврал, что забыл ее фамилию. «Ничего, – сказал приятель, – поищем старосту». Найдя старосту, он вытаращил глаза и засмеялся. Я уже почти сквозь слезы посмотрел на фотографию и понял, что я не знаю, кто на ней изображен. Так, словно я никогда не видел этого лица!
Правда, потом мы нашли фотографию одного знакомого, который был не похож на себя, решили, что виноват плохой фотограф, и пошли дальше гонять мяч.
Но я знал, что фотограф не виноват.
Я сидел за партой, вечно потный и обессиленный, не понимая ничего, что нам пытался объяснить учитель, и с ужасом наблюдая за тем, что все вокруг водят перьями, и только я один не знаю, что мне писать. И за весь первый класс я так и не посмел хоть раз посмотреть ей прямо в глаза. Я всегда сидел с опущенной головой, когда она выходила на середину класса. Не видя глаз, как оказалось, я не видел и ее лица. Внешность и не имела никакого значения, потому что я влюбился в ее величие и командный пост.
Еще пару лет я изредка встречал Лену с папой во дворе, а затем ее семья уехала из нашего дома.
Этот первый в моей жизни роман вполне можно было бы назвать «романом с дверью». Если бы только за дверью не скрывалась девочка, так и оставшаяся для меня навсегда полной загадкой.
Взрослые и дети
Миры взрослых и детей можно назвать параллельными, хотя это звучит странно для людей, которые живут в одной квартире. И, тем не менее, это так. И дети, и взрослые были максимально свободны друг от друга, насколько это вообще возможно. Когда проходил первый шок после роддома, ребенка отправляли в ясли, а потом в детский сад на шестидневку, в выходной он копался в песочнице во дворе. В понедельник его опять тащили в детский сад. Затем ребенок шел в первый класс, в воскресенье болтался в том же дворе, а на лето уезжал в пионерлагерь.
Мои родители утром уходили на работу, вечером приходили и снова до ночи занимались работой. Перед сном, после поцелуя, мне позволялось иногда послушать радио на ночь. Я крутил приемник, который стоял на отдельном столике, и останавливался на черте, где было написано: Берлин или Лондон. Изнутри приемник горел, как будто светился не он, а сами города, и неважно, что там говорило и играло, важно было то, что вместе с доносящейся музыкой ты мог улететь неведомо куда. Потом я ложился в постель, и взгляд начинал скользить по полкам с книгами. Утром я вставал, и все происходило точно так, как вчера.
Меня не отдали в ясли в три месяца, я не ходил в детский сад и никогда не был в пионерлагере. В четыре года я и еще человек десять ребят попали к тете, которая в течение нескольких часов гуляла с нами на кругу перед домом. Но на самом деле целый день с девяти утра до девяти вечера я носился во дворе. Ели мы что угодно, где угодно и когда угодно. Ходили друг к другу и за милую душу уминали то, чем нас подкармливали бабушки или домработницы. Моя бабушка чаще всего готовила гречневую кашу с молоком. Но, в принципе, мы могли и не есть вообще, никому до этого особого дела не было. Хотя есть хотелось постоянно. Всякие коржики, пирожки с повидлом, квас, газировка – были мечтой, если только в расшибалку выиграть копеек двадцать.
Детский мир взрослых не интересовал. А даже если бы и заинтересовал, он был им недоступен. Ребенок для взрослого существовал в двух образах: существа, которое говорит всякие смешные вещи («от двух до пяти»), и эти словечки можно записать в тетрадку. Потом ребенок сразу становился частью большого, созданного другими взрослыми мира – детсада, школы, пионерлагеря, к которому каждый конкретный родитель не имел непосредственного отношения. Его только время от времени могли попросить откорректировать то, на что школа уже обратила внимание, но была готова передоверить родителям.
Это и называлось родительским воспитанием. Все, что происходило с детьми во дворе, вне родительского и школьного ока, воспринималось как мир шалостей, присущих возрасту от «пяти до двенадцати». Для родителей важно было то же, что и для школы – отметки, поведение, общественная активность.
Я был обычным дворовым мальчиком, ничем не отличавшимся от своих друзей. Курить я начал в первом классе, правда, бросил во втором, но в шестом начал опять и курил потом еще лет двадцать. В шестом-седьмом классах я периодически не ночевал дома. Спал у друзей и в подъездах, на ступеньках (у батарей воняло помойкой и мочой), на площадках у чердаков. Никто особо не бегал, не показывал на меня пальцем и не бил в колокола. Конечно, родители расстраивались и волновались. Но жизнь продолжалась.
Были и другие родители, которые пытались решать все за своих детей. Заставляли их маршировать – ать-два: из школы бегом домой, затем обед, кружок, учитель музыки, уроки, сон. Обычно это были несчастные дети, потому что у них, в отличие от нас, жителей дворовых прерий, вообще не оставалось свободы. Наше дворовое братство было счастливо, поскольку знало до поры до времени только один вид насилия – школьный. А те, другие, подвергались насилию и дома, и в школе. Может быть, у их родителей была иллюзия, что ежеминутно контролируя детей, они делают им хорошо, готовят к взрослой жизни, а возможно, – и приближают к себе. Но пропасть между нашими мирами от этого не исчезала.
Когда папа или мама работали дома, они читали книги. Мама еще проверяла тетради, а отец писал своим размашистым почерком, зажимая чернильную ручку между культей большого и указательным пальцем. Когда родители читали, мне постоянно выговаривали: «Не мешай, мама и папа работают». Работа была важнейшим делом на свете, и она состояла большей частью из чтения книг.
Так уж получилось поэтому, что наикратчайший путь от меня к родителям лежал через книги. Я, например, спрашивал: «Кто более великий – Пушкин или Лермонтов»? Взрослый попадался на эту нехитрую уловку и пускался в объяснения. Слушая их, я на самом деле пытался понять, что важнее всего для взрослых. Хотя – «мне некогда» – тоже звучало нередко. Но я никуда не спешил. А вот если разговор начинался, то можно было попробовать задать и другие важные вопросы. Мне казалось, что взрослые, не видя подвоха и коварства ребенка, были искренни и говорили о том, что действительно любили и ценили.
И все-таки я ошибался. Отнюдь не книги были самым главным для взрослых.
ххх
Мне было лет десять, когда в нашем доме умер немецкий профессор. То есть, это мы считали его немцем или немецким профессором, а кем он был на самом деле – неизвестно. Он был одинок, у него не было наследников, квартира досталась государству, самое ценное имущество, видимо, изъяли, а остальное трогать не стали – бери, что хочешь. У профессора была огромная библиотека, в которой практически все книги были на немецком, и большая коллекция пластинок, тоже в основном немецких. Кто-то из домоуправления сообщил в школу, что дети могут приходить в квартиру в 13-й подъезд за макулатурой.
Макулатуру нам собирать нравилось, в старых журналах и газетах можно было всегда найти что-нибудь интересное. А тут нам отдали целую библиотеку и в придачу всю коллекцию пластинок. От 13-го подъезда до школы было метров сто, мы кое-как перевязывали книжки в пачки и потом волоком тащили их до школы прямо по асфальту. Если видно было, что в книге есть иллюстрации, мы прямо во дворе вырывали самое интересное. Мне попались несколько десятков томов роскошной энциклопедии. Всю эту энциклопедию мы изорвали во дворе на клочки. Там были разные животные, виды городов. Мне достались иллюстрации с Orden, Zur Geschichte der Uniformen, Deutsche Flaggen и многочисленные Wappen и Landerwappen. Уже взрослым человеком я поинтересовался, – а что же это была за энциклопедия? И опознал по хранящимся у меня до сих пор иллюстрациям, что это был Meyers Konversations-Lexikon, видимо, издания конца XIX – начала XX века.
Пластинки нельзя было сдать в макулатуру, и с ними мы поступали проще. Сразу от подъезда профессора начинался склон, идущий от арки в сторону школы. Мы устроили соревнование – кто дальше забросит. Пластинку запускали ребром, и она катилась с горки. Некоторые пластинки разбивались, а другие, более крепкие, докатывались до школьного забора, и их можно было запустить еще раз.
Этот праздник продолжался несколько дней. Весь двор был усыпан осколками пластинок и обрывками немецких книг. Дворники ругались, убирали, а на следующий день все начиналось заново. В нашем доме жили профессора, академики, преподаватели со всех факультетов Московского университета. Ни один из них не пришел в домоуправление, в школу, не подошел к нам, не поинтересовался, а что же это такое происходит во дворе на глазах у всего дома? Квартира опустела, и наш праздник кончился сам собой.
На дворе была не гражданская война, шел 63-й или 64-й год. Этот немец, может быть, всю жизнь собирал книги и пластинки, а через несколько дней после его смерти все это изорвали и разбили без остатка его соседи – дети профессоров и преподавателей. Я уж не говорю про личный архив, фотографии, которые просто выкинули на помойку.
ххх
Я хватался за книги и приставал с расспросами к родителям, потому что не понимал, что для них ценно, а что – нет. Все, что было ценно для меня, по их системе координат таковым не являлось. В детском мире вообще не могло быть для взрослого ничего ценного. Если бы мы разбирали во дворе не библиотеку, а шапку Мономаха на камни, на это тоже никто бы не обратил внимания. Я никогда бы не посмел порвать книгу из отцовской или маминой библиотеки. Но когда эти же книги «выпали» из мира взрослых и попали в наш мир, они превратились в объект игры.
Хотя в нашем, равно как и в любом другом московском дворе, по рукам ходили удивительные, в том числе редкие и дорогие вещи. И цена им была порой – копейка. Монеты, медали, ордена, разнообразные значки и знаки, бумажные деньги, боны, марки, открытки! Кто-то из нас пытался коллекционировать и создавал в добавок обменный фонд «на всякий случай». С чем-то просто играли, что-то казалось любопытным… У больших монет, особенно царских, была одна судьба, – быть битой в игре в расшибалку. Бумажные деньги были всех видов и многих стран. Были новые, как из банка, были мятые, много послужившие. Помню билеты «Главного командования вооруженными силами на Юге России», Ростова-на-Дону банка, несчетное количество царских банкнот, первых лет советской власти, рупии, китайские деньги… Любопытнее всего были картинки и водяные знаки. Самой красивой была сторублевка начала ХХ века с портретом Екатерины Великой – «Катинька». Из орденов меня особо поразил Станислав с мечами. Из моих же приобретений самым удивительным был ватиканский орден папы Льва XIII. Москва строилась, и многое попрятанное в старых разрушаемых домах находилось. Но как оказался в наших краях папский орден? Из самого дорогого были золотые монеты царской чеканки. Один мой приятель насобирал целую стопку отнюдь не по цене золота.
В моем дворе, где перемешались все социальные слои, детям казалось, что главной ценностью для взрослых является их профессия. И, повторяя до бесконечности: мой папа – летчик, дипломат, зоолог, геолог, инженер – мы все, казалось, прикасались к чему-то самому важному в родителях. Хотя по сути причастность к тому же социальному слою, что и твой отец или мать, никак не сближала ребенка и родителей.
Мои хитрости, попытки понять взрослых через книги, может быть, и давали мне некоторое представление, о чем они думают. Но знание это все равно было односторонним, потому что взрослых мой мир совершенно не интересовал.
Герои и быт
В нашем дворе, как и в соседних дворах, не рождались и не росли мушкетеры. Не было их среди хулиганов и шпаны, не было и среди обычных ребят. Правда, хотя в шпане не было ничего героического и благородного, но броситься на защиту приятеля они могли. Но не из-за желания защитить или жалости, а чтобы поддержать авторитет компании. А в нас не было даже этого. Мы были разъединены, и, несмотря на дружбу, которая многих связывала, в конечном итоге – каждый был только за себя. Объединяли нас, прежде всего, игры – нельзя же играть в футбол одному! Мы были слишком сложны для чего-то постоянного и объединяющего, и из нас не могла получиться команда, как у гайдаровского Тимура.
В «Тимуре и его команде» вполне живой и действующий красный командир, отец девочки Жени, овеян героическим ореолом. В то время, когда писалась книга, героизмом была пронизана повседневная жизнь. Взрослые – это старшие командиры, а дети – их помощники и смена, когда-нибудь они вырастут и тоже станут настоящими командирами.
Теперь же идеи, которая могла нас объединить, – не существовало. 50-е годы были самой негероической эпохой в ХХ веке. Война оказалась столь тяжкой, кровавой, грязной и принесла настолько огромные страдания, что не могла сразу по окончании стать источником массовых героических историй. По сути, нам доставалось то, что было прославлено еще во время войны – Талалихин, Матросов, панфиловцы. Ну, может быть, с прибавлением «Молодой гвардии».
Должно было пройти порядочно времени, лет пятнадцать–двадцать, чтобы страдания подзабылись и можно было начать вспоминать и славить.
Героическое приходило к нам из других эпох. Мне, скажем, не нравилось мое имя. В три-четыре года я даже пытался называть себя Катей – так звали миловидную ровесницу из соседнего подъезда. Примирил меня с именем герой Гражданской войны Котовский. Знаменитую фразу «Я – Котовский!» можно было дополнить именем. Я – Григорий Котовский! Получалось даже красивее и грознее.
Конечно, героическое не исчезло совсем, а переместилось за границу жизни. Теперь героем скорее мог называться тот, кто умер, а лучше – погиб, совершая подвиг. В Гражданскую войну это были Чапаев, Щорс, Котовский, Пархоменко, в Великую Отечественную – Матросов, Карбышев, Гастелло, Талалихин, разведчик Кузнецов. Среди живых героев не было.
Живые разделялись на фронтовиков и тыловиков. Медали и ордена ни о чем особом не говорили, иногда даже наоборот, о чем-то совсем непохожем на героизм, поэтому сами фронтовики не привлекали к ним внимания.
ххх
Мое детство можно назвать эпохой умерших героев, а в повседневной жизни царствовал быт. Повседневность после войны просто не могла больше нести бремя героического. Обустраивались города, возводились Черемушки, люди получали новое жилье и стояли в очередях за кроватями, шифоньерами и стиральными машинами.
А как же идея? Она оторвалась от масс и стала уделом профессионалов. И профессионалы теперь уже могли задирать ее как угодно высоко – она больше не была связана с повседневностью. А сама повседневность теперь могла выступить в качестве определяющей стороны. Поэтому в 1961 году Хрущев объявил, что в 1980 году страна вступит в эпоху коммунизма. А обернулось это тем, что в наших разговорах – и взрослых, и детских – эра коммунизма превратилась в событие, когда можно будет купить все, что душе угодно. И все купят – телевизоры и машины. Об этом мы и говорили во дворе – кто чего захочет в новой эре. И наступит ли она точно в 80-м или машины для каждого могут появиться и раньше (тут мы спорили – будут ли их раздавать бесплатно или придется все-таки покупать).
Нельзя не отметить, что в тот же год состоялся первый полет в космос. Идея, оторвавшись от масс, устремилась ввысь – вон от земли. И одновременно стала кормить армию профессионалов, пока через 30 лет не умерла.
Имело ли все это отношение к дворовой жизни, меняло ли ее? Безусловно! Разделение пришло к нам в квартиры, к нашим родителям. Кто-то стремительно богател, а рядом жили еле сводившие концы с концами соседи. «Благополучные» дети по большей части этого не видели, а если и видели, то плохо понимали. Наши же менее благополучные дворовые приятели, напротив, часто оказывались бессильны перед разговорами, которые слышали у себя дома. Их родители и старшие – осуждали, клеймили, отчаянно завидовали и ненавидели. Но государство исключило любые формы протеста – новое обогащение и разделение было абсолютно законно.
Наивность благополучных детей сохраняла нас от многих порочных чувств и, прежде всего, – от чужой зависти. К тому же дух общности все еще витал в наших дворах. Да, собрать воедино большой двор он уже не мог. Но заразить дворовым патриотизмом и идеалами дружбы без социального разделения – пока еще мог.
И именно этот дух встал между нами и новой эпохой – обогащения и разделения. Сам факт, что мы проводили все свое свободное и «несвободное» время во дворе, уже говорит о том, что мы не вписывались в новую эпоху и вступали в противостояние со своими отцами. Тот, кто сидел дома и не высовывался, – очень быстро становился социально неблизким для всех дворовых. И богатых, и бедных. Богатые дворовые стеснялись обновок и, получив их, тут же стремились сравняться с остальными – поэтому не жалели, рвали и пачкали.
Почему родители ничего не чувствовали? Ведь в их жизни тоже были свои дворы и деревни. Потому что война смешала все их узкие союзы и раздавила их одной большой и ужасающей общностью. Война не спрашивала и не требовала ни патриотизма, ни служения идее – она просто брала свое – убивала и калечила. Война оголила их и перечеркнула их принадлежность чему-либо, кроме нее самой. И это сделало их открытыми, незащищенными перед любой социальностью, которая приходила в дальнейшем к ним в жизни.
К тому же лозунг обмирщения и обогащения казался таким естественным. Четыре военных года принуждали идею к уходу из повседневности.
Идея, оставляя мирское, обрела новую черту – она теперь могла казаться навязываемой, искусственной, придуманной. А следом появилось понятие естественной жизни. Естественное логично проложило дорогу романтизации повседневности – 60-м годам. По всей толще советской жизни начались мелкие и крупные столкновения между заново открываемыми или новыми естественными общностями и идеей. Школа – двор, институт – студенческое братство, работа – увлечения, походы и туристские костры, колхоз – деревня, комсомольская организация – дружба, долг – любовь, бюрократ – научный работник, беззаветно служащий науке и прочее.
Из-под тяжкого спуда войны стало доставаться многое другое. И дворовое, «арбатское», – в том числе. Хотя последнее скорее – расставание, плач о несостоявшейся обычной человеческой жизни. Война, отодвинув идею, оголила и все эти простые возможности. Первая любовь, погибшие одноклассники, мирная довоенная жизнь…
Наш двор в 50-е годы оказался в межвременье. В 20–30-е годы идея наступала на повседневность, разрушая вековой семейный уклад. Разрывалась связь между отцами и детьми. Миллионы людей побежали в большие города, крестьяне становились рабочими и инженерами. Но повседневность контролировалась и управлялась идеей. Как и где ты будешь жить, сколько у тебя будет коров, земли или имущества – это решало государство или отдельный человек, но обязательно по договору с государством.
На смену связке я – семья – государство уже к началу войны пришла другая связка: я – государство. Которая стала главной для детей, родившихся после 1920 года.
Именно эта связка, прежде всего, и передавалась родителями детям, родившимся после войны. Семья – это лишь промежуточное звено, самое важное – это твои отношения с государством, начинающиеся очень рано, еще с детского сада. Таким образом наши отцы передавали нам свободу от себя, стремясь одновременно передать нас государству, в чьих руках находились они сами.
Украина. Первая любовь. Часть 1
Мы сняли две маленькие комнаты в домике на зеленой улице в местечке под названием Остёр в Черниговской области. Первым делом бабушка бросилась меня кормить. Но и без всякого принуждения у меня через пару недель открылся зверский аппетит. Я мог запросто съесть яичницу из пяти-шести яиц из-под домашних кур и заесть здоровенным куском хлеба с салом (сало там продавали в таких небольших брикетах, похожих на сливочное масло, в шуршащей бумаге, посыпанное крупной солью). Бабушка ходила на городской рынок и покупала свинину на косточке. А на полдник и ужин я выпивал галлоны домашнего молока и заедал творогом со сметаной. Уж не говоря о том, что у хозяина нашего домика был роскошный сад, и там росло все, что могла дать черниговская земля.
Когда в отпуск приехал отец, мы обедали за столом в саду, и мама подала ему большущую тарелку борща. Отец взял в руку ложку, и тут ему в тарелку со свистом, прямо, как граната, залетела огромная груша, упавшая с дерева. Весь борщ оказался у нас на одежде и лицах. Мы попадали со скамеек со смеху, особенно увидев испуганно-удивленное лицо отца, который сразу не понял, в чем дело. Долгие годы в нашей семье бытовала присказка: «Что такое Остёр? Это место, где груши падают в борщ».
