Голоса
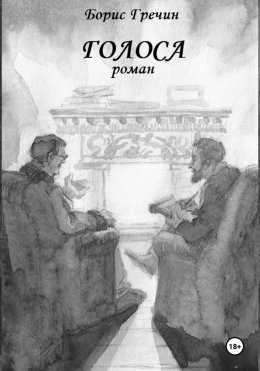
Из глубины
Роман Бориса Гречина «Голоса» погружает читателя в русскую историю первой четверти прошлого века. Но это не исторический роман. Писатель избирает более сложный путь для того, чтобы осмыслить произошедшее с русским обществом и российской государственностью сто лет назад. По сюжету, преподаватель провинциального вуза и группа его студентов начинают проект, который называется «Голоса перед бурей». Они исследуют события, связанные с 1917 годом, и центральные фигуры этих событий. Но то, что могло быть просто академической историей, неожиданно уходит в другую сторону.
Современные герои романа пристально и вовлечённо смотрят на чужие судьбы через «цветные стёкла своих умов». Они отождествляются с теми, кого выбрали для изучения. За чтением исторической литературы, аналитическими статьями следует драматизация событий. Но этот театр постепенно оборачивается мистерией. Преподаватель и студенты живут параллельно революционной эпохе начала века. Они, настроясь на сохранившуюся память о совершившемся, повторяют поступки Николая II, его супруги, всех тех, кто участвовал в отречении царя. Они судят прошлое и одновременно судят сами себя – не только как «точки контрапункта на параллельном нотном стане», но и как исторических наследников. Борис Гречин опровергает в романе идею о том, что сыновья не отвечают за отцов. С мистической точки зрения, «все за всех виноваты» и все вынуждены решать незакрытые вопросы, в том числе столетней давности. Современные герои «Голосов» не просто повторяют историю, они пытаются, пережив прошлое, проверив возможность его альтернатив, изменить будущее. Они оказываются чем-то вроде инструментов, на которых играет русская история. Причём инструментами наиболее подходящими. И преподаватель, и каждый из студентов не просто вживаются в своего персонажа, они уже изначально с ним отчасти совпадают. И их особенности, имена, внешность, характеры, позволяют читателю по-иному взглянуть на известные исторические фигуры. Например, увидеть нечто «женское» в А. Ф. Керенском или «иудейское» в В. В. Шульгине.
Современные герои романа оценивают поступки своих исторических визави с разных сторон – с юридической, психологической, религиозной. Но, кажется, основной модус восприятия реальности в «Голосах» – мистический. В смысле установления тонких связей между различными узлами русской истории, между поступком в истории и его причинами и следствиями, между разными людьми, часто далеко отстоящими друг от друга в пространстве и времени. История в книге предстаёт чем-то живым и более сложным, чем просто и только история.
Роман Бориса Гречина – это также разговор о современной высшей школе, о русской церкви, о политике. Писатель утверждает возможность и необходимость творческого, поискового отношения к любой сфере человеческой жизни. Коллектив, состоящий из преподавателя и студентов, по нынешним временам действует очень смело. Они совершают поступки, соразмерные сложным задачам истории, они сопротивляются строго рациональному и прагматическому взгляду на мир, они позволяют себе использовать методы, практически не принимаемые современной наукой, они не боятся обозначать в себе и в других национальные, половые, культурные особенности, и ни на что не обижаются. Сегодня про такое говорят: коллектив здорового человека.
Наконец, преподаватель и студенты в «Голосах» дерзают создать на время царство из нескольких человек и пережить его распад. Из русской истории они выносят опыт мужества и страха, предательства и жертвы, гордости и молитвенного покаяния, гибели и возрождения. И этот опыт, конечно, может вынести для себя и читатель романа. Смерти нет, история сохраняется и продолжается, её живые голоса по-прежнему звучат из метафизической глубины.
Л. В. Дубаков
канд. филол. наук
Глава 1
[1]
Весной года, в котором пишутся эти строки, я заболел новой поразившей весь мир хворью и две недели провёл в постели, соблюдая строгий график приёма лекарств.
Все отложенные раньше на «когда-нибудь» фильмы были пересмотрены, и на второй неделе я взялся за книги. Увы, художественные тексты «не шли». Помнится, герой «Возвращения» Станислава Лема проницательно замечает, что, находясь на космическом корабле, невозможно читать всерьёз истории о том, как некий Питер нервно курил, поджидая некую Люси, и как эта Люси вошла, и какого цвета на ней были перчатки. Долгая болезнь чем-то похожа на межзвёздное путешествие: и первая, и второе могут стать губительными. Я хоть уже и выздоравливал, но душа к беллетристике не лежала. Поневоле я обратился к истории, не брезгуя и научными трудами, и обычными учебниками, и биографиями, и историческими романами, и псевдоисторическими. Так, с немалым удовольствием и всего за пару дней я проглотил книгу о Сталине, написанную Троцким. (То ещё чтение для здорового человека, конечно. Что-то, видимо, делает этот новый вирус не только с лёгкими, но и с мозгом…) Ещё бы немного, и я добрался бы до протоколов знаменитых сталинских открытых процессов – но, к счастью, поправился.
В ворохе прочитанных книг – все их я находил в сетевой библиотеке, название и адрес которой не буду рекламировать – одна привлекла моё особенное внимание. Называлась эта книга «Голоса перед бурей», подзаголовок пояснял, что речь идёт о русской истории с 1914 по 1917 год и об опыте её художественного исследования, что бы это ни значило. Представляла собой эта книга сборник текстов самого разного характера: фрагментов подлинных документов тех лет вроде писем или телеграмм, биографических эссе, статей, отражающих пульсацию мысли исследователя, стенограмм бесед некоей творческой группы, пытавшейся воскресить в своём коллективном уме события тех лет, протоколов заседаний воображаемого «суда истории», драматических отрывков, которые отображали то ли действительные события, то ли их альтернативные версии, то есть пробовали ответить на вопрос «А что было бы, если?..» – и так далее.
Сборник, правда, вовсе не претендовал на некий исследовательский прорыв, и в предисловии к нему специально оговаривалось, что издание следует считать научно-популярным, а не строго научным. Но восхищала сама мысль о том, что в наше прагматичное время некая группа единомышленников собралась вместе, чтобы получить досужее удовольствие от игр своего ума – а кто-то из этой группы не поленился собрать воедино, обработать, отредактировать и издать весь созданный материал.
Отдельной приятной неожиданностью стало для меня то, что книга оказалась издана в нашем городе! Счастливая Касталия была совсем рядом, хотя, повторюсь, я не мог вообразить себе существование такого дружного и плодовитого исследовательского коллектива в провинции – и испытал, что греха таить, минутный приступ зависти к кому-то, кто не только может позволить себе воспарить над серой повседневностью, а ещё и монетизировать свой полёт мысли. Или авторы сборника работали над ним в своё свободное время и на общественных началах? Но как все они – а было их много, едва не больше десяти – сумели найти такую уйму свободного времени?
В самом конце книги, среди технической информации, был мелким шрифтом указан адрес электронной почты редактора книги, некоего А. М. Могилёва, с просьбой направлять на этот адрес замечания и предложения. Путём недолгого поиска в Сети я обнаружил, что Андрей Михайлович Могилёв некоторое время работал на кафедре отечественной истории нашего местного государственного университета. Вновь меня уколола невольная зависть: какая сильная кафедра! И какая дружная! И даже – какая многочисленная! Не все же коллеги Могилёва по кафедре согласились с ним писать этот сборник, кто-то отказался, и если при том одних волонтёров набралась почти дюжина, сколько же в действительности человек работает на кафедре отечественной истории в госуниверситете?
А вот ещё нестыковка, несообразность: лаконичная информация на сайте вуза сообщала, что был Андрей Михайлович простым доцентом. У заведующего кафедрой есть немало способов привлечь своих подчинённых к той или иной работе, а у доцента – какие могут быть способы? Выходит, всё делалось на голом энтузиазме?
А я ведь мог себя считать бывшим «коллегой по цеху» незнакомого мне Могилёва: я тоже несколько лет работал в вузе (правда, в другом), и память говорила мне, что основная масса сотрудников любой кафедры никаким особым энтузиазмом и горением не отличается. Да и попробуй-ка отличись этим горением, когда из года в год говоришь одно и то же, изо дня в день тащишь на себе груз педагогической рутины, в котором помимо собственно преподавания есть и руководство учебной практикой студентов, и написание статей (пресловутая «научная деятельность», бледная по виду, бессодержательная по существу), и кураторство, и работа с дипломниками, и рецензирование проходящих через кафедру диссертаций, и тягомотные заседания кафедры, и участие в юбилеях и иных застольях по поводу и без повода!.. Выходит, ничего такого нет на кафедре отечественной истории в госуниверситете, и создан там чистый рай для преподавателей? (Третий укол зависти.) Или, может быть, Андрей Михайлович – такой подвижник, такой семижильный человек, что и самому ему достаёт сил заниматься научным поиском за рамками рабочей рутины, и своих коллег он, не имея никаких административных рычагов, щедро одаривает этими силами, заражает любовью к своему делу, так что хватает на целую научную бригаду? («“Одаривал” и “заражал”, – поправил меня внутренний голос. – Теперь ведь он в вузе не работает».)
Как бы и мне заразиться этой любовью и разузнать секрет вечной учительской молодости?
[2]
День моего окончательного выздоровления совпал с днём начала моего отпуска.
В этот день я написал редактору сборника «Голоса перед бурей» электронное письмо, в котором восхищался сделанным, отдавал должное его умению объединить усилия своих коллег над одним проектом и выражал что-то вроде осторожной надежды на знакомство. Письмо я отправил на указанный в книге адрес.
Ответ пришёл мне вечером того же дня.
Уважаемый Борис Сергеевич!
Благодарю Вас за высокую оценку моей скромной работы.
Честное слово, Вы преувеличиваете и степень моего энтузиазма, и мой «организаторский гений». Мои соавторы – это не коллеги по кафедре, а студенты четвёртого курса, у которых я семь лет назад был куратором учебной группы. Как видите, ларчик открывается просто, без всяких чудес. Наш с ними «проект» – это особого рода история, которая едва ли кому-то будет интересна, особенно спустя столько лет…
Был очень рад прочитать Ваше тёплое письмо и буду рад дальнейшему знакомству, хотя бы и заочному (пишу «заочному», так как боюсь, что у Вас сейчас, в июне, настала горячая экзаменационная пора, и Вы едва ли выберетесь меня навестить).
С искренней признательностью,
А. М. Могилёв
Этот ответ, который должен было меня убедить в том, что «ларчик открывается просто», действительно снял ряд недоумений, но поставил новые вопросы. Неужели почти все тексты в сборнике действительно написали студенты?! Что ж, у меня нет оснований не верить редактору – но ведь и не заподозрить студенческого авторства, если не знать о нём! Какая недетская, неюношеская даже, глубина погружения в материал, смелость мысли, свобода в обращении с гипотезами, проникновение в характеры героев той эпохи! Или Могилёву очень повезло со студентами, или он – всё же педагогический гений своего рода. Да, в конце концов, когда они нашли время для такого масштабного проекта, на четвёртом-то, выпускном для бакалавров, курсе?!
В новом письме я задал эти вопросы и, рискуя показаться навязчивым, сообщил, что никакими экзаменами сейчас не обременён, что наслаждаюсь только что начавшимся отпуском и что буду очень рад личной встрече. Признался и в том, что меня манит «особого рода история» написания сборника и что мне очень хочется услышать её от главного автора. Оговорился, конечно, что моя просьба граничит с бестактностью, особенно если мой новый знакомый занят более важными делами, что заранее прошу прощения за эту бестактность, что предлагаю собеседнику не стесняться отказать мне в такой встрече, и прочее, и прочее: всё, что в таких случаях должен написать вежливый человек.
В новом ответе Могилёв, чуть насмешливо отозвавшись о моей несколько преувеличенной щепетильности, писал, что и сам будет рад познакомиться со мной, что называется, вживую, а также предлагал навестить его дома завтра около пяти вечера. Жил он в собственном доме в дачном посёлке и, боясь, что я не сразу разыщу его дом, любезно приложил к письму нарисованную от руки схему проезда.
[3]
Калитка открылась через минуту после моего звонка. Андрей Михайлович приветливо потряс мою руку. Я узнал его по фотографии с сайта госуниверситета, где, правда, Могилёв был лет на десять моложе. А эту короткую профессорскую бородку, тёмно-русую с рыжинкой, он носил уже и тогда, только прибавилось в ней седины, да ещё пара морщин залегла на лбу, в общем, теперь он выглядел на все свои сорок шесть.
По дороге к дому мы обменялись немногими малозначащими фразами. Я, кажется, похвалил дом: просторный, двухэтажный, семейный, из толстого бревна, с кирпичной дымовой трубой.
Мы расположились в комнате справа от большой прихожей. Эта комната была чем-то средним между рабочим кабинетом и библиотекой: одна из стен полностью занята книгами (стеллаж шёл вплоть до высокого потолка, а рядом стояла небольшая деревянная лесенка из трёх ступеней), у другой – письменный стол, у стены напротив входа – настоящий камин с двумя удобными креслами, в которые мы и сели.
Камин был потушен, но хозяин – он ненадолго отлучился в кухню и вернулся с чаем – пояснил, что в холодные дни топит его даже летом. Я шутливо заметил, что камин – идея-фикс русского интеллигента, верней, даже не сам камин, а связанная с ним мысль об английской самодостаточности частной жизни. Могилёв со мной отчасти согласился, при этом не поленившись сослаться на Льва Гумилёва и его знаменитую фразу «Я не интеллигент – у меня профессия есть».
– Какая, если не секрет? – полюбопытствовал я.
(Примечание: здесь и далее я буду отделять свои реплики от реплик своего собеседника двумя абзацами.)
– Я – консультант в одной компании, – отозвался мой собеседник, – кроме того, руковожу одной небольшой некоммерческой организацией. Всё это едва ли интересно…
– Вы не жалеете о том, что ушли из педагогики?
Андрей Михайлович ответил не сразу.
– Да и нет, – проговорил он, сосредоточенно глядя перед собой. – Жалеет ли солдат о том, что покинул передовую после ранения? В первые недели, думаю, ни секунды. А после, даже через годы, это всё даёт о себе знать…
– Начинает сниться?
– Да, – согласился он. – Мне до сих пор снятся сны о том, как я стою за лекторской кафедрой. Это ведь тоже своего рода война, то есть если к ней относиться неравнодушно, а любая война изматывает… Но и уклоняться пóшло. Каждый поэтому сам ищет меру того, сколько лет этой службы ему посильно отстоять. Видите, разве я могу дать простой ответ на ваш вопрос?
– Вы так хорошо говорите, что хочется не потерять ни слова! А вот у меня как раз и диктофон с собой – как знал… Вы не против?
Собеседник улыбнулся краем губ. Ответил:
– Не против, хотя слишком уж много внимания к моей скромной персоне.
– Не столько к ней, сколько к вашему проекту, потому что он очень, очень меня захватил! – признался я. – И даже не результатом, а тем, как именно вы над ним работали. Мне показалось, что на наших глазах из ниоткуда возникло некое волшебное сообщество счастливых интеллектуалов, свободных от рутины серых будней, некий ludi magistri unio1, выражаясь языком Гессе, и эти исследователи занялись великолепной игрой в исторический бисер без оглядки на кого-либо, даже на условности науки и даже на читателей вашего будущего сборника. Вот это меня привлекло!
– Как замечательно, что вы вспомнили Гессе! – с теплотой ответил Андрей Михайлович (мне показалось, что при упоминании немецкого автора всё его лицо как-то разгладилось, смягчилось). – Да, меня тоже тогда посещал этот восторг исследовательского полёта, и именно это сравнение приходило на ум. Увы, любая игра заканчивается, иногда трагично. Я, к счастью, не утонул, как Йозеф Кнехт, и на том спасибо… Только тогда уж не в бисер – в крупный жемчуг. Мы, заурядные люди невообразимо пошлого века, брали в руки крупный жемчуг столетней давности и рассматривали его на солнце под разными углами… Не Бог весть какое достижение.
– Всё же большое, потому что другие жители нашего «невообразимо пошлого века» предпочитают рассматривать дешёвые стекляшки повестки дня, а не жемчуг старины, – парировал я.
– Это лестно, спасибо.
– И я хотел бы, Андрей Михайлович,– перешёл я в атаку, – узнать от вас все подробности работы вашей группы – если у вас есть досуг и желание, конечно. Может быть, в ходе наших бесед родится текст, который, поверьте, я опубликую только после того, как вы его одобрите.
– У меня действительно есть и время, и желание, представьте себе! – откликнулся собеседник. – Меня останавливает только чувство естественной скромности, да ещё… Вам не кажется, что в вашей затее имеется отчётливый привкус постмодерна? Простите, если это прозвучало обидно.
– Вы имеете в виду то, что я буду описывать не саму историю, а тех, кто работал с историей, писать исследование про исследователей? – догадался я.
– Именно.
– Да, это правда… но что же делать! Время жизни ограничено, а я – не Александр Солженицын, чтобы покушаться на создание нового «Красного колеса».
– А ведь он тоже не успел закончить свой труд, не знаю, конечно, насколько уместно «тоже» – мы ведь что-то закончили, хотя некто и скажет про нашу работу: «Гора родила мышь», – проговорил Могилёв, как бы размышляя вслух. – Кстати, наша работа в моих глазах, по крайней мере, была отчасти полемикой с Солженицыным и с теми акцентами, которые он невольно – невольно, подчеркну – расставлял. При этом, сумей он довести своё «Красное колесо» до конца, мы бы, возможно, даже не приступили к «Голосам» – зачем идти уже пройденным путём? А тут тропинка оборвалась в снегу, и захотелось протоптать её дальше.
– Вот видите, как интересно! Пожалуйста, рассказывайте.
Андрей Михайлович развёл руками.
– Я даже не знаю, с чего начать! – шутливо отозвался он.
– С самого начала.
– Хорошо, но «с самого начала» в моём случае означает, пожалуй, с моей юности. Неужели это тоже важно?
– Безусловно, – подтвердил я.
[4]
– Так и быть, я готов начать с юности, злоупотребляя вашим терпением, – заговорил рассказчик. – Я вырос в православной, воцерковлённой семье. Матушка пела на клиросе, а отец…
– …Был священником?
– Не угадали: реставрировал иконы и фрески. Он уже нежив, царствие ему небесное. Предполагалось, что по духовной линии может пойти ваш покорный слуга. Обсуждалось даже, что я мог бы закончить старшие классы в православной гимназии…
– А что помешало?
– Да, видите, просто не было в девяносто втором году достаточного числа православных гимназий, они только-только начали появляться! Одна, например, за год до моего окончания девятого класса открылась в… – собеседник назвал один из небольших городов в нашей области2, – не так уж далеко. Но этот город – совсем глухая провинция… и где жить старшекласснику, и на что? Хотя, кажется, отец звонил директору гимназии, строились серьёзные планы. Родители решили, что мне, так и быть, следует закончить свою школу в областном центре, но пробовать поступать в духовную семинарию – или уж сразу в Московскую духовную академию, если сподобит Господь. Ну что же, я готовился к этому, посещал катехизические беседы с батюшкой, штудировал толстый томик «Закона Божия». А поступил в итоге…
– Куда?
– На факультет иностранных языков в педагогический университет. Почему – и сам затрудняюсь сказать: что-то толкнуло. Чувство протеста, пожалуй. Я не «русский интеллигент», даже и близко нет! Пошлое название и пошлое сословие – в России со времён «Вех» ничего не поменялось, и по-прежнему можно подписаться под каждым веховским словом. Но если и есть во мне некая интеллигентская жилка, то она – именно в готовности к фронде, к нежеланию подчиняться тому, что решили за меня и до меня. Я при этом не был враждебен Православию, отнюдь! Я – как бы сказать это? – считал, что оно от меня никуда не уйдёт и что не нужно в Церковь вступать желторотым юнцом, ничего не знающим и не умеющим: невелико будет приношение.
Однако в семье меня не поняли, отношения с родителями охладели, и к последнему курсу я переехал вместе с одним приятелем на съёмную квартиру.
– Небось, и девочки появлялись на этой квартире? – не смог я удержаться от вопроса. – Простите, если…
– Сейчас, сейчас! Девочки будут совсем скоро…
[5]
– Окончание вуза поставило меня перед выбором: армия, сельская школа или аспирантура. Армия в ельцинские времена была местом несколько чрезмерно грубым и по царившим в ней нравам больше смахивала на тюрьму, чем на армию порядочного государства. Впрочем, не оправдываю себя, а всего лишь поясняю причины, по которым не захотел тогда призываться: я не видел большой доблести сражаться со старослужащими ножкой от табурета и пасть в этом сражении с проломленной головой. Возможно, в таких мыслях была доля высокомерия, некоего пошлого снобизма… но, повторюсь, я просто рассказываю свою историю, а не делюсь душевными терзаниями. Я выбрал сельскую школу, но при этом сумел сдать вступительные экзамены в аспирантуру. Причём по специальности «отечественная история», о чем ещё за два месяца до получения диплома специалиста даже и не думал, представьте себе!
– Почему именно история?
– Так сложилось. Дело в том, что свой диплом я писал по стилевым и грамматическим особенностям английской письменной речи начала XX века. Среди прочего я пользовался мемуарами Генбури-Уильямса, или Ханбери-Уильямса, как обычно записывают его имя. Его воспоминания – это, фактически, беллетризованный дневник.
– Увы, не слышал этой фамилии, – пришлось признаться автору.
– Это – английский военный атташе при ставке последнего Государя. Ну и, коль скоро мы заговорили о Государе, мимо его собственных писем, как и мимо писем Александры Фёдоровны, этой особой и трагической фигуры, я тоже не смог пройти. Они ведь переписывались по-английски, вы знаете об этом? Там и сям допуская небрежность в орфографии, но в целом – чистым, свободным языком. Именно тогда я начал, параллельно со своим дипломом, писать работу по истории, как бы зародыш будущей докторской и одновременно стартовую площадку для наших «Голосов». Эту работу я показал нашему преподавателю истории, с которым у меня сохранились тёплые отношения – он за это время перешёл в другой вуз. А Мережков ухватился за неё и, так сказать, перетащил меня на свою кафедру в госуниверситет, то есть в качестве аспиранта, конечно, но без его протекции я бы никуда не поступил. Кроме прочего, на факультете иностранных языков в педвузе диссертационного совета не было, да и докторов наук не хватало, а на историческом факультете диссовет был, и Аркадий Дмитриевич за пару лет до этого защитил докторскую, получил профессорское звание. Моя благодарность к нему смешивается с чувством вины – причём, знаете, сильной вины, с отчётливым горьким привкусом.
– Какой вины? Вы можете не рассказывать, конечно.
– Нет, отчего же? Я расскажу: пусть читатели вашей книги, если когда-нибудь родится книга, не строят никаких иллюзий в моём отношении. Тем более что мой бывший научный руководитель умер в прошлом году. Узнал об этом совершенно случайно, но, не узнав, конечно, постеснялся бы это всё вспоминать.
[6]
– Аркадий Дмитриевич был человеком, пожалуй, суховатым, малоэмоциональным, но при этом в личном общении очень простым. Его интересовала научная истина per se3, и ради этой истины он охотно пренебрегал условностями или, скажем, дистанцией между юным аспирантом и доктором наук. Моё кандидатское исследование касалось печально известного белогвардейского восстания в нашей губернии. Это восстание в обиходе называют «мятежом», до сих пор используя словесное клише, созданное при Советской власти, хотя, казалось бы, сейчас-то какая опасность отойти от этого клише? Только лень ума… Сама тема обязывала меня работать с архивами, во-первых, и с редкими провинциальными изданиями, во-вторых. Часть этих изданий была в личной библиотеке моего научного руководителя. Он поэтому поощрял мои визиты к нему домой и познакомил с женой, а жена Аркадия Дмитриевича была, так сложилось, на двадцать лет его младше…
– Кажется, я догадываюсь, – пробормотал я.
– Да тут несложно догадаться!
Мы оба немного помолчали.
– Я сопротивлялся как мог, – продолжал Могилёв. – Первый шаг сделала она. Назовём её хоть Алей, Аллой Александровной – фамилию и отчество я изменил. Только-только переставали быть предметом роскоши, входили в повседневность сотовые телефоны – тогда ещё в ходу были эти большие трубки, со штырьком антенны, вы их, наверное, уже не застали, – и вот Алла Александровна мне написала какое-то ничего не значащее, но личное сообщение. Потом – как-то само собой так вышло – мы оказались вместе на концерте классической музыки. Профессор хотел пойти на концерт с женой, но у него образовались дела, и Аля сказала мужу, что отдаст билет подруге – видимо, я проходил по категории «подруги»… Ещё вроде бы не предосудительное дело, верно? Но уже тогда можно было увидеть, к чему всё идёт. После – совместные прогулки, осторожные слова, полунамёки, четвертьпризнания. Одолженные друг другу книги – она была неравнодушна к литературе классической и современной, разбиралась в ней, и меня стремилась приохотить. Многозначительные фразы и абзацы в этих книгах, как бы нечаянно обведённые карандашом… Всё стало предельно ясно, когда Аля в шутку упрекнула меня, что попадёт из-за меня во второй круг ада. Почему? – спросил я. И тогда она посоветовала вспомнить историю Франчески да Римини.
– Но ведь в ад не попадают просто за… – осторожно заговорил я, увидев, что собеседник примолк и не спешит продолжать.
– Вы абсолютно правы! Просто за совместное чтение, посещение концертов и прочие такие невинные вещи в ад не попадают. Но беда в том, что у нас всё-таки дошло до… до плотского греха.
Моё очень малое оправдание в том, что мы оба были юны, и любили друг друга, и, наконец, я собирался на ней жениться после её развода, если бы только этот развод состоялся! А она была в ужасе от идеи о разводе. Конечно, меня тоже посещал озноб, потому что жизнь, не успев начаться, летела кувырком…
– Знаете, ваша история очень напоминает один из романов Хаксли, – произнёс я, чтобы перепрыгнуть через новую неловкую паузу.
– Хаксли? – удивился с некоторым облегчением Могилёв. – Я уж думал, «Анну Каренину». А что именно у Хаксли?
– The Genius and the Goddess.4
– Не дошли руки до этой книги. Советуете?
– Вам – как раз нет. Вам, пожалуй, будет мучительно её читать.
– Спасибо, что предупредили! – искренне и немного печально поблагодарил Андрей Михайлович. – Знаете, ведь воспитание своего ума не только в книгах, которые мы прочитали, но и в тех, которые мы не прочитали, то есть не прочитали к счастью для нас.
Но продолжу. О полноценном руководстве со стороны Аркадия Дмитриевича не могло теперь, конечно, идти и речи: мне было стыдно смотреть ему в глаза. Пока я искал выход, мой руководитель вызвал меня и, тоже глядя куда-то в сторону, сообщил, что получил место в московском вузе, оттого переезжает в ближайшее время. С женой, само собой. Я не уверен до сих пор, что он знал всё. Мог догадываться, конечно…
Я… – рассказчик приостановился, будто взвешивал следующую фразу, будто немного стыдился этой ещё не произнесённой фразы. – Я продолжаю молиться за них, то есть упоминаю их в молитвах, если «молиться» звучит высокопарно, с искренней надеждой на то, что всё обошлось, и возможно, буду это делать до конца своих дней, но после их отъезда я не видел Алю ни разу и никогда не пытался найти её профиль в социальных сетях. Это было бы верхом бестактности, понимаете? Её пронзительное прощальное письмо у меня сохранилось, но читать его, с вашего позволения, не буду: почему, тоже, надеюсь, понятно?
Я кивнул.
– С отъездом профессора Мережкова, – продолжил Могилёв, – в середине учебного года на кафедре отечественной истории образовывалась вакансия, которую, похоже, сам Бог велел заполнить молодым аспирантом, коль скоро другие сотрудники и так несли полную нагрузку. Но мне было исключительно стыдно пользоваться этой возможностью, учитывая, как именно появилась эта вакансия. А если я отказывался от места, я немедленно переставал быть интересным для кафедры, ведь в профессоре, с его внезапным отъездом, видели едва ли не предателя, теперь же ещё его ученик не желал помочь коллективу, как бы воротил нос от работы в университете. Мне хоть и не указали на дверь прямо, но дали ясно понять, что закончить аспирантуру мне будет нелегко. В общем, мне предстояло или брать нагрузку Мережкова, или, например, становиться соискателем на другой кафедре, даже в другом университете. Вот ведь и в педвузе изучали отечественную историю, да и на нашем городе свет клином не сошёлся. Или следовало впрягаться в лямку сельского учителя на годы вперёд. Или отслужить, в конце концов.
– И какую же из четырёх возможностей вы выбрали? – полюбопытствовал я.
– А вы угадайте! – отозвался собеседник юмористически.
– Четвёртую?
– Близко, но всё-таки мимо! Пятую. Я ушёл в монастырь.
[7]
– Вы умеете удивлять, конечно, – пробурчал я под нос. Андрей Михайлович рассмеялся.
– Я же говорю, интеллигентская фронда! Элемент жеста, внешней красивости здесь, конечно, был. Но и не только он. Я ведь успел понаблюдать за жизнью вуза и успел основательно разочароваться в этой мышиной возне, в официальной науке как таковой, потому что собственно науки в ней, дай Бог, одна десятая, а остальное представляют собой ритуальные действия, танцы дикаря перед идолом общенаучных условностей. Вы и сами, наверное, это знаете… Потóм, не забывайте, пожалуйста, что мне всё-таки было очень стыдно.
– Никто же не погиб? – уточнил я осторожным полувопросом.
– Нет, никто не погиб, и слава Богу, но я ведь расколол семью – разве этого мало? Пусть и не расколол, просто способствовал глубокой трещине, но даже такие трещины нелегко извиняются. Что бы вы, например, стали делать на месте Мережкова? А? То-то же… Аля, поймите, не собиралась быть неверной своему мужу! Это была её первая измена.
– Думаете, не последняя?
– Очень надеюсь, что последняя, но кто знает! Есть жуткий закон психической жизни, согласно которому мы почти всегда, совершив что-то дурное, уже начинаем оправдывать этот поступок – и похожие поступки в будущем. Иначе ведь можно с ума сойти… Я поговорил с отцом, у которого были знакомства в церковных кругах, и благодаря отцу меня приняли простым послушником в провинциальный мужской монастырь, кстати, в том же самом городе, где находится гимназия, куда я во время óно так и не поступил. Так у меня и не получилось убежать от «духовной стези». Забавно, правда?
[8]
– Время, проведённое в монастыре, – продолжал рассказчик, – это, думаю, самые счастливые годы моей жизни.
– Несмотря на то, что вы из него вышли? – само собой спросилось у меня. – А почему, если не секрет?
– Всё в своё время… Как «учёному» мне поручили заведование монастырской библиотекой. Ах, да, ещё я преподавал историю и английский язык в православной гимназии при монастыре. Той самой! С такими благонравными детьми это было совершенно несложным, почти стерильным занятием.
Забыл сказать: я всё же не бросил аспирантуру полностью, а перешёл в разряд соискателя. Меня закрепили за одной пожилой дамой по имени Беатриса Васильевна (представьте себе имечко!). По причине старости она находилась в оппозиции ко всем прочим сотрудникам и, по той же причине, ничего не боялась. Ей наверняка нравилось дразнить гусей и опекать кого-то с такой скандальной славой! Я ей и сам нравился… только не подумайте ничего дурного на этот раз!
– Даже не собирался…
– Итак, я понемногу кропал свою диссертацию, без особого рвения учительствовал, без большой горячности молился и горя себе не знал – то есть, как минимум, первые годы.
– А после?
– После… Я даже затруднился бы сказать, что случилось «после», потому что внешне всё обстояло благополучно. Я не спеша поднимался по церковно-карьерной лестнице, из послушника стал монахом, после – иеродьяконом, и – вы не поверите! – в последний год меня рукоположили в иеромонаха! Ещё бы пять или десять лет – я мог бы стать отцом ризничим, или отцом благочинным, или даже, бери выше, монастырским духовником. Именно такие разговоры велись в связи с очень почтенными годами нашего духовника, отца Феофана, даже образовалась небольшая интрига, две партии, одна из которых поддерживала меня в качестве кандидата на это место, а другая была против. Бесконечно скучно, даже не буду рассказывать… Но беда была в том, что я перестал чувствовать сцепление с тем делом, которым занимался. Не духовное родство, поймите меня верно! Именно сцепление. Я не охладел к православию и не «вырос» из него. Я, напротив, в своём продвижении по этой лестнице перестал как человек соответствовать масштабу её ступеней, и с каждой ступенью – всё больше. Например, послушнику ещё позволительно испытывать «плотское томление», ему позволительно развлекаться злобой дня вроде чтения всяких статеек или даже, извините, просмотра всяких забавных картинок в Сети, а монаху – насколько хорошо? А иеромонаху? А будущему духовнику? В первые годы своего пострига я честно полагал, что сумею быть достойным аскетом и, так сказать, взобраться по «лестнице Иакова». Но я переоценил свои духовные дары. Да и вообще людный современный монастырь не очень располагает к поднятию по этой лестнице – и Боже вас упаси подумать, что в этой мысли содержится хоть капля критики теперешнего монашества! Гений святости сумел бы нравственно соответствовать каждой новой ступени. Я, увы, не гений святости.
Последние два года моей монастырской жизни к моему чувству собственного недостоинства прибавился скептицизм в отношении «слишком дешёвой аскезы». Мне казалось, что мы все ушли от мира не ради духовной битвы, а из фальшивого высокомерия духовной элиты, которой на самом деле не являемся, создали закрытую корпорацию мастеров церковной игры. Роман Гессе, который вы вспомнили в самом начале нашей встречи, был мне тогда болезненно, до некоего содрогания близок – вот, кстати, почему я к вам проникся невольным доверием, едва вы его вспомнили: мы говорим схожим языком и думаем схожие мысли. Я даже пытался обсудить «Игру в бисер» с кем-то из братии – хотя я ни с кем очень уж близко не сошёлся… И, как и в Йозефе Кнехте, во мне зрело желание оставить эту Касталию и искать свой пруд. Даже утонуть в нём, если судьба к этому приведёт.
А вообще, событие, после которого я принял окончательное решение уходить, оказалось внешне совершенно ничтожным. Ко мне на исповедь пришла девушка. Бог мой, понятия не имею, почему именно ко мне! Полноценной исповедью с догматической точки зрения это тоже нельзя было назвать, я ведь не отпустил ей никаких грехов. Так, разговор… Девушка эта мне покаялась в сомнении и маловерии – но не во Христа, заметьте. Не в бытие Христа – а в христианство как религию, в состоятельность христианства. Может быть, даже в некие краеугольные камни христианства, в безусловную твёрдость этих камней. Было в этом нечто кирилловское – в смысле одного полоумного персонажа «Бесов», если только вы его помните. Но позвольте, я вам прочту! У меня до сих пор на этом месте лежит закладка.
Встав из кресла, Андрей Михайлович дошёл до книжных полок, взял в руки книгу, открыл её на заложенной странице и прочитал с некоей пробирающей выразительностью:
Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека – одно сумасшествие… А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?
Мы оба помолчали.
– Вся трагедия моей пошлой жизни в монастыре, – продолжал Могилёв, – в том и состояла, что я не знал, чтó ей отвечать. И не мог же я отделываться некими штампами из учебника для семинаристов, кургузыми клише! Хотя с ходу был способен вспомнить дюжину таких штампов. «Нет испытаний не по силам», или «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно нужно»5, или «Где был ты, когда Я полагал основания земли?»6. И прочее, и прочее. Повторюсь, гений праведности или мудрец-богослов знал бы убедительный ответ. Знал бы святой Тихон Задонский, отец Сергий Булгаков знал бы. Скажите мне: где я Тихон Задонский? В каком месте, извините за просторечие, я Сергий Булгаков? В чём я и признался, почти теми же самыми словами. Девушка поблагодарила меня за искренность, горячо поблагодарила, и ушла. Через два месяца из монастыря ушёл и ваш покорный слуга.
– А разве это так легко сделать? – засомневался я.
– О, что вы говорите, легко! Почти невозможно! «Дерзнувших на сие предавать анафеме». Правило семь Четвёртого Вселенского Собора. Мне пришлось получать специальное разрешение от правящего архиерея, а тот упорно не хотел его давать, потому что моё бессилие в качестве духовника, в котором я честно признался и рассказал все подробности дела, для него было самой ничтожной причиной. Владыка Роман считал, что я попросту горд, что непомерно вознёсся в интеллектуальной гордыне, потому что, по совести, и он не знает, как ответить на вопрос Кириллова, но не претыкается об это своё незнание, кольми менее него я должен претыкаться. «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». От Луки святое благовествование, глава шесть, стих сорок. И что же мне было ему отвечать? То, что митрополит – не непременно учитель? Но разве такой ответ не показался бы тоже гордым? Не подумайте только, что, рассказывая обо всём этом, бросаю камень в священноначалие! Владыка был прав, пусть и не на все сто процентов, но если и на шестьдесят, да хоть на тридцать – у кого вообще развяжется язык его критиковать? Да, и вы, и я – мы оба знаем людей, у которых легко об этом развяжется язык, но все они – не те люди, с которыми нам хочется беседовать о самом важном.
– Вы правы, – согласился я.
– Благодарю вас! Это я, я оказался никудышным монахом, я и никто другой! Но тогда мне пришлось пригрозить, что оставлю обитель без всякого разрешения, так что я из него, можно сказать, выдавил эту икономию7. А ведь владыка ещё вступил со мной в торги: допытывался, не женщина ли причиной, предлагал жизнь в миру без оставления монашества, тайным монахом, так сказать… Эх! – Андрей Михайлович сделал неопределённый жест рукой, его лицо как-то скривилось. – Неловко вспоминать. То есть за себя тоже неловко. И всё же моё «неловко» – это именно неловкость, а не стыд, не тот стыд, который ощущаю за случившееся с профессором Мережковым и его женой. У меня не было морального права оставаться в монастыре, поэтому и до сих пор считаю, что всё сделалось к лучшему.
[9]
– Забыл вам рассказать, что кандидатскую защитил ещё в монастыре, – продолжил Могилёв после паузы. – На защите я был в полном облачении. А после того, как я снял подрясник, на меня наложили эпитимию, то есть не просто покаяние, а ряд ограничений. Я не лишён сана, но воспрещён в служении на неопределённое время: вполне возможно, что до конца жизни. Мне также было тогда объявлено, что в течение неопределённого времени я не смогу сочетаться церковным браком, а ходатайствовать о снятии этого прещения получу право лишь через семь лет. В чём был смысл снятия запрета только после моего личного ходатайства? Бог весть… В том, вероятно, чтобы я, гордый человек, явился сам, смирил гордыню. Похвально и даже мудро, если глядеть на это святоотеческими глазами. Но, боюсь, в моём случае вовсе негодно. Не из гордости же я покидал монастырь! А если и из гордости, то не из того вида гордости, которую следует возбранить. Священноначалие, видимо, считало иначе… Да и, наконец, воспитывать смирение следует в своих духовных чадах, если же монах объявляет вам, что из монастыря желает выйти, этим самым он перестаёт быть вашим духовным чадом, а становится почти что посторонним человеком! Почти – или вовсе? Вот в чём вопрос… Ведь если вовсе – прекращается и моё христианство?
Последнее ограничение, то есть вообще само то, что оно было наложено, я мог бы оспорить, хоть это и не принято в православии, ведь мой выход из монашества совершился не по причине «любодеяния». То есть, конечно, как посмотреть: можно было бы припомнить мне то старое любодеяние, но в нём я уже покаялся и за десять-то лет уж должен был его отмолить? Или нет? Итак, я мог бы спорить, но считал и продолжаю считать такие споры бесконечно пошлыми. Меня посетила тогда простая мысль. Не знаю, насколько верная, возможно, даже еретическая, поэтому вам её не советую. Вот какая мысль: браки заключаются на небесах, и, если это таинство брака на небесах произойдёт, чтó к нему прибавит земное церковное венчание? А если не совершится, опять же, чем оно поможет? Во время óно я превосходно опровергал такие мысли, ссылаясь и на соборы, и на святоотеческие мнения. Но, видите, догматическая гимнастика ума – это одно дело, а личные убеждения – другое. Хотя и здесь я с вами не совсем искренен. Конечно, сожалею об этом прещении, конечно, огорчён, вот и пытаюсь себя убедить разными способами, что зелен виноград. Но возвращаясь к его сроку: Владыка мог догадаться, что я через семь лет о его снятии просить не приду. А через десять уж и сама возможность брака для меня станет невероятной. Значит, было оно возложено на меня по сути – до конца жизни. Именно так я его и принял, не дрогнув в лице ни одним мускулом. Это нашего правящего митрополита, пожалуй, тоже рассердило! Хоть, впрочем, и он наружно не явил гнева.
– Позвольте спросить, – прервал автор рассказчика, – а что, была женщина на горизонте?
– Да нет, какое! Откуда? След той девушки, которая тогда пришла ко мне на исповедь, я потерял, да и сама идея строить куры бывшей своей прихожанке – такая вопиющая пошлость… А ещё оказался я слегка староват для того, чтобы бежать на рынок невест, сломя голову: мне исполнилось к моменту оставления монашества тридцать три года. И, кроме прочего, я десять лет обходился без всякой женщины, а к любому состоянию ведь привыкаешь. Это как телевизор: пока он у вас в доме, то, кажется, нельзя без него, а как поживёшь без него месяц-другой, так и ясно, что совсем он и не нужен. Циничное рассуждение, знаю, и недостойное христианина, то есть я не про телевизор, а про законную супругу. Но ведь у меня и не может быть никакой законной, по православному обычаю, супруги, Церковь мне запретила иметь законную супругу, будто я некий рогатый Вельзевул! Вот, думаю, не податься ли в буддисты… Считайте юмором, конечно. В этом ощущении церковной оставленности есть, стыжусь признаться, некое запретное, недолжное удовольствие. По крайней мере, тогда я себя ловил на этом удовольствии, в духе «Презрительным окинул оком // Творенье Бога своего, // И на челе его высоком // Не отразилось ничего». Это всё инфантильно до смешного, и весь этот богоборческий бунт из меня давно выветрился. Церковноборческий, извините, а не богоборческий. Весь выветрился – и всё же какой-то шрам от него внутри остался. Знаете, я ведь, пожалуй, действительно очень гордый человек, и не в отношении своих каких-то достижений или даров, которых не существует, а – гордый этим желанием независимости. Если я неугоден или недостаточно хорош для Церкви, может быть, мне основать свою? Пусть она будет заведомо хуже, ниже – но я не буду в ней парией, виноватым без вины! «Церковь бывших монахов», например, или «Церковь маловерующих». Только вот когда найти время? Разве что на пенсии…
Я не мог понять, шутит он или говорит серьёзно.
[10]
– Около года я перебивался случайными заработками, – рассказывал Андрей Михайлович, – пока мне не предложили место на кафедре отечественной истории, той самой, на которой я когда-то состоял аспирантом. За эти десять лет поколение преподавателей, которое помнило меня как скандального аспиранта, замешанного в сомнительной истории с женой профессора, постепенно ушло на пенсию, а для молодых сотрудников я был просто кандидатом наук, специалистом в своей теме и интересным человеком с романтическим флёром «антицерковности». Этот флёр вокруг меня образовался даже против моей воли. Из старой когорты ко времени моего начала работы в госуниверситете оставались, кажется, только завкафедрой, да Суворина, да Бугорин, Владимир Викторович Бугорин: он уже во время моего аспирантства был доцентом. Докторской, правда, за всё это время он так и не защитил. Бывают вечные студенты, как чеховский Петя Трофимов, а бывают такие вечные без пяти минут доктора. Примерно через полгода после моего устройства на кафедру Бугорин, в связи с проводами «на покой» прошлого начальника, был назначен новым заведующим. И здесь мы, мой дорогой коллега, заканчиваем с жизнеописанием моей скромной персоны и переходим к истории «Голосов», чему я бесконечно рад. То есть я мог бы вам, конечно, рассказать о своей пятилетней работе в университете, о разных забавностях и курьёзах, а то и драматических случаях, но разве вам это интересно? Вы сами работали в вузе и сами хорошо представляете всю внутреннюю кухню, поэтому passons8, как сказал Степан Трофимович Верховенский Варваре Петровне Ставрогиной.
Моя история начинается в марте 2014 года, когда по кафедре впервые пополз слушок о том, будто Бугорин собрался на повышение. Более высокое университетское начальство вроде бы хотело его сделать то ли заместителем декана, то ли сразу деканом, то ли секретарём Учёного совета. И то, ему уж было, по его внутреннему ощущению, пора. Бугорин на десять лет старше меня, а значит, в том году ему исполнилось – сколько же? – ну да, сорок девять.
Сам Владимир Викторович этих слухов никак не подтверждал и даже наоборот, выглядел угрюмее обычного. Злые языки поговаривали, что причина его угрюмости очень простая: на новую должность, на которую скоро откроется вакансия, есть ещё один кандидат, и вот этот кандидат – доктор наук, а сам Владимир Викторович так и не сподобился. Высокое начальство, дескать, благоволит именно к Бугорину, но всё ещё колеблется в выборе. Нужно было нашему завкафедрой или защищаться в срочном порядке – но вообще это не очень простое дело, – или немедленно изобрести себе другую заслугу. Скажем, получить степень почётного доктора в зарубежном вузе, или издать толстую монографию, или написать научно-популярную книгу, которая разойдётся большим тиражом. На худой конец сгодилась бы и некая медаль, некая завалящая грамота от областного правительства или департамента образования области. Но не было монографии, не было медали, не было грамоты…
Вообще, никакими именно учёными достижениями наш заведующий, кажется, не прославился. Никто не читал его кандидатской, и даже, кажется, собственной сферы научных интересов, собственной излюбленной области в истории у него тоже не было! Да и то: в педагогику он пришёл из бизнеса – вообразите, так тоже бывает! – а бизнес в девяностые годы был областью, скажем деликатно, особой. Ещё в мою бытность аспирантом Бугорин казался мне в коллективе кафедры откровенно белой вороной. А вот гляди ж ты: притёрся, освоился, сомнительных анекдотов больше не рассказывал, справлялся с обязанностями преподавателя, отдадим ему должное, не хуже всякого другого, даже начальником стал, но всего только кафедральным, а душа требовала большего…
В середине марта у меня состоялся примечательный разговор с Юлией Сергеевной Печерской, старшим преподавателем нашей кафедры. Печерская в том году была интересной женщиной, ещё молодой, что-то около тридцати пяти. Энергичная, физически крепкая, с хорошей фигурой, привлекательная, правда, не в моём вкусе. Меня, так случилось, отталкивают, верней, пугают женщины, которые выглядят так, будто способны, говоря метафорически, перекусить железную проволоку зубами. А Юлия Сергеевна именно так и выглядела.
Мы, как-то это нечаянно случилось, вместе вышли из здания вуза, и Печерская заговорила первая:
«Давно хотела спросить вас, Андрей Михайлович: а какие у вас планы на будущее?»
(Примечание автора: здесь и далее реплики персонажей внутри речи рассказчика будут заключаться в кавычки.)
«Планы? – потерялся я. – И на какое будущее?»
«Ну, что значит, на какое? Вот Владимир Викторович уйдёт на повышение, а завкафедрой Учёный совет кого назначит, как вы думаете? Вернее, так: кого именно наша кафедра будет рекомендовать назначить Учёному совету? Потому что коллективное мнение кафедры тоже учитывается…»
«Ангелину Марковну, скорее всего».
Здесь должен пояснить, что Ангелина Марковна Суворина была в том году самым «возрастным», что называется, сотрудником нашей кафедры: ей было хорошо за шестьдесят, да что там, все семьдесят. После неё по возрасту первым шёл Авенир Валерьянович, который сильно сдал в последнее время и по причине слабого здоровья работал только с заочниками, за ним – Бугорин, после – ваш покорный слуга, дальше – Печерская, а все остальные сотрудники оказывались моложе её.
Итак, я предположил, что назначат Суворину. Юлия Сергеевна замедлила шаг (и я вместе с ней), посмотрела на меня, повернув голову как-то набок, к плечу, взглядом умной птицы:
«А вы не знаете разве, что на руководящие должности не назначают людей пенсионного возраста?»
«Но ведь делают исключения?» – ответил я вопросом на вопрос.
«Делают, но это при научных заслугах. А мы же знаем, что у Ангелины Марковны, между нами, нет особых научных заслуг».
Мы, кажется, даже остановились тогда.
«Теряюсь в догадках, – оробел я тогда. – Вас?!»
Печерская усмехнулась, как бы подавилась коротким смешком. Разъяснила мне снисходительно, как школьнику:
«Да нет же, Андрей Михайлович! Я старший преподаватель, а вы в прошлом году получили доцента. Я кандидат наук, а вы докторант. Ну, подумайте-ка ещё раз!»
«Юленька Сергеевна, милая моя! – воскликнул я. – Я вам совсем не собираюсь перебегать дорогу!»
У нас на кафедре в ходу были, такие, знаете, шутливые обращения друг к другу, состоящие из уменьшительного имени и отчества, вроде английского Mrs Kitty или Mr Andy. Кажется, я и ввёл эти обращения в обиход.
«“Юленька Сергеевна”, как мне в вас это нравится… А я, думаете, собралась перебегать вам дорогу? Я, по-вашему, злобная карьеристка, которая всех расталкивает локтями?»
«Я этого не сказал…»
«Ещё бы сказали! Я, Андрей Михайлович, трезво оцениваю свои шансы получить рекомендацию от кафедры. Меня не любит половина наших молодых».
«А меня, значит, любят?» – уточнил я немного иронически.
«Вы знаете, да! – ответила моя коллега. – Все просто восхищались тем, как вы укротили группу сорок один! Я, по крайней мере, восхищалась!»
Небольшое отвлечение, если позволите. У этой группы бакалавриата в прошлом году вышла история, и, кстати, именно с Бугориным, который что-то у них вёл. Не сошлись они во взглядах с Владимиром Викторовичем, а вернее всего, как передавали, тот что-то грубое сказал одной студентке, усомнившись в её способностях. Группа стала на защиту обиженной: рассказывали, в частности, о каком-то анонимном обличительном письме, которое студенты то ли написали самому завкафедрой, то ли пустили по рукам других студентов как прокламацию. Сам я, однако, этого письма не видел, не читал и старался избегать этих обсуждений. Это письмо, помнится, так разозлило нашего начальника, что он поставил на экзамене в этой группе две «двойки», а всем остальным – «удовлетворительно». Что ж, каждый имеет право оценивать знания студентов как ему заблагорассудится… Но группа, обидевшись, написала заявления на отчисление в полном составе. Староста принесла аккуратную стопочку этих заявлений в деканат. Это был жест, конечно. Я предложил начальнику устроить некую согласительную комиссию и, может быть, переэкзаменовку. Он отказался. Тогда я попросил у него разрешения поговорить с этой группой, и такое разрешение мне дали. До того они меня знали поверхностно, как одного из педагогов.
Говорили мы долго, всё сдвоенное занятие, которым я безжалостно пожертвовал. Я сумел преодолеть их первоначальную колючесть и терпеливо выслушал все их обиды. Я признался, что, не одобряя их поступка, ценю его энергию и продиктовавшие его чувства. Я рассказал им, что и сам в юности был очень упрямым. Я поделился с ними мыслями о том, что, уйдя из вуза сейчас, они накажут этим только себя, а значение этой несчастной «тройки» в их дальнейшей профессиональной жизни будет ничтожным. Я обещал лично переэкзаменовать тех, кто получил «неуд», если только начальство позволит мне это сделать. Хрупкий мир был достигнут, студенты забрали заявления, а на то, чтобы я переэкзаменовал не сдавших экзамен, Бугорин согласился неожиданно легко. Но при этом группа поставила странное, забавное, даже трогательное условие: я должен быть их куратором в следующем году. Я согласился, хотя раньше бежал от любого кураторства как чёрт от ладана. Руководство кафедры также не нашло возражений.
Но вернусь к своему разговору с Печерской, которая как раз поясняла мне:
«А у меня нет такой популярности. Ну и зачем мне тогда сс**ь против ветра? Pardon my French9».
Непечатное слово она произнесла даже с удовольствием, бравируя им. Я шутливо приложил руку к сердцу, показывая, что сражён экспрессией её языка. Она именно такой реакции и ждала.
«Вот если вы, уважаемый Андрей Михайлович, слетите в первый год – тогда да! – как ни в чём не бывало рассуждала Печерская. – Тогда мы поборемся…»
«Почему это я должен слететь?» – я почти обиделся.
«Гляньте-ка на него: ещё не сел в кресло, а уже цепляется! – поддразнила она меня. – По неопытности. Из-за наших бабьих интриг, например. Но я вас буду поддерживать, имейте в виду».
«Почему именно меня?»
«Потому что, а), у вас больше шансов против Сувориной, и бэ), с вами будет проще жить, – пронумеровала мне Печерская. – У Сувориной ведь целый тараканий выводок в голове! Вы не замечали?»
«Я не имею права судить людей…»
«Вот, и поэтому тоже, – с удовольствием отметила моя коллега. – Можно полную откровенность, Андрей Михалыч? Вы в своей жизни были пришиблены этим вашим православием, так и ходите пришибленным, и поэтому “не имеете права судить”. Я в хорошем смысле сказала, не обижайтесь! А девяносто девять процентов людей судят других! И судят плохо. Вот поэтому, когда вопрос о рекомендации поставят, я буду голосовать за вас. Только чтобы этот разговор был между нами – договорились?»
Мы перекинулись ещё парой фраз, прежде чем попрощаться. Я не придал этому разговору особого значения, потому что слух о переводе Бугорина на более высокую должность пока был только слухом. Он ничем не подтверждался!
[11]
– Я, повторюсь, не придал той беседе значения, но, возможно, придали другие. Не знаю, как вращались невидимые мне колёса и шестерёнки, но на следующий день завкафедрой вызвал меня к себе. Никаких провинностей за мной не водилось, но шёл я с некоторой опаской.
Владимир Викторович посадил меня за кафедральный стол боком к своему начальственному месту и молчал, сопя. Я ещё больше оробел.
Здесь – пара слов о внешности нашего заведующего, просто чтобы вам мысленно его увидеть. В том году Владимиру Викторовичу было почти пятьдесят, но выглядел он вполне ещё «по-боевому». Конечно, годы уже давали знать о себе: вот и отдельные седые волосы появились, и лицо как-то набрякло… (Ах, ладно, никто ведь не молодеет, и я давно уже не красавец, мысленно сказал я тогда себе.) Не самого высокого роста, но кряжистый, с твёрдым подбородком, широкой переносицей (нос у него как будто был сломан в юности, впрочем, руку на отсечение об этом не дам), с очень коротко стриженными тёмными волосами и щетиной почти всегда одной и той же «недельной» длины, он до сих пор немного напоминал «братка», нечаянно приземлившегося в кресло заведующего кафедрой. Я не раз собирался спросить его в шутку, был ли он в своё время настоящим «новым русским», но так и не спросил ни разу: какой-то несколько грубый вопрос, не находите? Да и важно ли?
Бугорин наконец перестал сопеть и положил передо мной какую-то бумагу, которую – я даже вчитаться не успел – убрал через пару секунд.
«Вот, погляди! Это конкурс! Называется “Летопись Русской Смуты”!»
«Студенческих работ?» – уточнил я.
«“Студенческих”, балда! – передразнил он. – Позвал бы я тебя ради студенческих! Научных! Научно-популярных вообще-то. Весёленькое такое надо написать, понимаешь, с придумкой, сделать науку с элементами шоу. Гляди, твоя ведь тема!»
«Я не специалист по Смутному времени!»
«Да не по Смутному времени, а это про революцию! Там в описании сказано!»
Бумагу с положением конкурса он мне при этом так и не вернул, будто нечаянно забыл.
«А чей, кто организатор?»
«Агентство стратегических инициатив вместе с Российским историческим обществом. Это федеральный конкурс, понимаешь, федеральный, президентский, и дадут федеральный грант! Слушай, Михалыч! Тебе, это… Тебе сам Бог велел писать заявку!»
«Владимир Викторович! – почти взмолился я, – Ну нет ведь никаких сил, как мальчик, участвовать во всяких конкурсах под конец учебного года! И вы же сами сказали, что они ожидают научно-популярного текста, не строго научного! Им надо живенько, с хохмочками. А я не популяризатор, не Анатолий Вассерман! Нет у меня таланта господам, у которых в усах капуста недокушанных щей, делать интересными вещи, которые им никогда не были интересны!»
«Что у вас, Андрей Михайлович, за странные представления о работе популяризатора! И что у вас за отношение к инициативам Президента! И капуста здесь при чём?»
Тут тоже пояснение: Бугорин, мужик не особенно чуткий, грубоватый, легко и без всякого стеснения переходил от «ты» к «вы» и наоборот, не только со мной, а вообще с любым сотрудником, причём его «ты» в сочетании с отчеством без имени, видимо, изображало задушевность, а «вы» вместе с отчеством и именем, видимо, показывало немилость. Мне и то, и другое было не очень приятно. Как говорится, минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.
«Ни при чём: цитата из Маяковского», – пояснил я про капусту.
«Да у тебя ещё есть время, полно, до конца года! – принялся убеждать он меня. – Ты же в материале, Михалыч, у тебя ведь не голова, а Дом Советов! Чтó, не напишешь за лето свой опус? Там смотри какая сумма вкусная! – он написал на бумаге и показал мне сумму гранта. – Половина на сопутствующие расходы, подотчётно, и половина как премия. А я тебе ещё премию дам! Вот такую», – он написал рядом с первой суммой вторую, поменьше, но тоже внушительную.
Я задумался. Дело в том, что я к тому времени как раз закончил строительство дома – вот этого, где мы сейчас находимся, а сделать отопление сразу денег не хватило. Мне хотелось именно камин, хотя камин не очень удобен как основной источник отопления. Мне пришлось в итоге дополнить камин водяным отопительным контуром, а в подвале у меня твердотопливный котёл.
– Неужели вы накопили на дом с зарплаты преподавателя? – полюбопытствовал автор этих строк.
– Частью – да, представьте себе! – пояснил Андрей Михайлович. – Я ведь сохранил почти монашеские привычки, а квартировал у пожилых родителей, тогда ещё и отец, и мама были живы. Отец скончается через год после этих событий. Хоть я жил очень скромно, наверное, мозолил им глаза. Верней, не это, не только это, а вот: они, наверное, чувствовали свою невольную вину за моё неудавшееся монашество. Мама несколько раз заводила разговор о том, что я даже не пытаюсь поискать себе невесту, а ведь жизнь проходит. Я в шутку – но только наполовину в шутку – отвечал, что Церковь мне запретила венчаться и что я буду вынужден в самом лучшем случае довольствоваться безблагодатным гражданским сожительством. А ведь такое сожительство – на грани блуда! Или уж настоящий блуд? Если блуд – то придётся мне в нём регулярно каяться на исповеди. А поскольку каяться я в жизни с женой, не видя в том никакой своей вины, не смогу, то выйду за пределы Церкви вовсе, а тогда уж сам к себе применю правило семь Четвёртого Вселенского Собора и отказом от исповеди, так сказать, самоанафематствуюсь. Ох, она страсть не любила такие разговоры! И потом, продолжал я более миролюбиво, куда же я приведу свою жену, пусть даже невенчанную? К себе в комнату?
Отец в таких беседах никогда не участвовал, но мама, видимо, ему пересказывала – и вот, они дали мне половину суммы, нужной для постройки дома. А земельный участок они же подарили ещё раньше. Переехать в свой дом уже очень хотелось! Нарисованные Бугориным на бумаге суммы решали вопрос с отоплением. Вместо камина можно было бы сложить печь или, наконец, поставить котёл с водяным контуром, если бы я сделал выбор в пользу большей практичности. Само собой, одного только отопления недостаточно для сколько-нибудь удобной жизни в отдельном доме: желательна канализация, а не будка над выгребной ямой на улице, внутренний водопровод, а не уличный колодец… Впрочем, я ухожу в сторону от своей истории: думаю, что никому, кроме моих близких, не интересны эти прозаические детали.
Итак, я согласился работать над научно-популярной «Летописью Русской Смуты», если удастся получить грант – и мой завкафедрой прямо расцвёл, чуть не полез ко мне обниматься. Но, тут же прибавил я жалобным голосом, писать саму заявку у меня действительно нет никакого желания. Может быть, поручить моей аспирантке?
В начале того учебного года ко мне действительно прикрепили аспирантку, Настю Вишневскую, единственную тогда аспирантку на нашей кафедре. Я был докторантом, а докторантам быть научными руководителями аспирантов разрешается, верней, полупозволяется, примерно так же, как студентам старших курсов педагогического вуза полупозволяется работать учителями в школе. Первым руководителем Насти был сам Владимир Викторович, но в конце первого года её аспирантуры они на чём-то не сошлись, девушка проявила характер и, за отсутствием других вариантов, перешла ко мне.
– То есть история с группой сорок один в её случае как бы повторилась? – спросил я на этом месте.
– Д-да, пожалуй, – подтвердил рассказчик. – Я боялся, что, помня эту историю, Бугорин не позволит отдать эту работу Вишневской, уже ругал себя за то, что не сообразил попросить её тихим образом, не спрашивая разрешения начальства, но, к моему удивлению, завкафедрой ответил как ни в чём не бывало:
«А я, представляешь, и сам тебе хотел это предложить!»
Мы пожали друг другу руки, и я, выходя из кабинета, облегчённо вздохнул. Была ведь опасность того, что начальник проведал про мой разговор с Печерской и про моё желание сесть в его кресло, мог ведь получить от него знатную нахлобучку! Нет, кажется, пока всё обошлось…
[12]
– В тот же день я позвонил Насте Вишневской, своей умненькой и хорошенькой аспирантке, и попросил её подготовить заявку на грант.
– «Умненькой», «хорошенькой», – пробормотал я, едва удержавшись от улыбки. – Так и хочется спросить… но, извините, не моё дело.
– Вы хотите спросить, не дышал ли я неровно к своей подопечной? – догадался Андрей Михайлович, тоже улыбаясь, и снова – только краем губ. – Нет. Н-нет, – повторил он с долгой «н» и пояснил: – Моя заминка в этом втором «нет», конечно, естественна, когда такой вопрос задаётся про молодую красивую женщину и одинокого мужчину. Но я, во-первых, считал, что есть определённые границы и правила, которые для преподавателя так же священны, как для монаха – его обеты. Во-вторых, я никогда не забывал, что Насте – двадцать пять лет, а мне – тридцать девять, что она – красавица и умница, у которой всё впереди, а я – уже потрёпанный жизнью мужичок, что, проще говоря, она не моего поля ягода. Вообще, в любой юной и привлекательной женщине есть это торжество, это осознание своей высокой цены, так что рядом стушёвываешься и начинаешь думать про себя: ты-то куда, со свиным рылом да в калашный ряд? Понаблюдайте… Вам нужно было видеть Настю тогда: высокая, сильная, яркая, с прекрасными тёмно-русыми волосами, чуть волнистыми, она их то схватывала резинкой, то разбрасывала по плечам. Да и куда бы я её привёл, в конце концов?! В комнату тесной «хрущёвки», где жил вместе со своими родителями? Дело, кроме того, осложнялось тем, что Настю я помнил ещё студенткой бакалавриата, с её третьего курса, после – магистранткой, и всё это время она мне несколько юмористически давала понять, что она мне симпатизирует. То есть, если вы понимаете, понарошку симпатизирует, это превратилось в своего рода безобидную игру, её сокурсники тоже включились в эту игру и отпускали беззлобные шутки по этому поводу, которые она не без удовольствия поддерживала. Именно потому они и позволяли себе эти шутки, что все, включая меня, осознавали юмор ситуации. Я однажды тоже не удержался и заметил:
«Похоже, это превратилось у вас в спорт своего рода».
«Что именно?» – не поняла Настя.
«Ну как же: вот это ваше невинное притворство по поводу вашей якобы огромной симпатии ко мне, которым вы всё время пытаетесь вогнать меня в краску».
Тут Настя покраснела сама – да не просто покраснела! Вспыхнула как маков цвет – и без слов вышла из аудитории.
– Прямо на уроке? – ахнул автор этого текста.
– Нет, на перемене. После она дулась на меня ещё как минимум две недели.
Но это я отвлёкся. В тот вечер я передал свою просьбу, и Настя принялась шутливо отнекиваться: мол, и опыта у неё не хватает, и времени совсем нет. Я стал уговаривать, а она продолжала отнекиваться. Неизвестно, сколько бы это длилось, если бы я не решил положить этому конец и не заговорил начистоту:
«Понимаете, Настя, Владимир-Викторычу позарез надо выиграть этот грант, да любой грант, но желательно именно этот, президентский. Он получает себе тогда, образно выражаясь, медальку на китель и пересаживается в кресло замдекана или секретаря Учёного совета. А я, может быть, в его кресло. Но меня не эти честолюбивые планы волнуют, а просто мне очень нужны деньги. Я хочу сложить печь или камин в своём доме и наконец-то съехать от родителей, а то, честное слово, и смешно, и неловко: уж седина в бороде, а до сих пор у них путаюсь под ногами. И óкна до сих пор не поставил: хоть бы для первого этажа заказать окна! Видите, как всё просто?»
Настя тут замолчала и молчала, наверное, полминуты, я даже испугался, что нас рассоединили. Заговорила:
«Это всё правда, Андрей Михайлович?»
«Чистая правда, Настенька!» – уверил я её.
«Я всё сделаю, – пообещала моя аспирантка совсем другим тоном. – Если вам это нужно, я всё обязательно сделаю».
[13]
– И она действительно села за заявку в тот же день. Перезванивала мне, чтобы уточнить: какое у моей научно-популярной книги будет название?
«“Голоса перед бурей: опыт художественно-исторического исследования российского общества периода 1914-1917 годов”», – сказал я едва не первое, что пришло на ум.
«И ещё здесь спрашивают: в чём будет особенность книги и исследовательского метода?»
«Ой, Господи, Настя, да пишите первое, что в голову приходит! Там, “полифоничность изложения”, “амальгама художественного и научного подходов”, multifaceted vision of events…»
«Что это такое – малтифэситед вижн?»
«Многофасеточное видение событий, то есть как бы одного и того же – с разных ракурсов».
«А что это значит?»
«Понятия не имею! – беззаботно отозвался я. – Но звучит красиво, разве нет?»
«Но ведь… Андрей Михайлович, это же просто слова? – продолжала сомневаться Настя. – За ними ничего не стоит?»
«Открою вам тайну, Настенька: в науке пять десятых того, что пишется, – это просто слова, за которыми ничего не стоит. Или девять десятых».
«Вы, Андрей Михалыч, цинично разрушаете мою веру и лишаете меня научной невинности!» – попеняла мне моя аспирантка.
«Ну, слава Богу, что только научной!» – отшутился я. Мы, кажется, даже посмеялись.
После того её демонстративного выхода из аудитории между нами установился этот слегка насмешливый тон, которым мы оба подчёркивали, что бесконечно далеки даже от мысли о романе между преподавателем и студенткой (уже, правда, аспиранткой), настолько далеки, что даже позволяем себе над этим смеяться. Чему вы улыбаетесь и о чём думаете?
– Я… я думаю об этом забавном сочетании «вы» и «Настенька», то есть уменьшительного имени, – признался автор. – Очень в духе «Белых ночей» Достоевского.
– Правда? А что, героиню «Белых ночей» тоже звали Настей? – весело изумился Могилёв. – Представьте себе, совершенно вылетело у меня из головы!
Ах, да: ещё она спросила у меня номер моей банковской карты: в том не очень вероятном случае, если бы нашу заявку предварительно одобрили, мне должна была прийти авансовая часть вознаграждения.
[14]
Настя отправила заявку, а я, можно сказать, забыл про «Летопись Русской Смуты». Помнил краем ума, но не держал в голове. Во-первых, я не очень верил в получение гранта, во-вторых, меня моя собственная докторская, вполне настоящая, живая и конкретная, волновала больше, чем некий журавль в небе, в-третьих, я всё прикидывал, как бы мне накопить нужную на отопление сумму без сверхусилий. Написание любой многостраничной книги – это, доложу вам, сверхусилие, когда есть повседневная работа. Увы, как ни крути, денег пока не хватало. Вот, правда, если складывать камин самому, можно будет сэкономить на работе печника. Не боги ведь горшки обжигают! Но справлюсь ли? Да и пословицу о том, что скупой платит дважды, тоже никто не отменял…
Четверг был у меня «методическим днём», когда я наслаждался законным правом поспать подольше. Третьего апреля меня, однако, разбудило сообщение от банка о зачислении денег. Сумма составляла полторы моих месячных зарплаты. Сон как рукой сняло.
В электронную почту, как можно догадаться, мне уже «прилетело» письмо от оргкомитета конкурса. Моя – Настина то есть – заявка была рассмотрена и получила первичное одобрение. Девушка, похоже, постаралась. Организаторы любезно напоминали мне, что текст «Голосов перед бурей» объёмом пятнадцать авторских листов (сколько-сколько?!) мне следует представить к концу апреля.
– К концу апреля?! – изумился автор. – Послушайте, пятнадцать авторских листов – это же…
– Это шестьсот тысяч знаков, совершенно верно. Да, к концу апреля, а на календаре было уже третье!
Я, кажется, издал какое-то малоприличное восклицание. Андрей Михайлович коротко рассмеялся. Заметил:
– Вот-вот! И у меня тогда вырвалось что-то похожее.
Не теряя времени, я позвонил секретарю нашей кафедры и договорился о вечерней «аудиенции» с Бугориным.
Войдя к нему в кабинет, я сразу взял быка за рога:
«Владимир Викторович, извините, мы не договаривались так!»
«О чём мы не договаривались? – он, откинувшись на спинку кожаного кресла, глядел на меня встревоженно, но и с хитрецой. Или показалось? – Чего ты шумишь, бедовый человек?»
«Пожалуйста, вот это почитайте!» – я протянул ему распечатанное письмо от оргкомитета. Тот проглядел без особого удивления, будто наперёд знал, что там будет написано. Хмыкнул:
«Так ты выиграл грант, Андрюша! Ну, поздравляю!»
«Рано поздравляете, Владимир Викторович! Осрамимся сейчас на всю Россию! Я, а вы вместе со мной! Как я вам напишу книгу до конца апреля? Вы-то мне другие сроки называли!»
«Я?! Я называл другие сроки?! А что, может, и называл, – вдруг согласился он. – Извини, огляделся. А ты почему не прочитал положение о конкурсе?»
«Так вы же мне его не дали в руки!»
Завкафедрой развёл руками, будто дивясь моей дурости:
«Так ты ж не взял!»
О, какой нелепый разговор!
«Нет, как хочешь, Михалыч, а взялся за гуж – надо писать, – продолжал Бугорин. – “Кирпич” свой бери да переписывай простым языком».
«Кирпичом», как вы знаете, называется готовый текст диссертационного исследования. У меня, если продолжать пользоваться строительной метафорой, было к тому моменту готово только «полкирпича» докторской.
«Да нет же, нет, Владимир Викторович, никуда это не годится! – воскликнул я, даже, помнится, с каким-то надрывом. – Это же совсем другой метод, другой стиль, всё совсем другое! Это называется не “переписывай”, а “пиши заново”!»
«Ну и пиши заново, – кивнул он мне из своего начальственного кресла. – Что ты разнылся как девочка? Бери и пиши! Вон, Настюхе своей дай, она тебе твой “кирпич” перепишет, и картинки нарисует, и в лицах изобразит».
«Она такая же моя, как ваша», – буркнул я.
Не клеился разговор.
Бугорин потянулся в кресле:
«Ты что, хочешь сказать, что не будешь делать грант, который наша кафедра уже выиграла?»
«Я не вижу, когда буду это делать, вместе с аудиторными часами, кураторством, дипломниками и собственной докторской», – сухо пояснил я ему. («“Делать грант”! – отметил я про себя. – Давайте полностью растопчем всё, что осталось от русского языка, что уж там!»)
«Так ведь опозоришь, правильно сказал, меня на всю Россию! Ты что это, Михалыч, с лестницы упал? Головой ударился? Или, как его, Богу перемолился в каком-нибудь чулане со своими прошлыми этими… дружками? Ты специально, что ли, заварил кашу? Работу не сделаешь, стрелки на меня переведут, меня, значит, ногой под зад, а ты на моё место? Так ты придумал?»
Я весь поморщился:
«Фу, какая глупость! Даже говорить об этом противно».
«Что ты рожу-то кривишь? Лимон съел?» – Бугорин постепенно распалялся, то ли взаправду, то ли демонстративно. У начальников любого рода ведь полжизни проходит в театральных жестах.
«Я вам повторяю, Владимир Викторович, что я оказался в безвыходном положении! Я рассчитывал на время до конца года, а остаётся двадцать семь дней. Я… я не знаю, что делать!»
Бугорин равнодушно пожал плечами, показывая, что он тоже не знает – и не заботится об этом: сам, мол, влип, сам и выкарабкивайся. Во мне поднялось глухое раздражение. Это ведь он втащил меня в эту авантюру! Это ведь он добивается себе лишнего орденка на шею! Или уже не добивается? А что, очень может быть: высокое начальство дало задний ход, и должность секретаря Учёного совета теперь уплывает другому человеку, грант перестал быть жизненно необходимым. А я оказался крайним. Вот здорово!
«Освободите меня от аудиторной нагрузки на апрель!» – вдруг предложил я ему.
«Чего-чего?!» – изумился начальник.
«Освободите, говорю, меня от аудиторной нагрузки на апрель! Буду сидеть дома и работать над этой книгой. Напишу половину объёма, разбавлю текстом диссертации, накидаю ещё цитат, выписок…»
«А твои часы за тебя кто выдаст – дядя Петя?»
«Баран!» – чуть не сказалось у меня. Я ведь протягивал, можно сказать, руку помощи – а мне в эту руку почти плевали! Вслух я, правда, произнёс другое:
«Знаете, что, Владимир Викторович? “Делайте”-ка этот грант сами! Аванс вам отдам, когда скажете».
«Ты… ты как вообще со мной разговариваешь? – поразился Бугорин. – Смелый очень стал, да? От амбиций башню снесло? Может быть, ты заявление по собственному хочешь положить на стол?»
Я махнул рукой:
«Началось… Заявление? Да ради Бога, напишу хоть сегодня! Хорошего дня!»
[15]
Выйдя из кабинета завкафедрой – то есть это была просто часть нашей кафедры, отделённая стенкой от общей «преподавательской», – я был так зол, что в самом деле едва не сел и не написал заявление на увольнение! Немного остыл по пути домой, и в тот вечер всё думал: чем же зарабатывать деньги, если придётся уходить из вуза?
Обидно, огорчительно и тревожно было от того, что Бугорин после нашего разговора как пропал. Нет бы прислать мне короткое сообщение, что-то вроде «Извини, Михалыч, погорячился, бери отпуск за свой счёт, трудись над текстом»! Или наоборот: «Господин Могилёв, не хотите ли задуматься о поиске новой работы?» Даже такое сообщение позволяло бы мне понять, чтó делать дальше. А тут – ни Богу свеча, ни чёрту кочерга! Нехорошо, не по-мужски с его стороны.
С тяжёлым сердцем я лёг в тот день спать, а утром проснулся раньше обычного и понял, что мне пришло в голову решение.
Пришлось мне потревожить Настю ранним звонком и заручиться её поддержкой, заодно уж к слову рассказать о вчерашнем разговоре. А после, взволновав, огорчив и напугав свою аспирантку, я позвонил сразу Бугорину и договорился о новой встрече в его кабинете в большую перемену.
Владимир Викторович при моём входе руку мне подал – так, для условного рукопожатия – и даже чуть привстал из кресла, но ничего не сказал, смотрел на меня настороженно, исподлобья.
«Владимир Викторович, – снова перешёл я к делу без всяких предисловий, – треть моей учебной нагрузки на этот семестр – это часы в группе сто сорок один. Ещё две трети – группы сто сорок два и сто сорок три. На сорок первой группе у меня кураторство, и все мои дипломники тоже там. У меня есть идея, что сделать, чтобы и овцы были целы, и волки сыты».
Кажется, я тогда оговорился и сказал про сытых овец, но он даже и не усмехнулся.
«Отдайте мне, пожалуйста, сто сорок первую группу, полностью! – предложил я. – Мы снимем их со всех других занятий и устроим с ними своего рода “мозговой штурм”. Погрузимся в тему, возможно, распределим между ними работу – и за оставшееся время напишем коллективную монографию, то есть и не монографию даже, не тот жанр, а научно-популярную книжку. Я сведу их тексты вместе, отредактирую, и, глядишь, всё ещё будет хорошо!»
«Так, а кто возьмёт сорок вторую и сорок третью?» – немедленно спросил завкафедрой.
«Вишневская, – тут же дал я готовый ответ. – Я ей звонил сегодня утром, она согласилась».
«А что, у Вишневской своих лекций нет? Она разве не сдаёт никакой минимум по индивидуальному плану в этом году?»
Речь шла о кандидатском минимуме и о том, что аспиранты очной формы обучения должны посещать свои аспирантские лекции.
«Философию, – отозвался я. – Экзамен в июне, она успеет».
«Гм, успеет, успеет… А скажи-ка мне: у сорок первой ведь не только твои предметы? Какие у них зачёты в весеннюю сессию?»
«Холодная война, Цивилизации, Эволюция и Слово».
Это всё были наши обиходные, сокращённые названия для соответствующих дисциплин, например, «Эволюция системы международных отношений» или «Слово как исторический источник».
«Я поговорю с каждым педагогом, объясню им, что возникла особая необходимость, – прибавил я. – Ведь президентский грант! Российское историческое общество! Снимаем же мы их на всякие соревнования, бывает, и на неделю, и на две!»
«Да, но не перед сессией… А ведь у них, кроме зачётов, ещё экзамены?»
«Два у меня и один у вас, – тут же ответил я. – Неужели не поставим “автоматом” ради такого дела?»
«Что-то ты больно много на себя берёшь, Андрей Михалыч, что-то не дело ты затеял! Ты хоть понимаешь, что через две недели у бакалавриата заканчивается учебный процесс, а после весенней сессии у них сразу идёт преддипломная практика? Дипломы ты им напишешь?»
«Я предлагаю, Владимир Викторович, в виде исключения позволить им защищать в качестве диплома ту исследовательскую или, может быть, творческую работу, которую они создадут в рамках проектной группы за этот месяц».
«Темы-то уже утверждены, балда!»
«А мы не будем менять темы официально! Пусть по бумагам остаются старые темы!»
Завкафедрой задумался. Я ждал. Я был готов к его “нет” и с грустью думал о том, что это “нет” приведёт к отказу от гранта. Уже полученный аванс придётся возвращать, а то и чем хуже обернётся дело: меня обвинят в создании кафедре дурной репутации, а я, оскорблённый в лучших чувствах, и правда напишу заявление об увольнении по собственному желанию.
Бугорин хмыкнул:
«Ну, смотри ещё сам: какие из студентов исследователи? Что они там тебе сочинят?»
«Это хорошая группа, там умненькие ребята».
«Ага, ага, как же, – откликнулся он с откровенной иронией. – Помню с прошлого года, какие умненькие…»
«И жанр, Владимир Викторович, жанр не тот! Тут нужна не наука в чистом виде, а, как вы сами сказали, наука с элементами шоу, в стиле сценических завываний Радзинского».
«В том-то и дело, что мы не знаем, что точно нужно, ещё достанется нам за кустарщину, высмеют нас по всему миру, опозорят, как Каштанку на арене…»
«Каштанку не опозорили, она хорошо выступила», – тут же нашёлся я.
«А-а-а! – с неприязнью протянул он. – Всё-то ты знаешь, все-то концы у тебя схвачены! Ведь ты… ты же пользуешься моим безвыходным положением! Ведь ты пристал ко мне с ножом к горлу! Красиво это, по-твоему?»
Я развёл руками:
«Ну, давайте не делать так! Напишу в оргкомитет, что ошибка вышла, верну аванс».
«Вот-вот! – удовлетворённо и с некоторым злорадством заключил завкафедрой. – Это и называется “с ножом к горлу”! С паяльником в зад… Так и знал, что ты именно это и скажешь!»
Ещё немного мы помолчали. Бугорин в свою очередь развёл руками, как бы повторяя или, может быть, передразнивая мой недавний жест:
«Ну давай! Давай! Твори, выдумывай, пробуй! Но имей в виду: если хоть один студент откажется от твоей этой, как его, псевдолаборатории, мы не имеем права их заставлять! И если хоть одному из них не понравятся эксперименты в учебном процессе и он куда донесёт или там сболтнёт родителям, и они пожалуются, то я всех собак повешу на тебя! Ты только и будешь виноват! И с Вишневской тоже сам договаривайся, я тебе не помощник! И с всеобщей!»
Имелась в виду кафедра всеобщей истории, педагоги которой принимали у четвёртого курса ряд зачётов в конце апреля.
«Не будет, значит, никакого распоряжения об официальном освобождении группы от занятий», – вздохнул я, несколько притворно. Наличие такого распоряжения укрепляло бы мои позиции, а в его отсутствие заведующий кафедрой мог бы отказаться от своих слов и выставить меня виновником срыва учебного процесса. Что же, подумалось мне, заявление написать и тогда будет не поздно, а я ведь ещё вчера размышлял о том, не написать ли его, поэтому стоит ли копья ломать? И, наконец, если Бугорин так поступит, это будет исключительно непорядочно, а с непорядочным человеком лучше не работать, он все равно обнаружит свою непорядочность, не сейчас, так позже, поэтому что я теряю?
«Ещё бы тебе распоряжение! – подтвердил мой начальник. – Ишь чего! Видал фигуру из трёх пальцев?»
«Видал… И всё же спасибо, Владимир Викторович», – сдержанно поблагодарил я.
«Ладно, ладно», – Бугорин махнул рукой в направлении двери, как бы показывая мне, что пора мне и честь знать.
Значит, нужен ему этот грант, значит, вопрос его ухода на более высокую должность пока не решён ни в положительную, ни в отрицательную сторону, прикидывал я, выйдя из кабинета начальника. Но почему тогда вчера он повёл себя так барственно, равнодушно, почти по-хамски? И зачем две недели назад нарочно не отдал мне положение о конкурсе? Или не нарочно? Или я зря пытаюсь увидеть интригу там, где есть простая небрежность, граничащая с равнодушием к делу и сотрудникам? Даже и это равнодушие, конечно, объясняется: мыслями он уже не на кафедре, а в более высоких сферах. Неужели и я таким стану, когда и если усядусь в его кресло?
[16]
Но эти грустные мысли в обед все выветрились из моей головы. Я уже всей душой был внутри нового проекта. После обеда я вошёл в аудиторию триста один, где меня ждала сто сорок первая группа, неся в обеих руках высокую стопку книг.
Мне кажется, я весь лучился энтузиазмом, но студенты сначала этого не заметили. Книги, которые с шумом приземлились на преподавательский стол, вызвали вздохи.
«Мы всё это будем сегодня читать?» – жалобным голосом спросила меня Лиза Арефьева.
«Мы будем это читать!» – ответил я с молодой энергией. По аудитории пронёсся новый карикатурный стон.
«Может быть, ещё и конспектировать?» – почти неприязненно уточнила Акулина Кошкина, та самая Акулина, которая терпеть не могла, когда её называли полным именем.
«Мы будем это, может быть, и конспектировать! – был мой новый ответ. – Ну-ну, всё, хватит, не нойте! У меня есть для вас важное объявление».
И в двух словах я рассказал им свою задумку, как и то, что уже получил принципиальное одобрение заведующего их выпускающей кафедры.
«Обратите внимание на то, что я не ставлю вас перед фактом, – прибавил я в конце своего объяснения. – Вы ещё можете отказаться – вы имеете на это право. Я собираюсь поговорить с каждым из тех педагогов, кто у вас принимает зачёт в ближайшую сессию, о том, чтобы вам эти зачёты поставили “автоматом”, на основе конспектов, может быть… Но я не могу это обещать, учитывая, что двое из них – с кафедры всеобщей истории! Дорог каждый день, поэтому я очень хотел бы, чтобы вы приняли решение сейчас. Вам нужно время, чтобы посоветоваться друг с другом?»
Нет, им не нужно было время! Глаза у них загорелись. Борис Герш, встав с места, картинно приложил руку к сердцу и проговорил с комическим акцентом:
«Вам, Андрей Михайлович, весь еврейский народ сегодня говорит спасибо в моём лице! Вы к нам сегодня явились как Оскар Шиндлер и Моисей со скрижалями завета! – эта фраза вызвала, конечно, общий смешок. – Нет, без шуток, Андрей Михайлович, – продолжил Герш, – вы спасаете нас вашим проектом. Это невероятно кстати!»
Я всё же попросил группу проголосовать мою идею, и все десять студентов дружно подняли руки «за».
Альфред Штейнбреннер – в моей группе был один немец, из так называемых русских немцев – попросил слова и задал мне вопрос о методах и методологии нашей будущей работы.
«Я вижу эту методологию пока неясно, – признался я. – Сейчас я только могу сказать, что вы сможете взять каждый своё направление, и одновременно групповая работа вроде “умственного штурма”, совместного обсуждения гипотез, тоже окажется плодотворной. Может быть, мы захотим ставить нечто вроде “следственных экспериментов” или коротких сценок, чтобы погрузиться в психологию наших персонажей».
«Следственных экспериментов? – серьёзно уточнила со своего места Ада Гагарина, староста группы, известная правдоискательница. – Прекрасная мысль, но тогда нужен будет и суд». Группа поддержала её новыми смешками и одобрительным возгласами.
«Может быть и суд, – уклонился я от прямого согласия. – Но, коль скоро я сам заговорил о персонажах, думаю, что самым плодотворным методом, лежащим в основе всего, будет выбор каждым из вас одной исторической личности изучаемой эпохи. Та стопка материалов, которая вас так неприятно поразила в начале занятия, – это не только монографии и не только сборники документов. Большей частью это воспоминания непосредственных участников тех событий. Кстати, я создал группу в социальной сети, где все эти материалы есть в электронном виде».
Предвосхищая ваш вопрос, поясню: мне ничто не мешало в самый первый день нашей работы тем или иным способом переслать студентам электронные версии всех этих книг. Скажем, я написал бы ссылку на доске, и они проследовали бы по этой ссылке, введя вручную в свои телефоны. Но, видите ли, для библиотекаря старой школы, даже бывшего, книга, которой нет на бумаге, как бы и вовсе не существует. Те материалы, что я не смог купить, я распечатывал на кафедре после занятий и переплетал сам. Для своей собственной докторской, конечно: все они у меня не вдруг появились. И, кроме прочего, я хотел, чтобы эта стопка источников встала перед моими студентами в своей весомой материальности и, что ли, бросила им вызов своей вещественностью. Разве может такой вызов бросить последовательность единиц и нулей на электронном устройстве?
«Вы их все нашли в нашей библиотеке?» – уточнил Марк Кошт.
«Не угадали, это мои собственные, – ответил я. – Несколько пришлось, как видите, распечатать, в магазинах их нет».
«Вы все их читали? – почти с благоговением спросила Марта Камышова и на мой утвердительный кивок только глубоко вздохнула: дескать, куда нам, недалёким, до такой научной самоотверженности!
«Дайте мне роль Пуришкевича!» – громко предложил Герш, чем, само собой, вызвал новый общий смех. Вы ведь помните, что Пуришкевич был завзятым националистом?
– Смутно, – признался я и прибавил:
– Как я завидую вашим студентам! Они охватывали своей памятью целый особый мир со всеми его мелкими деталями, нам, обывателям, почти неизвестный.
– Только равнодушие обывателя удерживает его от знания этого мира и всех ему подобных, – заметил Андрей Михайлович. – Кроме того, и этот мир, как и наш, с избытком содержал в себе боль и слёзы, обман и предательство.
– Но и благородство? – возразил я. – Недаром ведь вы говорили про крупный жемчуг?
Могилёв не спеша кивнул.
– Благородство, – полусогласился он. – Однако жемчуг, не забывайте, бывает и чёрный. Их ужасы были тоже крупнее наших.
[17]
– Итак, идея пришлась по вкусу, но после первых шутливо-восторженных слов одобрения группа задумалась, даже немного затаилась. Я разобрал стопку книг и разложил их на своём столе, чтобы облегчить выбор. Студенты столпились вокруг стола, рассматривая обложки, а Марта даже брала книги одну за другой и взвешивала их на своей ладони.
«Я правильно понимаю, что источников биографического характера здесь больше десяти?» – первым нарушил молчание Штейнбреннер.
«Верно», – согласился я.
«И даже представленный материал… Мы при всём желании не сможем охватить всех ключевых, э-э-э, узловых деятелей той эпохи, разве нет?» – не унимался наш русский немец.
Я согласился и с этим, на что он задал следующий вопрос:
«Имеются ли в педагогике прецеденты такого неполного, выборочного охвата изучаемого материала?»
«Да! – нашёлся я. – Это называется “экземплярным изучением”, идея которого принадлежит Рудольфу Штейнеру, основоположнику вальдорфской педагогики. Вашему соотечественнику, между прочим! И почти что тёзке».
«Слово “соотечественник” здесь не совсем подходит, как и слово “тёзка”… но благодарю вас, я полностью удовлетворён», – серьёзно ответил Штейнбреннер, а я мысленно похвалил себя за то, что в вузе не пропускал лекции по педагогике. Никогда не знаешь, что пригодится.
«Альфред в очередной раз победил на конкурсе зануд, поздравляю!» – ввернула Лиза под общий смех.
Тут я прервал своего рассказчика:
– Рискую занять на этом конкурсе второе место, но всё же спрошу вас: даже «узловых» фигур того времени, если пользоваться выражением вашего немца, не десяток и не два, как я вижу со своей обывательской колокольни. А вы предоставили своим студентам выбор. Значит, вы были готовы к тому, что их выбор будет отчасти произвольным? Что какую-то исключительно значимую фигуру вроде Распутина, например, никто не выберет, потому что она окажется всем несимпатичной?
– Да, само собой! И вы угадали – никто не взял Распутина. Хотя Распутин переоценен, а мне, – оживился Могилёв – было, например, обидно, что Константин Иванович Глобачёв или, например, Александр Павлович Мартынов тоже остались неразобранными. Это – начальники Петроградского и Московского охранных отделений, оба – прекрасные офицеры, русские патриоты. Ещё я огорчился тем, что ни один из религиозных деятелей или философов того времени тоже не был взят. Это, правда, отчасти и понятно: священники и философы всегда стоят как бы над схваткой, а людям, включая студентов, обычно интересны те, кто находится в гуще событий.
– Но – простите за то, что прервал – этим ваша работа не лишилась некоторой доли объективности? Может быть, стоило выбрать за студентов? Простите меня, пожалуйста, за то, что пытаюсь быть бóльшим немцем, чем ваш Штейнбреннер! Я просто предвосхищаю тот же самый вопрос, который могут задать другие.
– Безусловно, лишилась, – согласился Андрей Михайлович. – Но, видите ли, я вообще не верю в научную объективность как таковую! Мы исследуем любой феномен своим собственным умом, а не холодным искусственным интеллектом, глядим своими глазами, потому что у нас нет других. Объективен ли Солженицын, приложивший все мыслимые усилия для того, чтобы быть объективным? Да что Солженицын! Объективен ли сам Лев Николаевич Толстой с его рассуждениями о Кутузове и Наполеоне? А если нет, что же, мы выбросим «Войну и мир» в мусорную корзину? Да, мы сузили область нашего видения их произвольным выбором! Но ведь группа, с которой я работал, была набором живых людей с их достоинствами и изъянами, как была бы любая группа, и этим людям были интересны именно их – как бы назвать? – антиподы? Визави? Харáктерные прототипы?
– Соответствующие точки контрапункта на параллельном нотном стане, – предложил я.
– Прекрасное определение! – согласился Могилёв. – Лингвистически, правда, несколько неуклюжее.
«Пожалуйста, прошу вас! – снова пригласил я студентов. – Будем пока считать ваш выбор предварительным, но ведь надо начинать с чего-нибудь! Если вы колеблетесь, разрешите мне идти по списку группы. Арефьева Лиза?»
«Тут есть моя тёзка, – пробормотала Лиза. – Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Как бы её имя подсказывает…»
«Ваша светлость, поздравляю!» – выкрикнули из заднего ряда.
«“Ваше сиятельство”, – поправил я. – Гагарин Эдуард?»
«Как вы думаете, кем я могу быть… кроме Феликса Феликсовича?» – заявил высокий Эдуард-Тэд, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, слегка улыбаясь. Он имел в виду Феликса Юсупова.
«Да, пожалуй! – согласился я. – Гагарина Альберта?»
Эдуард и Ада были братом и сестрой, а полным, паспортным именем Ады было Альберта. Причудливы иногда желания родителей.
– Почему не Аделаида? – невольно прервал я рассказчика. – И почему тогда не Берта как уменьшительное имя?
– Затруднюсь вам сказать, почему! Знаю только, что в журнал посещений третьего курса она действительно была вписана как Аделаида, но я в качестве куратора имел доступ к их личным делам и однажды, подшивая в них какую-то справку, наткнулся на копию её паспорта.
«Не знаю – разбегаются глаза, – серьёзно ответила наша Альберта-Аделаида. – Но почти все женские персонажи уже взяты, кроме Коллонтайши, а в ней есть что-то, что меня отталкивает».
«Александра Фёдоровна?» – подсказал кто-то.
«Нет уж, пусть кто другой берёт эту мадам!» – живо и даже с какой-то неприязнью отозвалась Ада.
«Тогда Александр Фёдорович, – предложил я с улыбкой, имея в виду Керенского. – У вас и стрижка похожа».
Ада была худой девушкой с чисто мальчишеской стрижкой – я, кажется, сказал об этом раньше, нет? – и на улице в зимней одежде легко могла сойти за мальчика.
«А вы знаете – да! – вдруг согласилась староста. – Да! Он мне интересен». «Более того, это почти идеальное попадание», – мысленно отметил я.
Вслух я продолжил идти по списку:
«Герш Борис? Неужели Пуришкевич? Вы это всерьёз?»
Герш помотал головой. Но при этом улыбнулся, как-то очень лукаво, как только одна его нация и умеет улыбаться.
«Пуришкевич – это всего лишь злобный клоун, – пояснил он. – Но я на самом деле всегда хотел понять антисемитов, влезть в их туфли… Поэтому – Василий Витальевич Шульгин!»
Его выбор был одобрен недоверчивыми восклицаниями вперемешку со сдержанными хлопками.
«Камышова Марта?»
«У меня отняли Елизавету Фёдоровну, – глухо произнесла Марта. – Поэтому пусть будет Матильда Кшесинская».
«Мартуша, да ведь мы можем поменяться!» – тут же отозвалась Лиза, но Марта отрицательно покачала головой.
«Надеюсь, вы не поссоритесь из-за этого… – примирительно пробормотал я. – Кошкина Акулина, извините, Лина?»
«Коллонтай Александра, – отозвалась Лина как-то по-военному. – Я на “Ко”, и она на “Ко”. Ещё Коллонтай – наш рабочий человек, а не чужая содержанка».
Марта на этом месте посмотрела на Лину внимательно, серьёзно, как бы с упрёком – но ничего не сказала.
«Записал. Кошт Марк?»
«Гучков», – ответил Марк просто и чётко.
«Не могу не одобрить! – похвалил я. – Да и то, как в нашей истории без Гучкова? Орешкин Алексей?»
Алёша потерянно посмотрел на меня своими выразительными глазами с длинными ресницами. (Будь я девочкой, я бы не пропустил этого парнишку, замечу в скобках.) Признался:
«Я не знаю, простите! Это так сложно…»
«Хорошо, подумайте ещё, – согласился я. – Сухарев Иван?»
«Выбор действительно очень сложный, – начал Иван с полной серьёзностью. – Но если отвлечься от всех личных симпатий и антипатий, а у меня, фактически, нет симпатий ни к одному из предложенных, как и антипатий, то одна из ключевых фигур того времени, фигура, которая стала точкой пересечения для целого ряда сил, точкой поворота и перелома, – это генерал Алексеев».
«Спасибо, я отметил! – нечаянно я глянул на свежее личико Лизы и подумал: она вот-вот скажет о том, что у нас появился второй претендент на должность председателя клуба зануд. – Штейнбреннер Альфред?»
«Умственно, эмоционально и, так сказать, мировоззренчески мне из всех представленных ближе всего Павел Николаевич Милюков», – ответил Альфред с готовностью и даже с каким-то удовольствием.
«И очень хорошо, рад, а то без Милюкова тоже было бы скучно… Меня, правда, беспокоит, товарищи студенты – я даже готов называть вас “коллегами” на время этого проекта, – так вот, меня беспокоит, что у нас нет Государя…»
«Ну конечно, это будет Лёша Орешкин! – выкрикнула кто-то из девушек, наверное, Лиза, и все оживлённо загалдели:
«Да, в десятку!»
«Удачно, удачно!»
«Тебе бы ещё немного подкачаться, Лёха, и бороду отпустить, и будет прямо одно лицо!»
«Давайте сейчас вырежем из бумаги корону и его коронуем?»
«Не надо корону! – взмолился Алёша, приметно покрасневший. – Андрей Михайлович, пожалуйста, скажите им, что этого не нужно, не нужно превращать историческую драму в… в цирк!»
«Хорошо, безусловно, – ответил я с улыбкой. – Девочки, уймитесь, не надо бумажной короны. Но, кажется, невесомую и умозрительную корону Алексею всё же придётся принять, точно так же, как и у реального Николая Александровича не было возможности от неё отказаться».
[18]
– После мы не разошлись, а продолжили работать. Я дал группе краткую характеристику источников, вручил каждому студенту те книги, которые лучше всего описывали его героя, и предложил приступать к чтению прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, а в тетрадях делать выписки. Зашелестели страницы. Я, устроивший из аудитории подобие монастырской библиотеки, ходил между рядами и тихо радовался.
После окончания занятий я забежал на соседнюю кафедру, чтобы получить телефоны преподавателей «Истории цивилизаций» и «Эволюции системы международных отношений». Телефоны мне дали, хотя и со скрипом. Когда я вернулся на свою кафедру, мои коллеги уже все разошлись – ну, или мне так показалось. Я завязал шарф перед зеркалом – мы вешали верхнюю одежду в платяном шкафу – и тут услышал за спиной:
«Андрей Михайлович! Вы мне ничего не хотите сказать?»
Я обернулся.
Настя Вишневская сидела на диванчике в углу кафедры, и сидела так тихо, так неподвижно, что я её в первые секунды и не заметил.
«Сказать? Я, Настенька, даже и не знаю, что…» – потерялся я.
«А я на вас, Андрей Михайлович, обижена, серьёзно обижена!»
«Вот ещё, что ещё стряслось, почему?! За то, что я вам всучил часы у бакалавров?»
Настя помотала головой с серьёзным, даже строгим лицом.
«Нет, не в этом дело, мне всё равно нужно проходить аспирантскую практику, как раз очень удачно совпало. Вы ведь ещё даже денег обещали… как будто всё в мире измеряется деньгами!»
«Я не понимаю, Настя, чем я перед тобой провинился! Извините, перед вами!»
«Нет, ничего, пусть будет “тобой”, мне даже нравится. Вот поглядите, Андрей Михайлович! – она встала передо мной, высокая, сильная, обычно – но не сейчас – такая физически естественная, бесстрашная в отношении своего тела, и теперь не знала, чем занять, куда деть собственные руки, будто они только что у неё выросли. Теребила пуговицу на блузке. – Сегодня весь четвёртый курс говорит о вашем проекте! Люди восхищаются, то есть кто-то завидует, кто-то чешет языки, но большинство восхищается! Ваши студенты разобрали роли!»
«Так?»
«А меня почему не пригласили? А мне почему ничего не досталось?»
Я облегчённо выдохнул.
«Что вы вздыхаете?» – спросила Настя с подозрением и откровенно невежливо.
«Я думал, какая-то беда приключилась. Настя, милый человек, я просто предположить не мог, что вам… что тебе это тоже интересно! Ведь это просто… это своего рода студенческая игра, а ты уже исследователь, будущий кандидат наук! Я даже постеснялся тебе предложить».
«И совсем зря! Вам можно играть, а мне нельзя? И что мы теперь будем делать?»
«Если хочешь, – нашёлся я, – ты можешь выбрать любое историческое лицо того времени! У тебя едва ли получится принять участие в работе группы…»
«Вот, и это тоже!»
«Но здесь-то я в чём виноват, если лекции у всех групп четвёртого курса в одно время! И, кроме того, ты целая аспирантка, а они даже ещё не бакалавры!»
«Какая ерунда!»
«…Но я обещаю все твои мысли или тексты включить в сборник», – закончил я.
«И не только в сборник, а я хочу, чтобы вы зачитывали их вслух в вашей лаборатории! – потребовала Настя. – Я хочу быть частью коллектива, насколько у меня это получится! Извините, пожалуйста, я много прошу, да? Но я ведь вас немного разгружу от работы в апреле, поэтому у меня всё-таки есть небольшое право… Дайте мне, пожалуйста, список тех, кого уже взяли!»
Я дал ей список предварительного распределения исторических персонажей, записанный в свой учительский ежедневник. Настя сфотографировала список на телефон и, вернув мне ежедневник, уставилась на фотографию, нахмурив брови. Коротко усмехнулась:
«Лёша Орешкин, значит, будет царём и страстотерпцем?»
«Но кто же лучше него подходит? Ты на меня не сердись, Настя, пожалуйста», – попросил я.
«И вы на меня тоже. Не знаю сама, что на меня нашло… но для меня это важно! Я подумаю до конца выходных, Андрей Михайлович, можно? – Настя бросила взгляд на наши кафедральные часы и спохватилась: – Ой, как уже поздно! Побегу домой – простите!»
[19]
Тут мой рассказчик сам бросил взгляд на часы и спохватился в свою очередь:
– А ведь и правда поздно! Боюсь, я вас задерживаю и утомил.
– Я бы оставался и дольше, но гость должен и меру знать, – согласился я. – А между тем мы только начали!
– Моя жена гостит у своих родителей и вернётся что-то через неделю, – ответил Могилёв. – Я буду очень рад видеть вас у себя по вечерам, хоть даже каждый вечер, если только у вас хватит терпения добраться до конца моей истории.
– Безусловно, хватит, но я буду бессовестно злоупотреблять вашим временем, – заметил я.
– Мне несложно им поделиться, тем более что вы дали мне сегодня возможность понять, как я истосковался по слушателям. Так что, до завтра?
Мы обменялись телефонами. Андрей Михайлович вызвался проводить меня до автобусной остановки. По пути к ней мы некоторое время молчали, пока он не заговорил:
– Вам знакомы стихотворные строки, которые один современный автор приписывает нашему последнему Государю?
– А разве тот писал стихи? – поразился я.
– Нет, это литературная мистификация, конечно. Хотя… Вообще, в самом слове «мистификация» уже содержится нечто ненадёжное и не отвечающее сути дела. Кутузов в «Войне и мире», к примеру, разговаривает с Андреем Болконским, воображаемым существом, заметьте, если быть столь же дотошным, как мой бывший студент Штейнбреннер. Болконского, каким его увидел Толстой, в отечественной истории нет. Пётр Михайлович Волконский, через «В», был хорошим генералом, отличным штабистом, но, думаю, совсем не тем интересным и загадочным мужчиной, который вскружил голову Наташе. Значит ли это, что весь текст романа, связанный с Кутузовым, является мистификацией? А сам князь Андрей, про которого уже целые поколения школьников написали свои сочинения? Болконского нет, но вот эти сочинения – часть нашей истории. Поэтому чтó на самом деле является правдой?
– Вы меня убедили, – согласился я.
– А я не убеждал! Я сеял сомнения.
– Тогда посеяли их. Так что за стихи?
– Всего шесть строчек. Вот они.
In the midst of this stillness and sorrow,
In these days of distrust
maybe all can be changed—who can tell?
Who can tell what will come
to replace our visions tomorrow
And to judge our past?10
– отчётливо продекламировал Андрей Михайлович.
– Чуть странно, что Государь говорил по-английски, вы не находите? – усомнился я.
– Да нет, напротив, для него и его супруги это был язык повседневного общения, не только письменного, но и устного, как об этом свидетельствует Генбури-Уильямс, – возразил Могилёв. – Но я, собственно, не про язык. Один из моих студентов, тогдашних, обратил моё внимание на эти шесть строчек и особенно на третью. Он был убеждён, что всё действительно может ещё поменяться.
– Исторически? – поразился я. – Мы заснём – и проснёмся в Царской России или Советском Союзе?
– Или в так называемом Российском государстве Колчака. Н-нет, не исторически, хотя затрудняюсь сказать, что именно он имел в виду. Мистически, скорее.
– Та область, в которой я чувствую себя совершенно беспомощным, – признался я.
– Да вот и я тоже, – откликнулся Могилёв, – даром что десять лет своей жизни был православным монахом. Но ктó в ней не беспомощен?
[20]
В автобусе по пути домой я написал и отправил моему новому знакомому короткий текст следующего содержания.
Андрей Михайлович, Вы настоящая Шехерезада! Я теперь не усну, пока Вы не скажете, кого выбрала ваша аспирантка.
Уже отправив, я пожалел о своём суетном и не очень важном вопросе. Но ответ не заставил себя долго ждать.
Я не рассказал? Извините. Она прислала мне сообщение тем же вечером, такое забавное, что я его сохранил. Если потерпите минутку, то найду его и перешлю Вам.
Через минуту на мой телефон пришло:
Я буду Её Императорским Величеством Александрой Фёдоровной.
Глава 2
[1]
– Вы не против начать с музыки? – озадачил меня Могилёв, когда я вошёл в его кабинет.
Я подтвердил, что не против, хотя вопрос и застал меня несколько врасплох. Андрей Михайлович, кивнув, нажал на кнопку пульта дистанционного управления от небольшого музыкального центра, который стоял на полке его библиотеки (я в прошлый раз и не обратил на него внимания).
Отчётливые, чистые, несколько отрывистые фортепианные ноты, похожие на падающие жемчужинки. Характерное «мычание» исполнителя на заднем фоне.
– Это Гленн Гульд, – сразу озвучил я свою догадку.
– Да, конечно, Гульд, – откликнулся историк. – Но кто композитор?
– Бах? – неуверенно предположил я, прислушиваясь к этим чистым восходяще-нисходящим, почти математическим линиям. – Э-э-э… Куперен?
Андрей Михайлович поджал губы несколько юмористически, ничего не отвечая. Ещё некоторое время мы продолжили слушать, дождавшись выразительной паузы, такой долгой, что она показалась мне концом произведения.
– Господи, какой Бах? – осенило меня вдруг. – Это же Моцарт, Фантазия ре-минор!
Могилёв негромко удовлетворённо рассмеялся, кивая.
– А ведь так сразу и не скажешь, верно? – заметил он.
– Ещё бы: это насквозь «баховский» Моцарт, – подтвердил я.
– Мне было интересно, – пояснил Андрей Михайлович, одновременно немного убавив звук и превратив его в фоновый, – насколько манера исполнителя сумеет ввести вас в заблуждение. А ведь, строго говоря, он ничего не изменил в нотном тексте! Только замедлил темп, как бы уравновешивая его, да ещё эти staccato. Знаете, в одном из интервью Гульд сказал, кажется, что staccato – естественное, натуральное, первичное состояние музыки. А паузы, какие роскошные паузы! Специально посчитал: одна из пауз составляет здесь восемь секунд. Но, собственно, у меня был свой умысел! Я должен сказать, что это исполнение я предпочитаю всем прочим. И ведь оно имеет право быть, оно полностью оправдано внутри себя, вы согласны? А между тем это же не Моцарт! По крайней мере, не совсем Моцарт: это не вполне соответствует его подвижному и живому характеру. Скажем так: это – глубоко субъективный Моцарт, не вполне исторический. Но я его принимаю и, больше того, снимаю перед ним шляпу. Субъективность при прочтении всем известных вещей имеет свой смысл и своё место, если только она относится к изначальному материалу с должным уважением. Возможно, мы были не самыми подходящими человеческими инструментами для персонажей, в характер которых решили погрузиться. Но что такое подходящий инструмент? Вот ещё позвольте-ка… – он нажал новую кнопку на пульте дистанционного управления, и библиотека наполнилась несомненно баховской мелодией, но в несколько причудливом звучании.
– Ну, это Бах, что-нибудь из ХТК11 или «Искусства фуги», – отозвался я. – Второй раз вы меня не обманете.
– Даже и не собирался! Верно, это Контрапункт восемь из «Искусства фуги», – подтвердил мой собеседник. – А инструмент?
– Фисгармония? – предположил я.
– Нет.
– Что-то в любом случае духовое: шарманка? Механическое духовое пианино? – продолжал я догадываться.
– Нет, да нет же! Это саксофон. Да, представьте себе: берлинский квартет из четырёх саксофонистов. А ведь звучит, правда? То есть тоже звучит?
– Да уж, – пробормотал автор. – Не думал, что Бах может быть таким чувственным: это ведь почти неприлично… Я только одного не понимаю: зачем вы продолжаете меня убеждать в оправданности вашего тогдашнего метода? Я уже его признаю, я уже верю, я бы не сидел здесь иначе!
– Затем, дорогой коллега, что я сам верю не до конца, – пояснил Могилёв. – Считайте, что я продолжаю убеждать сам себя. Занимайся я этим проектом сейчас, я, возможно, всё сделал бы по-другому. Или не всё – или, может быть, я ничего бы не менял. Проблема ещё в том, что мы не можем произвольно заниматься чем угодно в любое время жизни. Разный возраст – это разный опыт, но и разная свежесть и острота ума, разная мера жизненных сил, разные возможности, наконец.
– А я вот поражаюсь широте ваших интересов, в том числе музыкальной, – заметил я. – Не лень вам было слушать интервью Гульда! У меня бы точно не хватило терпения.
– У библиотекаря бывает много свободного времени… Ну что, приступим?
– Да, конечно! – подтвердил я. – Знаете, у меня с собой запись нашей первой беседы. Вы не хотите на неё взглянуть?
– Само собой! Даже с удовольствием.
[2]
Андрей Михайлович действительно просмотрел текст первой главы, быстро, но внимательно.
– Всё отлично, – подытожил он. – Есть, конечно, пара вещей, которые можно изменить.
– А именно?
– Во-первых, то, как вы изображаете вашего покорного слугу: как некоего усовершенствовавшегося в мудрости патриарха. Это совсем зря!
– Мне так не показалось, – возразил я, – то есть не показалось, что я вас так изображаю. А если и так, считайте, что это моё прочтение и мои собственные глаза, через которые я вас вижу. – Собеседник, слегка улыбаясь, развёл руками, как бы показывая, что бессилен перед этим аргументом. – А вторая вещь?
– Представьте себе, это пунктуация!
– Да? – растерялся я.
– Да: вы так робко держитесь за правила, обозначая прямую речь внутри прямой речи кавычками.
– А как ещё можно?
– Дайте её мелким шрифтом!
– Я подумаю… – уклонился я от обещания.
– И кстати, почему бы вам не вставлять в ваш текст отрывки из «Голосов»? – предложил Андрей Михайлович. – Вот, например, уже в первую главу просится список основных источников.12 – Я невольно улыбнулся, и эта улыбка не укрылась от внимания собеседника, который сразу отреагировал: – Нет-нет, не настаиваю! Само собой, мы, историки, готовы ради большей добросовестности растоптать любую художественность, и я понимаю эту вашу улыбку.
Я обещал подумать, и с благодарностью принял его предложение цитировать текст его сборника.
– Но не томите меня, в конце концов! – прибавил я с шутливой экспрессией. – Ваша аспирантка согласилась быть её величеством. А что было дальше?
[3]
– А дальше я провёл достаточно скучные выходные, в которых единственным цветным пятном, или, вернее, кляксой стали мои звонки педагогам, – приступил к рассказу историк.
– Почему кляксой?
– Ну, я со всеми договорился без труда, кроме «Цивилизации» – «Истории цивилизации», то есть, – но вот с этим предметом вышла, действительно, клякса!
Цивилизацию у четвёртого курса вела одна мадам с какой-то заурядной фамилией – Смирнова, что ли, или Сидорова… Севостьянова, вспомнил! Но имя и отчество у неё были роскошные: Ирина Олеговна.
Я позвонил ей вечером воскресенья, извинился за беспокойство, объяснил суть проблемы, вежливо попросил о возможности зачёта «автоматом» для группы сто сорок один – и наткнулся вот на какой вопрос:
«А вы считаете “Историю цивилизаций” маловажным предметом, Андрей Михайлович?»
Я что-то залепетал о том, что, конечно, не считаю, а эта Севостьянова не унималась:
«Значит, то, как наша с вами цивилизация вписана в общемировой контекст, кем являются русские для всего мира, как мы выглядим в чужих глазах, – это всё тьфу, это даже внимания не стоит, если можно целую группу снять с занятий?»
Я тут заикнулся про письменные конспекты – и, осмелев, добавил, что грант президентский, что можно, в виде исключения, и пойти навстречу… В ответ мне сказали:
«А что, предполагается именно студенческая работа?» (Тут она угадала, это было уязвимое место моего проекта.) «Или вы снова, вы как кафедра, имею в виду, снова на дармовщинку используете общефакультетские ресурсы? Что же мы не догадались привлечь студентов к работам по кафедре? Стены там покрасить… Может быть, потому что по-другому представляем себе предназначение вуза и задачи преподавателей? Вы осознаёте, какое впечатление производите? Ваша кафедра, Андрей Михайлович, не сильно ли перетянула одеяло на себя?»
– «Ты, пацанчик, из какого района и не попутал ли рамсы?» – пробормотал я вполголоса. Могилёв сдержанно усмехнулся:
– Да, именно так это и звучало, – подтвердил он. – Мы, образованные люди, только и отличаемся тем, что научились облекать наши хамские, по сути, выпады в псевдокультурную форму. При чём здесь была покраска стен? И я только собирался сказать, что сам бы не затруднился освободить другую группу ради участия в похожем проекте, если бы их кафедра попросила об этом, как Севостьянова, если я только не ошибся с фамилией, мне заявила: она будет теперь с особым, пристальным вниманием следить за посещением её занятий моими студентами, и до сведения профессора Балакирева, её начальника, она мой бесстыдный запрос тоже доведёт. Ну, что оставалось делать? Сказать «всего хорошего» и положить трубку.
Собственно, с этого огорчения я и начал в понедельник, объявив, что на свои просьбы освободить творческую группу от занятий и сдачи зачётов получил три «да» и одно «нет», однако последнее «нет» – громкое и несколько зловредное.
Мои юные коллеги повесили носы, и некоторое время мы грустно молчали, пока Марк не решил меня ободрить:
«Андрей Михайлович, что там, ладно! Вы сделали, что могли. “Цивилизаций” осталось две пары».
Все немного оживились, и мы договорились тут же начинать установочный «мозговой штурм», чтобы определить цели, методы и последовательность действий. Эти три слова, а именно «цели», «методы» и «этапность», я написал на доске, поставив после каждого знак вопроса. Все наши дискуссии я решил фиксировать на диктофон. Ада любезно вызвалась помогать мне с расшифровкой записей и вообще взять на себя часть организационно-секретарской работы.
[4]
На этом месте я прерываю рассказ Андрея Михайловича и, пользуясь его любезным разрешением цитировать сборник «Голоса перед бурей», привожу стенограмму.
СТЕНОГРАММА
заседания № 1
рабочей группы проекта «Голоса перед бурей»
от 7 апреля 2014 года
А. М. МОГИЛЁВ. Уважаемые коллеги, приступим. Вопросы на доске, первый из них – наша цель или цели. Прошу высказываться!
МАРК КОШТ. Андрей Михайлович, разрешите спросить? Мы говорим о сверх-цели или о технической?
А. М. МОГИЛЁВ. Что вы имеете в виду?
МАРК КОШТ. Техническая цель – это написать текст, соответствующий жанру, теме и объёму. Это не ахти как сложно само по себе, потому что…
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Марк, если бы это не было сложно, Андрей Михайлович не снял бы всю группу с занятий на месяц.
МАРК КОШТ. Две недели.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Плюс сессия!
МАРК КОШТ. …Не ахти как сложно, потому что любой наш разговор можно записать, расшифровать и сделать частью текста.
АКУЛИНА КОШКИНА. Это как, мы можем сейчас наговорить семь часов любой чухни, и, опочки, всё готово? Круто, чё…
МАРК КОШТ. Вопрос в том, хотим ли мы что-то осознать, открыть, вернее… я не умею сказать это красивым языком.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР …Вернее, есть ли у нас исследовательская задача, гипотеза под эту задачу, понимание результата, к которому мы придём, понимание того, как будем идти к этому результату. В прошлую пятницу я спрашивал о том же самом.
А. М. МОГИЛЁВ. Я снова затрудняюсь с ответом, но, признаться, мне само слово «исследовательский» не кажется удачным, вернее, мне думается, оно характеризует то, что мы делаем, только с одной стороны. Мы стремимся, исходя из названия – напомню, это «Голоса перед бурей. Опыт художественно-исторического…» и далее по тексту, – исходя из названия, повторюсь, дать как бы срез общества того времени, взяв десять ярких его представителей…
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Классовых?
А. М. МОГИЛЁВ. Простите?
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Присоединяюсь к вопросу. Это представители классов? Сословий? Политических партий?
А. М. МОГИЛЁВ Д-да, если так угодно. «Да» на все ваши вопросы: и классов, и партий. Действительно, давайте посмотрим: у нас есть лидер октябристов, лидер кадетов, видная большевичка…
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Кстати, может быть, Лина хочет взять Ленина?
АКУЛИНА КОШКИНА. Мне побриться налысо для такого дела? Начать принимать гормоны, чтобы выросла борода?
А. М. МОГИЛЁВ. Если можно, оставим вопрос о Ленине и о гормонах! …Один монархист, один эсер из фракции «трудовиков». В сословном, социальном аспекте у нас есть члены правящей династии, включая самого Государя, высшая аристократия, представитель армии, разночинная интеллигенция – «трёхрублёвый адвокат», один «неторгующий купец», духовенство, творческая богема, наконец, девушка из дворянской семьи, настолько симпатизирующая пролетариям, что буквально соединилась с ними в своего рода экстазе, так что уже не поймёшь, кто она с сословной точки зрения.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. А кто духовенство?
А. М. МОГИЛЁВ. Господи, Лиза, да вы же! Я имею в виду, ваш персонаж после основания Марфо-Мариинской обители.
Сдержанный смех.
АКУЛИНА КОШКИНА. «Девушка в экстазе» – это я?
А. М. МОГИЛЁВ. Ну, а кто ещё? Верно, Лина, ваш персонаж. Или это обидно? Тогда…
АКУЛИНА КОШКИНА. Нет, я что, я ничего. Я даже горжусь. А «творческая богема» – это мадам Кшесинская?
А. М. МОГИЛЁВ. Признаться, я именно её имел в виду.
АКУЛИНА КОШКИНА. Ага, хорошо. Всё ясно. Я просто чтобы уточнить.
ИВАН СУХАРЕВ. У нас нет крестьянства!
А. М. МОГИЛЁВ. Правда. Но кто же мешал вам взять Григория Ефимовича? Взяли бы – вот и было бы вам крестьянство.
ИВАН СУХАРЕВ. Нет уж, благодарю.
А. М. МОГИЛЁВ …Поэтому и в социальном, и в политическом аспекте у нас – хорошая выборка. Представить эту мозаичную картину русского общества – уже сама по себе достойная цель. Таким образом…
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Всё сводится в итоге к чистой репрезентации? Но здесь нет исследования? Мы, получается, просто коллективно пишем научно-популярный учебник, каждый – свою главу?
БОРИС ГЕРШ. И это было бы обидно…
ЭДУАРД ГАГАРИН. А, главное, скучно! Где веселье, блеск жизни, нерв переживания личной истории?
БОРИС ГЕРШ. Сейчас, выходит, мы договоримся о целях и разойдёмся писать рефераты.
МАРК КОШТ. Ребятки, в чём проблема? Вам больше нравится чистить плац от снега картонкой? Андрей Михалыч, не слушайте их, заелись детки.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Марк!
МАРК КОШТ. О, как глазки-то загорелись! А в Израиле девушки тоже служат, кстати.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Мужлан и хам.
МАРК КОШТ. Беру пример с Алексан-Иваныча. Виноват,
матушка!
ИВАН СУХАРЕВ. Мы не против, просто…
А. М. МОГИЛЁВ. Пожалуйста, не спешите! Я не предрешаю отказа от исследования – я был бы исключительно рад рассмотреть все мелкие частные гипотезы, которые родятся в процессе работы! Говорю «частные», потому что тема, как вы можете догадаться, основательно изучена, в ней почти не осталось белых пятен.
ИВАН СУХАРЕВ. Понимаете, Андрей Михайлович, вы не предрешаете «отказа», но сами говорите, что эти белые пятна будут такими крошечными пятнышками – и, в общем… в общем, я могу понять, почему Борису обидно.
А. М. МОГИЛЁВ. Но что я могу с этим сделать?
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Вообще, это неуместная претензия к Андрею Михайловичу. Вы сами на всё согласились! Чем же вы раньше думали?
ЭДУАРД ГАГАРИН. Никто не высказывает претензии. Но я вообще-то предполагал драматургию, театр, динамику, игру, столкновение характеров.
А. М. МОГИЛЁВ. Ваша воля выбирать методы!
ЭДУАРД ГАГАРИН. Я уже сказал: драматизация событий.
А. М. МОГИЛЁВ. Вот, наконец-то. Надо бы записать…
МАРТА КАМЫШОВА. Давайте я буду записывать, Андрей Михайлович! Всё равно сижу без дела. (Пишет на доске слово «театр».)
БОРИС ГЕРШ. Реальных или альтернативных?
ЭДУАРД ГАГАРИН. Как угодно! Тех и других.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. И, говоря «альтернативных», мы немедленно встаём на почву бездоказательных спекуляций и вульгарного дилетантизма.
А. М. МОГИЛЁВ. Методика «мозгового штурма» в одном из описаний предполагает, честно говоря, такую должность, как антикритик. Позвольте мне побыть антикритиком и заметить, что на этом этапе мы будем фиксировать все предложения, ничего не отбрасывая.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР (пожимая плечами). Пожалуйста, если это соответствует методике.
МАРК КОШТ. Ребята, не дурите: работа с источниками и доклады по ним, каждый по своему персонажу. По-кондовому, по-советски. После доклада можно пообсуждать.
Марта пишет на доске «доклады» и «обсуждения».
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Аналитические доказательные статьи.
ИВАН СУХАРЕВ. Присоединяюсь. Статьи, которые бы пробовали разработать «белые пятна», посмотреть на события и процессы под новым углом, ставили бы вопросы, пытались бы дать на них ответы.
Марта пишет на доске «анал. статьи».
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Нет, Марта, не надо сокращать «аналитические» до четырёх букв!
Марта, покрасневшая, стирает сокращение под общий смех.
АЛЕКСЕЙ ОРЕШКИН. Ах, какие вы все испорченные…
Новый взрыв смеха.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Да, да, Лёша, извини. Почему только аналитические? Стихи, художественная проза? Мартуша, «стихи и проза», если можно!
Марта записывает на доске «стихи, проза».
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Ну всё, мы, похоже, окончательно решили превратить работу лаборатории в капустник и цирк…
А. М. МОГИЛЁВ. Снова напоминаю про то, что методика «мозгового штурма» не предусматривает критики на этапе сбора идей.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Но на каком-то этапе методика всё-таки её предусматривает?
А. М. МОГИЛЁВ. Сразу после.
ИВАН СУХАРЕВ. Вообще, «театр», который предлагает Тэд, не несёт ценности сам по себе, но предполагает неожиданные сочетания красок, новую оптику, эмоциональную линзу для рассмотрения фактов, поэтому не стоит его отвергать.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Можно мне? Товарищеский суд.
А. М. МОГИЛЕВ. Извините?
БОРИС ГЕРШ. Суд истории, так сказать? Как в фильме про меня, то есть про Василия Витальевича?
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР (оживившись). Да, да, прекрасная идея! Судебное разбирательство. Установление юридической квалификации и степени ответственности за произошедшие события каждого из участников.
АЛЕКСЕЙ ОРЕШКИН. Простите, есть ли у нас право судить?
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. В данном случае я, хоть и отношусь скептически к большинству методов, считаю вопрос Алексея нерелевантным.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Лёша, милый, если у нас нет права судить, то вообще ни у кого нет права, например, устраивать маскарад, или выступать на сцене, или петь в опере, или играть в шахматы…
МАРК КОШТ. …Или писать книги, или снимать фильмы.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Именно! А люди делают все эти вещи.
АЛЕКСЕЙ ОРЕШКИН. Это не совсем одно и то же…
ЭДУАРД ГАГАРИН. Или заниматься любовью.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. А это тут при чём?
ЭДУАРД ГАГАРИН. Because it’s fun, Bertie.13
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Тэд, рабочий язык группы – русский, я буду на этом настаивать, не делая никаких исключений. И, если ты заметил, меня никто не называет «Бертой».
ЭДУАРД ГАГАРИН (невозмутимо). Как же, я называю.
МАРТА КАМЫШОВА. Алексей прав. Это не совсем одно и то же. Разве у нас есть моральное право?
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Это чисто умозрительное рассмотрение, а не моральное! Именно здесь и будет содержаться небольшой элемент научной новизны, поскольку в остальных методах такого элемента не просматривается.
БОРИС ГЕРШ. Абсолютно точно, согласен – но мы должны быть готовы к ответной реакции. Если мы будем судить их, нашу работу тоже будут оценивать более строго.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Бездоказательный восточный мистицизм.
БОРИС ГЕРШ. «Да, скифы мы, да, азиаты мы»!
ИВАН СУХАРЕВ (вполголоса). О, вы-то особенно…
МАРТА КАМЫШОВА. Андрей Михайлович, мне записывать «суд»?
Могилёв кивает. Марта пишет «суд» на доске.
А. М. МОГИЛЁВ. У нас всех разные взгляды, разные ощущения, разное понимание того, что важно. Именно поэтому мы обречены на некоторую мозаичность результата, и именно поэтому я предложил бы сейчас принять все без исключения названные методы, правда, не как догму и непременную обязанность, а как ориентир. Я не буду настаивать, просто это то, что говорит здравый смысл.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Андрей Михайлович, вы позволите? Я вижу тут определённую логику. (Подходит к доске, берёт у Марты мел и нумерует отдельные элементы списка арабскими цифрами.) Каждый персонаж разбирается по очереди. Вначале мы слушаем доклад и обсуждаем. (Ставит «1» рядом с «доклады и обсуждения».) Если в ходе обсуждения рождаются гипотезы, мы углубляемся в эти гипотезы и, может быть, назначаем ответственных за их разработку. (Дописывает на доске слово «гипотезы».) После мы сосредотачиваемся на каких-то важных событиях и воспроизводим их в виде сценок. (Ставит «2» рядом с «театр».) Дальше читаются все тексты, относящиеся к персонажу, если они были написаны. (Ставит «3» рядом с пунктами «статьи» и «стихи, проза».) Наконец, если остались ещё вопросы и нужно прояснить гипотезы, мы проводим суд. (Пишет «суд» под номером «4».) Всё это фиксируем, ход обсуждения – тоже.
А. М. МОГИЛЁВ. Ада, вы умница! Я сам хотел предложить нечто подобное, но вы сообразили быстрее. Давайте проголосуем за эту структуру. Кто «за»? Восемь… девять… Альфред?
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Я вынужден для того, чтобы не быть обвинённым в отсутствии групповой солидарности, согласиться с этим планом, хотя и под некоторым нажимом.
МАРК КОШТ. Хе-хе.
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. Тебе абсолютно никто не мешает голосовать «против»!
МАРК КОШТ. Ага, конечно, «против»! Фредди у нас тоже не дурак – сдавать ещё три экзамена и три зачёта.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Если я соглашаюсь, то вижу известную пользу, поэтому не надо изображать из меня штрейкбрехера, вернее, наоборот, забастовщика, в общем, того, кем я не являюсь. (Поднимает руку.)
А. М. МОГИЛЁВ, Принято единогласно, спасибо.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Время! Мы должны понять, сколько времени мы можем отвести на каждого.
МАРК КОШТ. Два дня.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Мы не успеваем изучить десять персонажей за оставшиеся три недели с небольшим. До начала мая осталось пятнадцать учебных дней.
АЛЬФРЕД ШТЕЙНБРЕННЕР. Восемнадцать, если быть точным.
МАРК КОШТ. Я имел в виду календарные дни.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА. Календарных? Я, если честно, не думала…
ЕЛИЗАВЕТА АРЕФЬЕВА. И Андрей Михайлович тоже не подписывался возиться с нами в выходные, у него могут иметься свои личные планы…
А. М. МОГИЛЁВ. Это исключительно самоотверженно с вашей стороны – жертвовать выходными, если только это общее решение, конечно. Думаю, что по выходным можно не усердствовать очень уж, работать до полудня. Нет, у меня нет личных планов! А ещё нам нужно учесть, что персонажей вообще-то одиннадцать, поэтому…
Общая растерянность, восклицания «Почему?», «Откуда одиннадцать?», «Здрасьте, пожалуйста!».
А. М. МОГИЛЁВ. Анастасия Николаевна, моя аспирантка, желает быть Её Величеством Александрой Фёдоровной. Она, можно сказать, настаивает на своём желании. Если мы ей откажем, она в свою очередь может отказаться заменять мои часы в других группах, в этом случае я не могу посвятить вам всё время, и тогда весь наш проект начинает хромать на обе ноги.
Общее несколько обескураженное молчание.
Марк Кошт вдруг начинает смеяться.
АЛЬБЕРТА ГАГАРИНА (гневно). Я не вижу здесь ничего смешного, ни грамма!
МАРК КОШТ. Нет, я просто вообразил себе Лёшу, нашего Хозяина Земли Русской и Помазанника, который сидит тут же вместе с нами и смущается от слова «анал» – извини, Лёша… Это будет та ещё парочка. А что? Учитывая, что Аликс из своего Никки, как говорят, верёвки вила, очень даже исторично…
Гагарин издаёт короткий смешок. За ним усмехается и Марк. Смешки слышны повсюду – все, кроме Марты Камышовой и Алёши Орешкина, смеются в голос.
А. М. МОГИЛЁВ. Всё, всё, хорошо, не надо смущать вашего коллегу. Ему и так… (Сквозь смех.) Ах вы, черти! Как с вами работать? Объявляю перерыв пять минут.
[5]
– После небольшой перемены, – рассказывал Могилёв, – мы продолжили работу, но стенограммы этой второй части нашего «штурма» увы, не сохранилось. Каюсь, я просто-напросто забыл включить диктофон. Нам оставалось определить последовательность работы, и первое время побеждала идея устроить жеребьёвку. Но тут ваш покорный слуга вспомнил об идее Василия Розанова – я тогда читал его «Опавшие листья», ради отдыха и чтобы не слишком отрываться от изучаемого периода, – идее Василия Розанова о том, что каждый человек имеет некую высшую меру своего творчества и, возможно, жизни, до достижения которой он ещё не является «вполне собой». У любого из выбранных персонажей, безусловно, был такой пик карьеры, когда их звезда «сияла ярко» – кажется, выражение из писем Александры Фёдоровны. Нам следует, сказал я, расположить наших героев в порядке достижения ими высшей точки их биографии. Эту мысль все одобрили, и всего лишь минут за двадцать мы набросали простенькую хронологическую таблицу.
– Вы могли бы припомнить эту таблицу? – спросил я.
– О, без всякого труда! Пожалуйста. Номер первый: Матильда Кшесинская. 1896 год: становление прима-балериной. Номер второй: великая княгиня Елисавета Фёдоровна. 1909 год: основание Марфо-Мариинской обители…
(Для удобства читателя я решил представить всё, сказанное Могилёвым, в виде таблицы, которая следует дальше. Государь появляется в двух местах: как пояснил рассказчик, в его жизни обнаруживаются две вершины, «светская» и «религиозная».)
Высшие точки биографии
(хронологическая таблица)
Даты указаны по старому стилю.
1. Матильда Кшесинская. 1896: получение звания прима-балерины.
2. Вел. кн. Елисавета Фёдоровна Романовна. 1909 г.: создание Марфо-Мариинской обители милосердия.
[3. Е. И. В. Николай Александрович Романов (II). 25 октября 1915. Получение ордена Св. Георгия IV степени.]
4. Павел Николаевич Милюков. 1 ноября 1916 г. «Глупость или измена?» (знаменитая речь в Государственной Думе)
5. Кн. Феликс Феликсович Юсупов. 17 декабря 1916. Убийство Распутина.
6. Василий Витальевич Шульгин. 2 марта 1917 г. Присутствие при отречении Государя.
7. Александр Иванович Гучков. 3 марта 1917 г. Вступление в должность военного и морского министра Временного правительства.
8. Михаил Васильевич Алексеев. 4 апреля 1917 г. Назначение Верховным главнокомандующим российской армии.
9. Александр Фёдорович Керенский. 7 июля 1917. Становление министром-председателем Временного правительства.
10. Александра Михайловна Коллонтай. 30 октября 1917 г. Назначение народным комиссаром общественного призрения в первом составе Совнаркома.
[11. Е. И. В. Николай Александрович Романов (II). 17 июля 1918 г. Принятие мученической кончины в подвале дома Ипатьева.]
– Среди ваших героев, кажется, нет царицы? – заметил я, когда мы разобрались с именами и датами.
– Вы абсолютно правы! – подтвердил Андрей Михайлович. – Дело в том, что седьмого апреля до конца месяца оставалось ровно двадцать три дня, даже если считать субботы и воскресенья. Вычитая из двадцати трёх двадцать, получим три дня, которых только-только хватило бы на обработку текста. Староста поэтому предложила изучать Александру Фёдоровну по остаточному принципу, при наличии времени. Я нашёл нужным поставить это на голосование, и большинство группы поддержало предложение, кажется, только девушки воздержались. Сама Настя не участвовала в этот момент в обсуждении, поэтому не могла отстоять своего закреплённого места в расписании, а у меня тоже не было возможности и даже морального права сопротивляться, ведь, строго формально, в их предложении оставить государыню «на самый последок» имелось разумное зерно.
– Кажется, Настю… Анастасию Николаевну, то есть, ваша группа не очень любила? – осторожно предположил я. – Иначе бы ведь они нашли возможность потесниться?
– Возможно, – согласился собеседник. – Анастасия Николаевна, во-первых, ничего у них не преподавала, да и вообще, её замена моих занятий стала, кажется, её первым педагогическим опытом в вузе. Во-вторых, они ей, пожалуй, завидовали…
– Завидовали?
– Ну а как же? Девушка старше их всего только на четыре года, а кого-то и всего только на три, но двумя академическими ступенями выше.
– Позвольте, как же на три? Если они были на четвёртом курсе бакалавриата, а она на втором году аспирантуры… – принялся я высчитывать.
– Да очень просто: Марк пришёл в вуз после армии, – пояснил историк. – Ада была старше брата на год, а училась с ним в одной группе потому, что ей пришлось пропустить год в школе по серьёзной болезни почек. Что-то болезненное выдавало даже её лицо, если присмотреться к нему: некое превозмогание себя… А Альфред, например, на третьем курсе брал годичный академический отпуск.
– Тоже по болезни?
– Нет, представьте себе: он самостоятельно вступил в переписку с одним немецким фондом – имени Роберта Боша, кажется, – стал его стипендиатом и выиграл годичное бесплатное обучение в Германии в некоем колледже или семинарии, что-то, связанное с исторической юриспруденцией или, наоборот, с правовыми аспектами истории. Это, как он пояснял, является для него важной фазой его научного роста.
– Какой целеустремлённый молодой человек… то есть, виноват, дяденька! – поразился я.
– Вот-вот! – подхватил историк. – Этим двум «дяденькам» Настя казалась, наверное, их ровесницей, незаслуженно вставшей за лекторскую кафедру.
– Вы позволите ещё вопрос? Коль скоро ваша группа перестала вас слушать и начала «самоуправляться», вы, значит, отказались от того, чтобы быть их учителем, и остались только кем-то вроде старшего товарища?
– Совершенно верно, – подтвердил Могилёв, – да я ведь уже говорил об этом. Вас, похоже, берёт сомнение по поводу того, насколько уместно педагогу в отношении студента становиться только более опытным другом? Это справедливое сомнение! Но тут и обстоятельства были особыми: речь шла о студентах четвёртого курса в самом конце их последнего семестра в вузе. Большинство из них вовсе не собирались ни в какую магистратуру – никто, кроме Штейнбреннера да, быть может, Ивана Сухарева. Потом, они по сути и перестали быть студентами, как только мы вовлекли их в этот проект! Они стали участниками лаборатории, которыми я уже не мог произвольно распоряжаться, повелевая одно – делать, а другое – отбрасывать. Верней, мог бы, но при такой моей манере руководства их интерес к проекту сразу бы сошёл на нет, они тогда разбежались бы под разными благовидными предлогами, наше начинание мирно скончалось бы естественным путём – и мне пришлось бы кусать локти. Наконец, вы не всё знаете…
– Виноват! – покаялся я. – Само собой, я нечаянно забегаю вперёд – из естественного любопытства.
[6]
– Вторым занятием в понедельник у моих студентов была «История цивилизаций», тот единственный предмет, с которого мне не удалось их снять, – продолжил Могилёв. – Они собрались и ушли с грустными шуточками. Я тоже отпускал их с огорчением и своего рода ревностью. А отпустив, пошёл на приём к Сергею Карловичу Яблонскому, декану исторического факультета.
– Для чего?
– Ну как же! Севостьянова могла уже успеть пожаловаться на меня профессору Балакиреву, своему начальнику, а тот – декану. Поэтому я всего лишь пытался застраховать себя от возможных неприятностей, ведь повинную голову, как известно, меч не сечёт.
Мне пришлось подождать, но наконец Яблонский меня принял со своей обычной предупредительностью. Тут пара штрихов к его портрету, если позволите. Сергей Карлович, всегда прямой как струнка, всегда вежливый, всегда тщательно выбритый, неизменно аккуратный в одежде и причёске, чем-то напоминал пожилого офицера – выпускника Академии Генштаба. Пожилого, потому что ему за год до того исполнилось шестьдесят.
Декан выслушал мою историю внимательно и, так сказать, сочувственно. Нет, он ничего не знал, ему никто ничего не рассказывал, верней, донесли только некий дикий слух о том, что доцент Могилёв в пьяном виде звонит своим коллегам со смежных кафедр и требует для себя особых полномочий.
«Вот видите, теперь всё прояснилось, – подытожил он мой рассказ. – А то, признаться… Вы затеяли очень интересное дело, Андрей Михайлович! Даже завидки берут: будь я помоложе лет на тридцать, охотно бы к вам присоединился. Жаль только одного! А именно того, что вас, уважаемый Андрей Михайлович, против вашей воли и мимо вашего осознания, кажется, втянули в не очень красивую интригу…»
«В интригу? – испугался я. – Я не понимаю, в какую…»
«Вы и не обязаны, мой милый! Это не ваша профессия. Но я поясню, извольте. Если вы только обещаете молчать обо всём до момента моего ухода с должности. После вы свободны от обещания. Правда, и сами тогда не захотите болтать…»
Я обещал.
«Я достиг, как вы знаете, пенсионного возраста, – начал Яблонский. – Мой пятилетний трудовой договор истекает в июне. Контракты с руководителями моего возраста при их возобновлении заключаются только сроком на год, да и то, предпочитают искать коллег помоложе. Та ещё глупость, но речь сейчас не об этом. Владимир Викторович, как вы тоже знаете, наметил себе сесть в моё кресло».
«Именно в ваше? – усомнился я. – Говорили что-то про секретаря Учёного совета…»
«Да, да, этот вариант тоже рассматривают – как утешительный приз проигравшему, знаете ли. Потому что декан на своём факультете – царь и бог, а за секретарём Учёного совета, хоть должность и высокая, общевузовское начальство ближе и следит за ним пристальнее. Проигравшим может стать или Бугорин, или Дмитрий Павлович Балакирев – то есть это они оба так считают. Если сейчас доцент с кафедры Бугорина выигрывает федеральный грант, Владимир Викторович получает благодарственное письмо, и это склоняет чашу весов в его пользу. То есть, повторюсь, это он сам так думает…»
«А в чём он ошибается?»
«В том, что контракт со мной могут переподписать! Я за своё место не держусь, уйду даже с удовольствием, но имею опыт, вникаю в дело, не рублю сплеча, не плету интриг, не проявляю барства, и по всему этому – начальству может быть проще работать со мной, чем с Владимиром Викторовичем, который резковат, чего греха таить. Оттого здравый смысл может и победить требования мёртвой буквы. Тут – бабушка надвое сказала. А теперь поразмыслите сами, как удачно всё складывается для вашего непосредственного начальника! Вы успешно завершаете свой проект – и у него есть все основания подвинуть меня, старика, ведь это под его руководством, не под моим, молодые педагоги выигрывают президентские гранты. Не обижайтесь на “молодого”, Андрей Михайлович дорогой, это – относительное определение. С другой стороны, может у вашей лаборатории пойти что-то не так, даже со скандальным оттенком “не так”. Десять честолюбивых молодых людей, знаете ли, десять юных дарований в одном пространстве – вдруг им станет тесно?»
«Не дай Бог, Сергей Карлович!»
«Не дай, не дай, конечно! – согласился он. – Но вдруг? Или вот девочки. Сколько их в сто сорок первой группе, три? Ах, четыре? Примут близко к сердцу эти переживания вековой давности и – эмоциональные выплески, проблемы со здоровьем. А родители тут как тут. В наши дни некоторые студенты и на четвёртом курсе живут с родителями, вы представляете?»
Я промолчал. Что там студенты! Не только студенты, но и некоторые преподаватели, давно разменявшие четвёртый десяток.
«Родители – жалобу, и получаем мы, милостивый государь, скандальную известность в местном масштабе, – продолжал декан. – А кто виноват?»
«Бугорин? – предположил я.
«А вот и не угадали! Не Бугорин, а ваш покорный».
«Почему?»
«Ну, как же вам не ясно, Андрей Михайлович? Потому что такое исследование, ради которого студенты снимаются со всех занятий по всем предметам, – это общефакультетское дело. И вовсе зря вы добивались от Владимира Викторовича распоряжения об организации лаборатории. Он бы вам его не дал просто потому, что не был полномочен». (Я покаянно покивал: да, это я мог бы и сам сообразить.) «Хотя не поэтому не дал, конечно, а чтобы вы не получили оружия против него же. Итак, заведующий кафедрой – ни сном ни духом. Напротив, выяснится по бумагам, что как раз в эти дни он с сотрудниками проводил инструктаж о том, чтобы всемерно укреплять, так сказать, учебную дисциплину, пристально следить за пропусками занятий и прочее. Вот увидите ещё. А декан знал о творящемся безобразии – и не принял мер. Или даже вовсе не знал, что происходит на вверенном ему факультете, и неизвестно, что хуже. Разве не надо его снять с должности, если он такой безалаберный? Тем более что и снимать не нужно: достаточно просто не подписать новый трудовой контракт. Понимаете теперь, почему для Владимира Викторовича оба варианта выигрышны, и даже ему, пожалуй, выгоднее, чтобы вы провалились? Да вы простите меня, идею про лабораторию – это не он вам нашептал?»
«Что вы, Сергей Карлович! – запротестовал я. – Мне само всё пришло в голову!»
«Но ведь вас, мой дорогой, поставили в такие условия, что вам и не могло ничего другого прийти в голову? О, это высший пилотаж…»
Мы несколько секунд помолчали.
«Мне очень жаль, Сергей Карлович, – пробормотал я. – То есть если всё и правда так. Очень жаль, что и сам, похоже, влип, и вас подвожу под монастырь».
«Да Господь с вами! – отозвался Яблонский. – Я-то буду возиться с внуками, писать этюды для души. А жаль вас, мой милый, молодую энергию и научный энтузиазм которого используют для таких пошлых целей. И ещё жаль того, что ваш заведующий кафедрой вами пожертвует без всяких сентиментальных чувств. Случись что, и строгий выговор – это для вас самое меньшее. А ведь вы не останетесь после такого выговора?»
Я, кивнув, продолжал сидеть, глядел перед собой в одну точку и пытался сообразить: что же надо сказать? Ничего нельзя было сказать: надо было благодарить за преподанный урок, извиняться и уходить.
Яблонский снова заговорил:
«Размышляю вот, Андрей Михайлович… Размышляю: не подписать ли мне общефакультетское распоряжение о создании вашей лаборатории?»
«Зачем? – изумился я. – Это укрепит мои позиции, конечно, и я буду благодарен, но ведь для вас – лишняя ответственность и лишний риск?»
«Бежать ответственности некрасиво, мой дорогой, – сентенциозно заметил декан. – А про риск – кто знает? Я ведь в своём приказе ответственность за его исполнение и взаимодействие структурных подразделений между собой возложу на вашего непосредственного начальника. А? Ха-ха! То есть в плохом случае, в случае скандала, виноват окажется в первую очередь он. Я тоже, но он – больше. А если всё пойдёт гладко, то я окажусь причастным к вашим общероссийским лаврам, потому что я же и распорядился. Считаете, дурно с моей стороны?»
«Нет, не считаю, – искренне ответил я. – Восхищаюсь вашей…»
«…Административной смекалкой? – догадался декан. – Так ведь, мой хороший, не первый год сижу в своём кресле… Вот что: я вам пока ничего не буду обещать. Надо мне сначала успокоить Ирину Олеговну с кафедры всеобщей истории, которая сегодня утром уже донесла, что вы ей звонили в нетрезвом виде и стучали кулаком по столу. Зайдите ко мне завтра примерно в то же время, договорились? Завтра сумею вам сказать что-то более определённое. Грех, Андрей Михайлович, просто грех – на корню рубить научное творчество и лишать энтузиазма тех, кто движет его вперёд! Это – моё главное соображение, а вовсе не бюрократические мысли».
– Какой славный у вас был декан! – заметил я рассказчику на этом месте. – И как это глупо – увольнять таких людей просто по достижении ими пенсионного возраста, руководствуясь хоть законом, хоть ведомственной инструкцией! Человек ради закона, или закон ради человека? Впрочем, извините, – спохватился я. – Это – такие самоочевидные банальности…
Андрей Михайлович молча кивнул.
[7]
– После обеда, – продолжал Могилёв, – работа группы возобновилась. Первая очередь выходила Марте Камышовой. Я деликатно спросил её, готова ли она сделать доклад по своему персонажу сегодня. Марта лаконично ответила, что готова, и мы приступили к слушанию её доклада без всяких предисловий.
Девушка вначале явно робела этой своей роли докладчицы и поэтому говорила лаконично, сухо, простыми фразами, но к концу своего сообщения немного оттаяла, стала поживей, будто увлёкшись против воли. Пять вещей, сказала Марта, поразили её в Кшесинской (а она читала и «Воспоминания», и дополнительные источники, например, недавно всплывший дневник балерины – архивный документ, который я тогда сумел раздобыть, кажется, в «Киберленинке»; только через три года этот документ опубликует некая бульварная газета вроде «Московского комсомольца»).
– «Киберленинка» недавно ограничила бесплатный доступ к авторефератам и архивным документам, вы знаете? – перебил я рассказчика.
– Да? – поразился Могилёв и даже по-детски приобиделся: – Как же им не стыдно… Торгаши! Позор!
Но вернёмся к нашим героям. Пять вещей впечатлили мою студентку. Во-первых, настойчивость и трудолюбие: оказавшись в эмиграции, Матильда вовсе не опустила руки, не лила слёз, не проедала драгоценности, а нашла работу, причём по специальности: открыла студию, в которой преподавала балетное искусство. (Отмечу тут как бы в скобках, что Марта неизменно называла свою героиню по имени и отчеству: Матильда Феликсовна.) Во-вторых, мужество: не испугалась ехать с революционными матросами, чтобы спасти из уже отобранного ленинцами особняка не Бог весть какие ценные, но дорогие сердцу вещи. Или ещё: одна еврейка-большевичка поставила балерине на вид, что она ходит по новой резиденции большевиков неаккуратно, та же ей ответила, что у себя дома – в знаменитом «дворце» по адресу Кронверский проспект, один – она будет ходить так, как считает нужным. (На этом месте кто-то хмыкнул, Лина или, может быть, Герш.) В-третьих, бескорыстие, как ни странно это звучит по отношению к женщине, которая так любила драгоценности и с таким удовольствием их носила. Но не о потерянных драгоценностях болело её сердце в эвакуации, а вот: не смогла она спасти последнее письмо Государя и его фотографию. В-четвёртых, религиозность, проросшая через «маленькую К.» ближе к концу жизни, пусть несколько наивная, пусть немного напоказ, но даже и так – искренняя: её сон о царской семье, об их пребывании на пороге и её попытке открыть им двери пением пасхального тропаря, сказала Марта, невозможно читать без слёз. Наконец, некая трогательная чистота. В чём же? Да вот хоть в этой истории с Наследником, которая в наши дни повёрнута всеми боками, изучена под микроскопом, заляпана грязными пальцами кинорежиссёров с вульгарно-претенциозными фамилиями, а тогда отнюдь не находилась в фокусе чьего-либо внимания. Истории, в которой вовсе не было расчётливой соблазнительницы, а была только горячая и живая, совсем молоденькая, полностью искренняя и очень любящая девочка, которая по-женски подчинилась всем решениям своего милого, а вовсе не пробовала плести интриги или воспользоваться его минутной слабостью. И да, отметила Камышова: возможно, между этой девочкой и Наследником так ничего и не случилось, в смысле плотского общения. Но если и случилось, случившееся – личное дело этих двоих, а ей, докладчице, было почти стыдно заглядывать в этот чужой дневник, и, когда бы не сотня прошедших лет, не желание защитить чужое доброе имя да не задание, полученное от группы, она бы свой стыд так и не сумела пересилить.
Конечно, Марта рассказала это всё более простыми словами и несколько более сбивчиво: она никогда не отличалась умением краснó говорить на публику. Заодно уж позвольте описать мою бывшую студентку. Марта Камышова была девушкой несколько выше среднего роста, исключительно скромной, но скромной не от боязни людей или затравленности, ничего такого в ней, если присмотреться внимательно, не имелось, а скромной от внутреннего спокойствия; девушкой, как бы даже не вполне осознающей свою женственность, будто ей недавно исполнилось пятнадцать лет, а вовсе не двадцать один. По этой же причине, думаю, никогда она не использовала никакого макияжа, а платья носила «детского фасона», то есть короткие, выше колена, но полностью закрытые, серые или коричневые, напоминающие, знаете, советскую школьную форму, не хватало только белого передника. И заколки-то в её пышных светлых волосах, не доходящих до плеч, иногда разлетающихся от статического электричества, были совсем простенькими, детскими. И лицо тоже под стать: хорошее, но немного простоватое, не из тех, на которые мальчики обращают внимание. Некоторые девушки нарочно эксплуатируют образ невинной школьницы, в каковой эксплуатации, конечно, уже не содержится ничего невинного, напротив, от этого знающего себе рыночную цену порочного инфантилизма волосы встают дыбом от ужаса. Что там девушки! Целые страны вроде Японии. Я порой грешным делом думал: может быть, и эта девочка нарочно притворяется невинней и юнее, чем есть, так сказать, торгует своей незрелостью? Но каждый раз, ловя взгляд этих глубоких православных глаз, убеждался: нет, не притворяется, не торгует, кто угодно, но не она. Глаза, кстати, у неё были карими, против всякого ожидания. Редкое сочетание со светлыми волосами.
– Печоринское, – заметил я.
– Точно, печоринское! – подхватил собеседник. Как там у Михаила Юрьевича, «признак породы»? В Марте определённо чувствовалась некая порода, вот только невозможно было с уверенностью сказать, какая.
Под самый конец девушка, тряхнув светлым облачком своих волос, призналась:
«Да! Мне вчера ещё приснился сон. Мне снилось, будто я стала… Матильдой Феликсовной. И у меня есть пара изящных таких туфелек, белых. Я пришла к кому-то в гости, шумная компания, но мне нужно бежать в другое место, но сделать так, чтобы другие не догадались, что я ушла. Тогда я оставляю эти туфельки в прихожей и иду босиком. Или не босиком: возможно, меня несёт на руках любимый человек, Андрей… Господи, великий князь Андрей Владимирович, я имела в виду! – тут же поправилась Марта, видя, что большинство повернулось в мою сторону с весёлым недоумением. – Пожалуйста, простите. Вот».
Мы подождали несколько секунд – но это был конец доклада.
«И… это всё? – осведомилась Ада Гагарина. – А… статья или эссе?»
«Статью я не успела написать, извините. Наверное, и не смогу», – призналась Марта.
«Огорчительно, – вырвалось у Штейнбреннера. – И эмоции – не совсем то, что лично я ждал от доклада академического характера. Или я ошибаюсь?»
«Да нет, Альфред, ты не ошибаешься», – ответила ему староста. У Марты от обиды задрожали губы.
«Вашим товарищем была проделана большая работа, – поспешил я вмешаться. – Что до статьи или эссе, то у каждого из вас свой стиль и своеобразие личности. Не забывайте также, что не каждому слова легко приходят на ум и не каждый готов писать художественную прозу. Наконец, Марта была самой первой, у неё было меньше всех времени!»
«Андрей Вла… Андрей Михайлович, спасибо большое!» – поблагодарила меня девушка, у которой – или мне это показалось? – её выразительные карие глаза были на мокром месте. Никто кроме меня, думаю, не заметил этой оговорки с отчеством, но я от неё поёжился.
«Верно, оставьте Марфутку в покое! – буркнул Кошт. – Подумайте лучше, что отсюда можно извлечь».
«Как минимум этот вопрос невинности или не-невинности заслуживает внимания!» – тут же вмешался Эдуард Гагарин.
«Как это?» – не поняла Марта, и Тэд пояснил:
«Действительно ли наш Лёша, то есть, I beg your pardon14, Наследник, так активно сопротивлялся и на самом ли деле маленькая К. “приняла все его решения, не пробуя воспользоваться минутной слабостью”, как нас сейчас пытались убедить?»
Раздались смешки. Марта часто заморгала. Я подумал, что пора мне снова вмешиваться, и уже откашлялся для того, чтобы высказаться, но тут…
Андрей Михайлович примолк и выждал выразительную паузу, лукаво поглядывая на меня.
[8]
– Ваша пауза длится уже дольше десяти секунд, – пробормотал автор, тоже удерживая улыбку. – Вы, в отличие от Гленна Гульда, рискуете смазать художественное впечатление.
– Что вы! – откликнулся Могилёв. – Паузами, поверьте мне, никогда ничего нельзя испортить. Чем дольше живу, тем больше в этом убеждаюсь.
Но не буду вас томить! Тут дверь распахнулась – и на пороге встала Настя Вишневская. Все обернулись к ней.
«Мы тебя не ждали, Настя… извините, вас, Анастасия Николаевна», – сказал я первое, что сказалось. А по сути надо было бы ещё по-другому: «Мы вас не ждали, ваше императорское величество!»
Настя действительно успела, что называется, поработать над образом. В тот день она собрала волосы в узел на голове, закрепив их крупным антикварным гребнем, и разыскала в своём гардеробе длинное, почти в пол, глухое тёмно-серое платье. На платье ближе к вороту она поместила серебряную брошь в виде ветки цветущей яблони. Цветами яблони служили светлые полудрагоценные камушки, недорогие, вроде розового кварца. Всё вместе производило впечатление продуманности, сдержанного достоинства или даже холодного величия.
Видимо, не только на меня, потому что вся группа как замерла. Один Тэд, подбежав, отвесил Насте преувеличенно-низкий, несколько шутовской поклон:
«Ваше величество, вас действительно не ждали!»
«У вас, Анастасия Николаевна, должно ведь быть занятие в сто сорок второй?» – нашёлся я наконец.
«Я им дала контрольную», – обронила Настя в ответ, идя к доске. Мы находились в той же самой аудитории, в которой начали работу утром. С доски ещё не стёрли хронологическую таблицу с именами персонажей. Анастасия Николаевна стала перед ней.
«А ведь меня нет в этом списке, – проговорила она, чуть нахмурившись. – Я здесь, похоже, никому не интересна?»
«Так точно, мадам, – подтвердил Кошт. – Вас нет в этом списке».
И вдруг, достав из внутреннего кармана своей чёрной, с заклёпками, кожанки антибликовые очки для ночного вождения – Марк был мотоциклистом, – он как-то дерзко надел их и посмотрел на неё поверх очков. Настя вздрогнула от его неуютного взгляда.
«Браво, Марк, – пробормотал я. – Как исторически точно…»
На этом месте автор прервал рассказчика:
– Почему «исторически точно», если вы мне простите моё невежество?
– Потому что Александр Иванович Гучков, явившийся к государыне поздно вечером седьмого, кажется, марта семнадцатого года – то есть уже в своём новом качестве, министра революционного правительства, – носил автомобильные очки, – охотно пояснил Могилёв. – Жёлтые, согласно Лили Дэн, а по Солженицыну – тёмно-зелёные. Конечно, у меня больше доверия первой как непосредственной свидетельнице.
– Зачем, хотел бы я знать, – пробормотал я почти про себя, но собеседник услышал и ответил:
– Вопрос вроде бы мелкий, но меня он занимал тоже! Я раньше считал, что Гучков прятал лёгкое косоглазие, которое можно разглядеть на его фотографиях. А в тот момент я своими глазами увидел, зачем.
– Зачем же?
– У меня не хватает слов, чтобы объяснить… «В качестве вызова» – вот и всё, что приходит на ум. Вам надо было видеть тот обмен взглядами!
Лиза первая нашлась, как смягчить впечатление неотёсанности от нашей, Господи прости, лаборатории. Она вдруг заговорила:
«Анастасия Николаевна, да, так вышло, но это не значит, что мы вам не рады! Позвольте представиться: я – Элла». Девушка, конечно, использовала семейное имя великой княгини.
Настя, кивнув, чуть улыбнулась своей «сестрёнке», первый раз с того момента, как вошла. Я решил брать инициативу в свои руки и предложил:
«Уж если Анастасия Николаевна косая черта Александра Фёдоровна здесь, давайте вовлечём её в общую работу».
[9]
«А давайте! – вырос откуда-то Тэд Гагарин. – Мы собирались ставить сценический эксперимент».
«Правда, что ли?» – испугалась Марта, но Тэд замахал на неё руками, приговаривая:
«Марфуша, мы видим, что ты пока не готова! Тебе бы и с причёской поработать, и с голосом… А вот царица-матушка сегодня во всеоружии! Your Majesty!15 – продолжил он, обращаясь к Насте. – Мадмуазель Кшесинская сегодня прочла доклад о себе и всех нас жгуче заинтересовала вот каким вопросом: что было бы, если бы ваша помолвка с последним русским царём расстроилась, а он вместо этого женился бы на своей “маленькой К.”, которую полюбил “страстно и платонически”? Отрежьте мне голову, но я не знаю, как “страстно” сочетается с “платонически”. Может быть, у царя появился бы здоровый наследник? Скажите мне: нам всем интересен этот spin-off16, эта альтернативная ветка?»
Тэд был даровитым, но ленивым студентом, в котором, однако, содержалась масса актёрства. Убей Бог, не понимаю, почему он пошёл на исторический факультет: что история в нём для себя приобрела, а приобрела не очень многое, то драматическое искусство, бесспорно, потеряло.
Выходка Тэда застала всех врасплох, включая, конечно, и меня. Но несколько человек заговорили почти сразу:
«Законы Империи о престолонаследии не дали бы этого сделать, поэтому какой смысл спекулировать?» – Иван Сухарев.
«Господа, законы о престолонаследии – не каменная стенка: Павел Первый их менял, а дед последнего Государя сделал свою фаворитку морганатической супругой», – это был ваш покорный слуга.
«Ну вот, началась подмена науки фиглярством, я так и знал!» – Штейнбреннер.
«Давайте, давайте!» – Лиза.
«Я готова! Что от меня требуется?» – Настя.
Тэд, не теряя напора, тут же подвёл к ней прячущегося за чужими спинами Алёшу Орешкина и пояснил: дескать, сейчас на дворе – восьмое апреля тысяча восемьсот девяносто четвёртого года, день помолвки последней царственной четы. Почему бы не вообразить, будто история пошла по другому пути, будто Аликс так и не дала согласия? Вам, Анастасия Николаевна, придётся больше всех постараться, ну и тебе, Алёша, тоже не зевать: убеди нас, что молод, влюблён и вступишь на российский престол через семь месяцев.
Настя кивнула. Она сразу уразумела, что нужно делать, при этом глядела на своего «возлюбленного» с такой, знаете, ласковой насмешкой, которая заставляла поверить, что ей будет несложно справиться с задачей. Бедного Алёшу было искренне жаль! Он так растерялся, что, кажется, даже рот открыл. Воскликнул наконец:
«Да не могу же я изображать Наследника в свитере!»
«А ты свитер сними и рубашку выправи, – по-хозяйски посоветовал ему Марк. – Будет похоже на летний флотский китель».
Алёша и глазом моргнуть не успел, как с него кто-то стащил свитер, а кто-то другой выправлял его рубашку, не слушая возражений о том, что она мятая.
Стулья, поставленные ранее полукругом, мы быстро убрали, так что образовалось достаточное «сценическое пространство». И вот наш эксперимент номер один начался. Он осложнялся тем, что мы решили быть лингвистически достоверными, но сделать это оказалось не очень просто. По очевидным причинам беседа наших персонажей не могла проходить на русском. Алёша учил в школе немецкий язык, а в вузе его стали переучивать на английский – и добились лишь того, что он испытывал трудности и с тем, и с другим. Тэд взялся ему подсказывать, и так мы худо-бедно довели дело до конца. «Наследник» усваивал текст подсказок только по кусочкам, между которыми повисали паузы. Эти паузы, обозначенные тире, вполне можно приписать волнению, так что всё получилось в итоге не так уж плохо. Впрочем, я не буду пересказывать вам эту первую сценку. Вы ведь читали её стенограмму? Она достаточно короткая.
[10]
СТЕНОГРАММА
сценического эксперимента № 1
«Беседа Николая Александровича Романова (Цесаревича) и принцессы Алисы Гессенской»
от 7 апреля 2014 г.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Принцесса Алиса Гессенская (исп. Анастасия Вишневская)
Николай Александрович Романов, наследник русского престола (исп. Алексей Орешкин)
NICHOLAS. Liebe Alice!
ALIX. You can speak English, Nicky dear. That is, if you prefer.
NICHOLAS. Dearest Alice! You must know—that my love to you—is truly immense. It is about time—that I finally know—that I learn—your final decision. I cannot bear this—this hesitation—any longer. Such a shame, indeed!
ALIX. Didn’t I say to you before that I absolutely cannot be converted to Orthodoxy? Are you aware of that?
NICHOLAS. Do you find—my religion—inf— inferior—to yours?
ALIX. I have said no such thing. I am not a theologian. The only problem of your religion is that it worships martyrs to an excess. I don’t want to be a martyr, Nicky darling! I want to have an ordinary life and to be happy in a most ordinary way and fashion. Do you think it is mean of me? I am sorry, Nicky dear! (Подойдя к Наследнику, проводит рукой по его лбу, убирая с него прядь волос. Тот отшатывается.) Even now, I can see with perfect accuracy that I would become most unpopular with your compatriots if you married me. Call it a presentiment if you like. You, too, would become unpopular with your own people on my behalf. You would try to defend your old wify at all costs, and those compatriots of yours would then finally kill us in some damp basement. Dirty rogues! You see, I call your compatriots dirty rogues, and I don’t love human beings in general. A bad feature for a tsarina, but I cannot get over myself. No good will ever come out of our betrothal. Your little K. you told me about the other day will be over-joyous, and she will give you any possible consolation you deserve. (С чувством.) Oh, it makes my heart bleed, just to see how you are suffering, poor boy! Please think yourself free of any promises you have ever made me. One last kiss . . . (Она целует его в лоб.) And—farewell! (Выходит.)17
NICHOLAS (оставшись один). Нет, это нечестно, так не должно быть. Так – не – должно – быть! (С отчаянием.) Я этого не заслужил!
[11]
– После заключительного горестного вскрика нашего Цесаревича Тэд хлопнул хлопушкой-нумератором из тех, что используют при съёмке фильмов – вообразите, он принёс её с собой, уж очень ему не терпелось устроить «драматизацию», – и группа бросилась обсуждать эту сценку с места в карьер. Слышен был голос Штейнбреннера, который аргументированно разъяснял, что всё, всё – чепуха, от полного до последнего слова! И почему это принцесса Гессенская отказалась говорить на родном языке? Тут замечу вам как бы на полях, что историческая Александра Фёдоровна немецкий язык не очень жаловала и даже не считала вполне родным, она ведь с восьми лет росла при английском дворе. Иван, будто озвучивая мои мысли, возражал и допытывался: а в чём мы видим невероятность? Лизе всё очень понравилось. Ещё пара человек высказывалась в пользу того, что Анастасия Николаевна выглядела вполне убедительно, а Настя улыбалась почти торжествующе: она и сама это знала. Я тоже отвесил своей аспирантке комплимент, похвалив её английский язык. Большинство вслух жалело Алёшу. Да и было за что! Он весь взмок, будто выполнял тяжёлую физическую работу, рубаха липла к телу мокрыми пятнами, так что он поспешил надеть свитер. Даже и в свитере он выглядел достаточно несчастным, и, севший в позе кучера, сгорбивший спину, всё повторял вслух: «Я не заслужил этого… Позор… Какой позор!»
Марта присела рядом с ним и, взяв его руку, осторожно гладила её, что в другое время наверняка вызвало бы усмешки, переглядывания и перешёптывания, но сейчас всем показалось естественным: в конце концов, она была «маленькой К.», кому же, как не ей, было утешать своего Ники?
Алексей вдруг поднял голову и сказал достаточно громко, отчётливо:
«Как хорошо, что я ещё только Наследник! А что, морганатический брак уже сам собой приведёт к отречению от престола? Что же, я рад за Мишу! Дай Бог, он управится лучше».
Эта фраза привела к секундному оцепенению. Боюсь, кто-то успел даже подумать, что Лёша тронулся умом, прежде чем мы сообразили, что он просто остаётся внутри роли, а под “Мишей” имеет в виду великого князя Михаила Александровича.
Немедленно разгорелась дискуссия о том, в каком году закончилась бы история Российской Империи при невступлении на престол Николая Александровича, в результате чего права на наследование перешли бы к его младшему брату. (В скобках: большинство сошлось на тысяча девятьсот пятом: Михаил Александрович, вероятно, не справился бы даже с первой революцией.) Событие, должен сказать, не совсем невероятное: вам, например, известно, что отец их обоих в молодости всерьёз подумывал об отречении ради планов жениться на княжне Марии Мещерской? Конечно, есть разница между княжной и балериной…
– Вы думаете, Алиса Гессенская действительно могла бы отказать Николаю? – перебил автор Андрея Михайловича. – То есть если бы знала, чем всё закончится?
Тот коротко хмыкнул:
– Едва ли… или «может быть». Будь у неё это предчувствие или, скажем, мистическое знание о своей кончине, она бы… она бы, возможно, и тогда согласилась. Как хорошо, что мы не знаем будущего наперёд, не так ли?
Продолжу, однако. Я не принимал в дискуссии активного участия, правда, снабжал спорящих фактами, вот вроде сведений о княжне Мещерской. Алёша, совсем измученный, вышел из аудитории. Марта – чуть не оговорился и не назвал её Матильдой – пошла за ним. Вернулась хмурая и сообщила, что группа четверокурсников, отпущенных с занятия раньше срока, похоже, подслушивала нас у дверей, да как бы и не подсматривала в щёлку.
Настя вдруг спохватилась:
«Пять минут до конца пары! Я должна собрать контрольную. Извините. Спасибо всем – рада знакомству!»
И была такова. Марк при её уходе вновь надел свои антибликовые очки и насмешливо ей отсалютовал коротким резким жестом. Мне показалось, что после её ухода группа как будто вздохнула свободней. Разумеется, могло просто показаться…
[12]
Мы же признали первый опыт умеренно удачным и решили, что завтра продолжим с драматизацией.
Тэд, которого беспокоила сценичность, заявил, что Марта ничуть, ни капли не похожа на свой прототип! Рост не тот, цвет волос не тот, платье – прости-извини, Марфуша – словно мешок, живость, игра и соблазн отсутствуют напрочь. Марта послушно обещала надеть чёрное шёлковое платье со школьного выпускного и даже выразила готовность перекрасить волосы: она всем отвечала вполголоса, немного испуганно или с каким-то тайным беспокойством. Девочки со своей стороны решили найти для неё бижутерию. Даже не совсем бижутерию: Лиза сообщила, что у неё есть нитка настоящего жемчуга, которую она охотно одолжит на время.
Алёше, по общему мнению, тоже нужна была красивая форма. Её обещал принести я: у меня имелся – имеется и сейчас – повседневный общеармейский китель образца царствования Александра III. Новодел, разумеется, а не антикварный. Правда, с погонами поручика, а в свои двадцать пять Николай Александрович имел уже чин полковника. Последний его военный чин, кстати: генералом он так никогда и не станет… Но поручиком, в свои шестнадцать, он тоже был, да, наконец, приходилось пользоваться тем, что есть.
– Где вы раздобыли этот китель, если не секрет? – полюбопытствовал автор.
– Я за пару лет до того поработал консультантом для своих бывших студентов, которые готовили масштабную военную реконструкцию, и получил от них один образец в качестве благодарности, как видите, всё просто! – пояснил Могилёв. – Я выразил беспокойство по поводу того, что нашему Цесаревичу китель окажется велик: я был самую малость выше его ростом и чуть пошире в плечах. Лиза возразила: велик – не мал, а рукава, мол, можно загнуть и скрепить булавками.
– А что сам ваш Наследник?
– Затрудняюсь сказать. Он… – Андрей Михайлович хмыкнул. – Он нёс свой крест, как и подобает христианину и православному царевичу. Между прочим, я посоветовал ему ознакомиться с материалом, уже прочитанным Мартой, чтобы более основательно войти в курс дела. Алёша безропотно кивал, так же кивал он, слушая совет Тэда поработать с пластикой. Тот показал Алёше пару движений и заставил их повторить, добиваясь, кажется, «большего аристократизма», но в конце концов махнул рукой. На лбу нашего юного Ники проступало что-то вроде «Это всё – издевательство над живыми людьми, но я исполню свой долг и буду терпеть, насколько хватит сил».
– Стоило ли так мучить парнишку?
– Да ведь его никто не неволил! Ну, а кроме прочего, я искренне хотел свести их вместе, его и Марту. Вот, думалось мне, будет славная парочка!
[13]
– Утром вторника, – рассказывал Андрей Михайлович, – Марта явилась в своём прежнем «детском» платье, но волосы, однако, перекрасила в чёрный цвет – и выглядела странно и непривычно. На упрёки по поводу платья она пояснила, что просто не хотела идти в нарядном по улице, боялась испортить. Но взяла с собой! Лиза тут же вызвалась найти свободную аудиторию и подготовить девушку, поработать с причёской и макияжем. Тэд увился за ними, без всякой мысли ухаживать за той или другой девушкой, а просто на правах режиссёра. Итак, эти трое пропали, а мы, не имея особого дела, перебрасывались шуточками и малозначащими репликами. А стоило бы подумать о предстоящем эксперименте, подойти к нему более ответственно! Я пару раз призывал к этому, и вялая дискуссия действительно завязывалась: в основном между Иваном и Альфредом, эти двое нашли друг друга. Но никто их не слушал, и не самый энергичный спор угасал.
Когда Марта появилась в аудитории вновь, мы все ахнули: это было преображение! Серая мышка стала прекрасным чёрным лебедем. Даже её походка, даже жесты изменились. Может быть, она оказалась чуть высока для той Кшесинской, которую знает история, но в остальном – не просто Матильдой, а Матильдой-в-квадрате.
Алёша в своём кителе поручика гвардии тоже выглядел очень хорошо: в плечах тот оказался ему почти впору, а к подогнутым рукавам просто не требовалось присматриваться.
Оба замерли в разных углах аудитории.
«Что вы от нас хотите? – глуховато спросил Алёша. – Тэд, какое число на календаре?»
Тэд картинно развёл руками:
«Мои славные, любое! На ваш выбор».
«Нет, я так не могу, – отрубил «Цесаревич» как-то по-военному. – Мне и так сложно – думать».
«Нам интересна версия…» – начал Иван.
«Иван, кончай тянуть волынку, – перебил его Кошт. – Нам интересно, спали вы друг с другом или нет! Не вы, а ваши персонажи, то есть: до вас двоих нам никакого дела. Эдик вам ещё вчера об этом сказал очень конкретно, а сегодня что-то ударился в отрицалово».
Алёша изменился в лице. После облачения в китель нечто гвардейское в нём появилось, поэтому я даже испугался, что он сейчас не только что-то ответит, но и сделает.
Заговорили сразу, перебивая друг друга, несколько человек:
«Алексей, не следует воспринимать эмоционально! Вопрос заслуживает внимания!» (Штейнбреннер)
«Мальчики, вы упали? Не, ну а чо, давайте отрываться по полной, я будто против!» (Лина)
«С какой стати он заслуживает внимания? Какое историческое измерение это имеет?» (Иван)
«А я объясню! Религиозно-церковное, а через это и историческое». (Штейнбреннер)
«Вы, дамы и господа, я не понимаю, исповедуете эротический мистицизм нашего многострадального народа? Иначе я совсем не могу взять в толк, каким образом вдруг это важно». (Герш)
«Такие вопросы надо решать общим голосованием, а не как захотелось левой пятке военного министра Временного правительства!» (Ада)
Пока все галдели, Марта вышла на середину аудитории. Мы, признаться, как-то упустили её из виду, потому что все смотрели на «Цесаревича».
«Вы с ума сошли? – проговорила она звонким голосом, подрагивающим от гнева. – Мы сейчас вам должны показать, как я соблазняла Наследника, а он сопротивлялся? А если у меня, это самое, получится, что было после, мы вам тоже должны показать? Вы этого хотите?»
Твёрдыми шагами девушка прошла к двери и, покинув аудиторию, хлопнула за собой дверью. Алёша почти сразу вышел следом. Кажется, ему пришлось чуть ли не расталкивать толпу любопытных, по крайней мере, мы услышали его гневные восклицания в коридоре.
«Я не узнаю Марту, – пробормотала Лиза. – Совсем новый человек».
Лина хмыкнула и пояснила:
«Вот что делают камешки ваши! Была обычная рабочая девочка, а как надела жемчуга, так и вознеслась».
[14]
Алёша вернулся минут через пять и хмуро доложил:
«Матильда готова играть только сцену нашего последнего свидания весной девяносто четвёртого, у сенного амбара на Волконском шоссе. Ни на что другое она не согласна».
Тут же завязался спор о важности или, напротив, неважности этой сцены. Иван и Альфред настаивали, что ничего значимого в ней нет, а Гагарины и Лиза упирали на то, что Марта уже навела макияж, специально по случаю надела выпускное платье и стерпела все манипуляции со своими волосами, поэтому теперь, если отказываться от сцены, все труды пропадут даром. Мечтательно-задумчивый Герш после некоторых колебаний склонился ко второй точке зрения, и она победила. Алёша позвонил Марте и пригласил её присоединиться к группе.
Тэд в ожидании нашей героини написал на хлопушке мелом The Last Date18. Хотел, кажется, The Last Meeting19, но выбрал Date как более короткое слово. Все мы молча следили за этими почти жреческими действиями.
Марта вошла и замерла на пороге. Тэд объявил:
‘ “The Last Date”!’
– и щёлкнул хлопушкой-нумератором. Матильда бросилась Наследнику на шею.
[15]
Здесь автор этого текста должен был бы привести стенограмму «эксперимента номер два». Стенограмма имеется, но я решил её опустить. Сохранившаяся запись – это просто набор отдельных мало относящихся друг к другу фраз, даже обрывков фраз, ни одна из которых не доведена до конца; в ней нет ничего от связности речи Алисы Гессенской, которую Анастасия Николаевна Вишневская за день до того произнесла с таким мастерством, находчивостью и самообладанием. Запись устной речи имеет свои области употребления и свои пределы: далеко не всё из того, что убедительно на бумаге, прозвучало бы так же убедительно в живой жизни, и наоборот. Чтобы читатель не чувствовал себя обманутым, считаю нужным после «звёздочек» привести отрывок из подлинных воспоминаний балерины. Возможно, вы заметите, что Матильда Феликсовна не обособила запятой деепричастный оборот во втором предложении второго абзаца. Автор не счёл нужным восстанавливать эту запятую: в конце концов, даже мелкие (или крупные) ошибки исторических источников характеризуют их автора и через это становятся сами частью истории.
* * *
Я приехала из города в своей карете, а он верхом из лагеря. Как это всегда бывает, когда хочется многое сказать, а слёзы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах…
Когда Наследник поехал обратно в лагерь, я осталась стоять у сарая и глядела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. До последней минуты он ехал всё оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала себя глубоко несчастной, и, пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее.
Я вернулась домой, в пустой, осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь моя кончена и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя.
[16]
Но вернёмся к рассказу Андрея Михайловича, который как раз пояснял:
– Всё заняло не больше трёх минут, но психологически – минут пятнадцать, может быть, целых полчаса. Мы глядели как заворожённые: их действие захватывало полностью, и это вопреки тому, что, положи их слова на бумагу, всё стало бы невнятным, почти детским лепетом. Мера их нахождения внутри своих персонажей и, так сказать, актёрской отрешённости от нас – или от тех, кто стоял за дверью и подглядывал в щёлку, – мера даже некоего бесстыдства изумляла: они действительно о нас забыли.
Наконец, Наследник пошёл по направлению к своей лошади, смирно стоявшей у сенного сарая – я почти видел эту лошадь, уверяю вас, – а «маленькая К.» стояла и смотрела ему вслед. Тэд щёлкнул хлопушкой, и только тогда мы очнулись.
«Я же говорил, что собственного исторического значения в этом частном эпизоде не имеется», – тут же прокомментировал Альфред.
«Дядя Фредя, ты дурак», – ответил ему Кошт, переиначив русскую поговорку, снова достал свои антибликовые очки и снова надел их. Я успел подумать, что теперешний жест тоже раскрывает психологию встречи Гучкова и Государыни: в конце концов, ему могло быть просто неловко.
Лиза не таясь плакала, утирая слёзы и шмыгая носом.
Марта опустилась на ближайший стул и застыла в каком-то оцепенении. На её лице была слабая, отрешённая от нашего мира улыбка, глаза блестели.
«Марта, может быть, тебе водички?» – спохватилась наконец Лиза.
Марта покачала головой, верней, медленно повела ей из стороны в сторону.
«Нет, мне хорошо, – ответила она каким-то новым голосом. – Хотя… ты права, пойду умоюсь. Сделать бы ещё что с этой публикой у дверей». С этими словами она вышла из аудитории.
Штейнбреннер заговорил вновь:
«Я понимаю, что все сейчас находятся во власти эмоций, и именно поэтому мой долг как единственного человека, способного избежать этой самоиндукции и аутосуггестии, – поставить вопросы, которые остались вне поля нашего рассмотрения. Мне хочется познакомить со своими выводами пару-тройку человек, которые способны рассуждать безэмоционально».
Ада со вздохом пересела к нему, и они оба принялись о чём-то толковать вполголоса. Иван через некоторое время к ним присоединился (тоже, кажется, без большого удовольствия).
Алёша подошёл ко мне и, сняв, протянул мне свой китель, причём не просто так, а будто с некоторым смыслом.
«Вы можете его оставить на весь апрель», – предложил я.
«Нет, спасибо! – отозвался Алёша, какой-то повзрослевший. – Я точно не надену его сегодня, хоть вы меня режьте. А про весь апрель – я хотел с вами поговорить. После занятий, наверное…»
Я кивнул.
[17]
– Пока я разговаривал с Алёшей – продолжил рассказчик, – выяснилось, что «безэмоциональная», мозговая часть нашей группы, посовещавшись, решила готовить «суд истории над гражданкой Кшесинской». Я немного удивился, но не подал виду: в конце концов, этот метод мы ещё не использовали, а испробовать стоило каждый.
Как-то само собой стало ясно, что Ада будет председателем суда, а Альфред – обвинителем: это вытекало и из их собственных интересов, и из характеров их персонажей. Я не возражал, но отметил, что им лучше остаться совершать суд от лица своих героев: в конце концов, «министр юстиции Керенский» звучит куда представительней, чем «студентка четвёртого курса Ада Гагарина». Они оба с этим согласились.
Оставалось найти защитника. Алексею, казалось бы, сам Бог велел быть таким защитником, даже по греческому смыслу его имени, но он вышел, как только «рабочая мини-группа» из Ивана, Альфреда и Ады начала привлекать к обсуждению суда остальных. Вслед за Мартой, наверное. Это могло бы вызвать смешки, но нет. Напротив, Лиза, глядя на закрытую им дверь аудитории, произнесла вполне серьёзно:
«Если у этих двоих что-то сложится, то и слава Богу – Андрей Михайлович, правда? Они ведь оба невинны, как… как…»
«Как овцы», – закончила за неё Лина.
«Верно, как овцы, – согласилась Лиза, не замечая невольной грубости выражения. – Лёша, думаю, и с девушкой-то ни разу не был, а про Марту вообще молчу…»
Я вслух заметил, что теперь мы, кажется, потеряли естественного адвоката для подсудимой. Штейнбреннер немедленно возразил: дескать, Цесаревич никак не может выступить на суде адвокатом, во-первых, потому что никогда не имел юридического склада ума, а во-вторых и в главных, потому, что после Февральской революции личной свободой не пользовался, гипотетическое же судебное заседание с участием Милюкова и Керенского могло произойти только во временнóм промежутке от Февраля до Октября. Против такого крючкотворческого подхода можно было бы сказать многое, но у меня не было никакого желания с ним спорить. Вместо этого я позвал Герша:
«Василий Витальевич! Может быть, вы в качестве верного монархиста не откажетесь быть защитником?»
Борис Герш пожал узкими плечами (кстати, обращение к нему по имени его персонажа он счёл чем-то совершенно естественным, даже виду не подал). Вздохнул:
«Увы, неверного, то есть не оставшегося верным… Я не против, я бы даже хотел. Но у меня не немецкий ум, а самый что ни на есть русопятский! Я поэтому не смогу дать настоящего отпора господину Милюкову, который сейчас готовит обвинение… Андрей Михайлович, может быть, вы?»
Идея, кажется, понравилась: со всех сторон раздались возгласы одобрения. Ада, тоже улыбнувшаяся мысли, правда, заметила:
«Ради справедливости должна сказать, что Андрей Михайлович тоже должен взять на себя роль кого-то, кто был жив в 1917 году. Иначе это будет… несимметрично, что ли! Вот хоть этот – великий князь Андрей-как-его-там…»
«Андрей Владимирович, который не отличался особым умом, – тут же вставил Иван Сухарев и сразу покаялся: – Извините! Но я же не про вас».
Тут, замечу от себя, он, скорее, ошибся: письма великого князя не демонстрируют никакой особой глупости. Я, улыбнувшись, объявил группе, что принимаю обязанности защитника мадмуазель Кшесинской и буду на суде в роли русского религиозного философа Василия Розанова («Почему не отца Павла Флоренского?» – немедленно выскочил Штейнбреннер, но я не удостоил его ответом), что предлагаю всем остальным быть присяжными заседателями, наконец, что сейчас должен их оставить, так как вспомнил: Сергей Карлович просил меня к нему зайти. Предложил им: не хотите ли пока посмотреть исторический фильм на служебном ноутбуке, который могу принести с кафедры? Студенты заверили меня, что найдут, чем заняться, и без всякого фильма. Мы договорились встретиться после обеда, то есть после окончания большой перемены.
[18]
– При выходе, – рассказывал Андрей Михайлович, – я столкнулся с небольшой кучкой студентов разных курсов, которые шарахнулись от двери. «Подслушивать нехорошо», – буркнул я, и тут же поймал себя на мысли: а подсматривать? Ведь ещё хуже – а между тем мы, зрители «сценического эксперимента номер два», именно и подсматривали за чужой жизнью.
В своём кабинете декан с улыбкой протянул мне лист бумаги:
«Пожалуйте! Вот копия. Ваша лаборатория теперь существует de jure».
«Не знаю, как вас и благодарить, Сергей Карлович…»
«И вот ещё что: ваша работа среди студентов уже возбудила лёгкую сенсацию, – продолжил Яблонский. – А эта сенсационность и их отвлекает от учёбы, и вам совсем некстати. Думал сегодня весь день: как бы вам переехать куда подальше от любопытных глаз? И, представьте себе, придумал! Вы знаете, что у нашего университета есть собственная научная библиотека?»
«Ну, а как же! – подтвердил я. – По адресу улица Загородная роща, дом 1А».
«Верно, в ста метрах от проходной Нефтехимического завода. А в этой библиотеке имеется учебный класс, аккурат над читальным залом. Использовался раньше активно, а сейчас – в основном для разовых семинаров и всяких инструктажей. Созвонился сегодня утром с заведующей библиотекой, полюбезничал с ней и – в общем, держите второе распоряжение! Не распоряжение, конечно, – поправился он: – я не могу распоряжаться в подразделении, которым не руковожу. По жанру это ходатайство: “Уважаемая Таисия Викторовна…” – и всё остальное как положено. На этот раз оригинал, точнее, один из двух оригиналов, второй оставлю у себя. Вы ведь простите старика за то, что я так по-хозяйски вмешался? Место, конечно, на отшибе, но зато…»
Я заверил декана, что лучшего и желать не мог. И правда, сомнительное удовольствие работать на одном этаже с кафедрами отечественной и всеобщей истории, когда и Бугорин, и профессор Балакирев в любую секунду могут войти и бесцеремонно поинтересоваться: а что это мы делаем?! Ещё и сами захотят поучаствовать, чего доброго… бр-р!
«Вы очаровательный человек, Сергей Карлович!» – прибавил я в порыве благодарности.
«Полно, полно! – замахал на меня руками декан. – Что вы мне расточаете комплименты, словно девице! Кстати, пошёл тут новый слушок: будто все девицы в вашем исследовательском коллективе от вас настолько без ума, что вы им уже и во снах являетесь. Насколько это обоснованно, скажите?»
Я тогда с удовольствием рассмеялся, и он со мной тоже. Только выйдя от него, я припомнил сон Марты Камышовой и поразился: как хорошо, оказывается, у нас на факультете поставлено осведомительство всякого рода, и как проворно работает пошлое «сарафанное радио»!
[19]
– Войдя в аудиторию после обеда, – вспоминал Могилёв, – я увидел уже полностью подготовленное сценическое пространство. Три парты поставили «покоем»20, что, видимо, изображало столы судьи, обвинителя и защитника. Стол судьи оказался покрыт зелёной тканью. Тэд пояснил, что купил ткань в обеденный перерыв, пожертвовав обедом, и что, будь у него больше времени, купил бы и деревянную киянку, то есть судейский молоток. Я только покачал головой, видя такую преданность делу. Имелись и составленная из стульев скамья подсудимых, – рядом с адвокатским столом, – и места для четырёх присяжных заседателей: урезанный состав, но не могли ведь мы расширять свою рабочую группу до бесконечности. Правда, даже из этих четырёх Алёша отсутствовал. Из лекторской кафедры соорудили свидетельскую трибуну. Тэд, выполнявший роль секретаря суда, указал мне моё место. Прежде чем занять его, я обратился к группе с коротким воззванием:
«Уважаемые юные коллеги! Разрешите напомнить вам несколько очевидностей, и простите за то, что делаю это только сейчас. Любой наш эксперимент – это всего лишь допущение, игра ума. Вот почему прошу вас в глубине души отнестись к нему совершенно бесстрастно. В ходе эксперимента вы можете делать всё, что хотите, до тех пор, пока это оправдывается характером вашего героя: бранитесь, возмущайтесь, негодуйте, плачьте, смейтесь. Сразу после окончания, пожалуйста, забудьте все чувства, что пережили, не держите на ваших товарищей никакого зла и взгляните на совершившееся со стороны. Могу ли я надеяться на то, что вы постараетесь это сделать?»
Лаконичными откликами группа заверила меня, что постарается.
«Андр… Василий Васильевич, мы можем начинать?» – уточнил у меня секретарь, и после моего кивка, откашлявшись, объявил о начале заседания.
[20]
СТЕНОГРАММА
сценического эксперимента № 3
«Суд истории над Матильдой Кшесинской»
от 8 апреля 2014 г.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Александр Фёдорович Керенский, председатель суда (исп. Альберта Гагарина)
Павел Николаевич Милюков, обвинитель (исп. Альфред Штейнбреннер)
Василий Васильевич Розанов, защитник (исп. А. М. Могилёв)
Секретарь суда (исп. Эдуард Гагарин)
Александр Иванович Гучков, свидетель (исп. Марк Кошт)
Вестовой Михаила Васильевича Алексеева, свидетеля (исп. Иван Сухарев)
Матильда Феликсовна Кшесинская, подсудимая (исп. Марта Камышова)
Присяжные заседатели (исп. Елизавета Арефьева, Борис Герш, Акулина Кошкина)
СЕКРЕТАРЬ СУДА. Прошу всех встать, суд идёт! Прошу всех садиться.
КЕРЕНСКИЙ. Подсудимая, подойдите к свидетельской трибуне. Назовите ваше имя.
КШЕСИНСКАЯ. Матильда Феликсовна Кшесинская, в замужестве княгиня Романовская-Красинская.
КЕРЕНСКИЙ. Революция русского народа устранила аристократию и фальшивое чинопочитание! В новой свободной России нет князей и княгинь.
КШЕСИНСКАЯ. Мир не ограничивается Россией.
КЕРЕНСКИЙ. Назовите вашу дату рождения.
КШЕСИНСКАЯ. Девятнадцатое августа тысяча восемьсот семьдесят второго года.
КЕРЕНСКИЙ. Прошу секретаря суда зачитать обвинительный акт.
СЕКРЕТАРЬ (встаёт). Матильда Феликсовна Кшесинская обвиняется, во-первых, в создании снарядного голода в Российской армии посредством распределения заказов на производство снарядов между угодными лично ей производителями.
КШЕСИНСКАЯ. Какая чепуха…
КЕРЕНСКИЙ. Признаёте ли вы себя виновной по первому обвинению?
КШЕСИНСКАЯ. Никогда не слышала ничего более нелепого, никогда в своей жизни!
СЕКРЕТАРЬ. Во-вторых, она обвиняется в… (Долго смотрит в свои записи, наконец, выговаривает с некоторым сомнением.) …В соблазнении наследника русского престола и его моральном падении, что привело к краху российской государственности, поражению России в Первой мировой войне и безмерным страданиям наших соотечественников. (Садится.)
КЕРЕНСКИЙ. Признаёте ли вы себя виновной по второму обвинению?
КШЕСИНСКАЯ. У меня нет слов. Я – я нахожу ниже своего достоинства отвечать.
КЕРЕНСКИЙ. Суд переходит к допросу свидетелей. (О чём-то шепчется с секретарём.) В зал приглашается Александр Иванович Гучков.
Гучков подходит к свидетельской трибуне и встаёт за ней.
КЕРЕНСКИЙ. Свидетель, вы предупреждаетесь об ответственности за… Александр Иваныч, снимите очки! Вы демонстрируете неуважение к суду.
ГУЧКОВ. У меня болят глаза, Алексан-Фёдорыч.
КЕРЕНСКИЙ. Сочувствую, но порядок есть порядок. У меня тоже много что болит, почки уже почти отнялись, но я ведь не приехал сюда в инвалидном кресле!
Гучков снимает очки.
КЕРЕНСКИЙ. Александр Иваныч, вплоть до начала нашей великой бескровной революции вы были председателем Центрального военно-промышленного комитета. Что вы можете сказать по существу первого обвинения?
ГУЧКОВ. Только первого? А я уж боялся, меня и к разбору второго тоже привлекут.
КЕРЕНСКИЙ. Александр Иваныч, не паясничайте.
ГУЧКОВ. Алексан-Фёдорыч, вы уж простите, из нас всех вы – главный паяц. Это знает каждый здесь сидящий. (Передразнивает.) «Не смейте прикасаться к этому человеку!» «Я готов умереть прямо здесь!» Это вы – меня, русского патриота, просите не паясничать?
КЕРЕНСКИЙ (ищет судейский молоток, не найдя его, стучит кулаком по столу). Свидетель, вы призываетесь к порядку! Вы будете выдворены!
ГУЧКОВ. Вот уж чему не огорчусь.
КЕРЕНСКИЙ. Обвинение может задавать свидетелю вопросы.
МИЛЮКОВ. Алексан-Фёдорыч, каким образом происходило распределение заказов на производство снарядов?
ГУЧКОВ. Через Цэ-вэ-пэ-ка. Формально отвечало министерство, но как-то так вышло, что мы взяли всё в свои руки. От военного ведомства поступали заказы, мы делили их между заводами. Вы меня, Пал-Николаич, спрашиваете такие вещи, которые и сами знаете. Ваш Шингарёв тоже входил в Особое совещание по обороне. Или вы не беседовали со своими однопартийцами? Считали ниже своего достоинства?
МИЛЮКОВ. Пожалуйста, давайте придерживаться формы! И Особое совещание, и ЦВПК были созданы в пятнадцатом. Могла мадам Кшесинская вмешиваться в распределение заказов до пятнадцатого года?
ГУЧКОВ (жмёт плечами). Мне-то откуда знать?
МИЛЮКОВ. То есть вы не исключаете?
ГУЧКОВ. Я свечки не держал… но, с другой стороны, через кого?
МИЛЮКОВ. Через Государя Императора, который уже влиял на всем печально известного Сухомлинова. Одни фабриканты, более щедрые на свою благодарность, получали заказы, другие нет, и вот плачевный итог.
ГУЧКОВ. Пал-Николаич, вы… Вы, как бы вам это мягко сказать… Вы, извините, как втемяшите себе в голову какую-нибудь химеру, так и преследуете её вопреки здравому смыслу. Вы и раньше этим отличались: вспомните, пожалуйста, ту ахинею, которую вы несли с трибуны Государственной Думы про низкие закупочные цены на зерно и про то, что чем ниже будут цены, тем охотнее и быстрее крестьянин повезёт его продавать. Не припоминаете такого? Ну как, повёз зерно на рынок русский мужичок по твёрдой низкой цене?
МИЛЮКОВ. Прошу вас отвечать по существу и не переходить на личности!
ГУЧКОВ. По существу – пожалуйста, только ведь вы не умеете, никто из вас, слушать по существу, сразу взбираетесь на идеологического конька… Вы, интеллигенция, не знакомы, по сути, ни с одним настоящим ремеслом! Вы говоруны и дилетанты!
РОЗАНОВ. Как и вы, Александр Иваныч, как и вы…
ГУЧКОВ. Все заводы работали на фронт, все до единого! А снарядов – не хватало, из-за чехарды с составами, например, из-за вечного нашего русского бюрократического головотяпства. Ещё: надо было, как я понимаю теперь, задним умом, нарастить производство на одном ключевом заводе, Свято-Петроградском Трубочном. Снарядам не хватало трубок. Если вы произвели сто снарядов и десять взрывателей к ним, сколько на фронт уйдёт снарядов, пригодных для боеприменения? Верно, десять штук. В нашей бестолковщине сложно доискаться, кто виноват в том, что такое простое дело не было сделано. Но что до мадам Кшесинской, к которой, поверьте, я не испытываю никакой симпатии: это она, по-вашему, должна была организовать правильное движение составов? Расширять производство на Трубочном заводе? Разобраться, в чём беда, и потребовать увеличить выпуск трубок от своего ненаглядного Ники? Пал-Николаич, вы в своём уме?
МИЛЮКОВ (с оскорбленным достоинством). Обвинение не имеет больше вопросов к первому свидетелю.
КЕРЕНСКИЙ. Защита может задать вопросы свидетелю.
РОЗАНОВ. Ваша честь, благодарю! Господин Гучков, мы с вами не были до этого знакомы, и всё же благодарю и вас: вы очень облегчили мою работу, так что я, по сути, мог бы обойтись и без вопросов. Но всё же спрошу: скажите, а откуда пошёл слух о влиянии Матильды Феликсовны на дело снабжения?
ГУЧКОВ (вновь пожимает плечами). От главковерха.
РОЗАНОВ. От Государя?!
ГУЧКОВ. Да нет же, от верховного до августа пятнадцатого года. От великого князя Николая Николаевича.
РОЗАНОВ. Согласитесь, распространение таких слухов его прекрасно характеризует?
ГУЧКОВ. Я ему не судья, а вообще, его больше характеризует тот позорный хаос, который устроился и на фронте, и в тыловом обеспечении в то время, когда он был верховным.
РОЗАНОВ. Может быть, идея Государя самому принять верховное главнокомандование в августе пятнадцатого была не такой уж дурной, вы не находите?
ГУЧКОВ (кисло). Это не относится к сути дела.
РОЗАНОВ. Скажите ещё, пожалуйста… впрочем, нет, вопрос о ящиках для снарядов, произведённых казёнными заводами, причём на ящиках неизменно ставилась маркировка «Военно-промышленные комитеты», будто это именно ваши комитеты их произвели, я задам как-нибудь в другой раз. (Смешки среди присяжных.) Защита не имеет вопросов к первому свидетелю.
СЕКРЕТАРЬ. Приглашается в качестве свидетеля Михаил Васильевич Алексеев.
ВЕСТОВОЙ (встаёт и отвешивает короткий поклон). Его высокопре… господин генерал приказали мне доложить вашим высоко… гражданам судьям, что в этот тяжёлый для Родины час он не находит возможным покинуть фронт ради участия в… в позорном судилище над невинной женщиной. Виноват! (Вытягивается по стойке «смирно».)
РОЗАНОВ (вполголоса). Ах, что за умница его высокопревосходительство! Если бы только он пораньше проявил свою принципиальность…
КЕРЕНСКИЙ. Вот как? Ну конечно, что ждать от верных псов старого режима…
РОЗАНОВ. Со всем почтением, ваша честь: мы не на митинге, а в зале судебного заседания. Вы тратите своё красноречие попусту.
КЕРЕНСКИЙ (скороговоркой). Суд переходит к прениям сторон. Слово предоставляется обвинению!
МИЛЮКОВ (не спеша поднимается со своего места; говорит медленно, весомо). Приняв во внимание и взвесив факты, приведённые первым свидетелем, мы считаем возможным отказаться от первого обвинения. Тем большее значение приобретает второе!
На протяжении двух лет подсудимая настойчиво соблазняла Наследника российского престола, вынуждая того вступить с ней в интимную связь, и в январе тысяча восемьсот девяносто третьего года наконец добилась своего! О событии свидетельствуют некоторые несколько двусмысленные записи в дневнике Николая, а также, прямым текстом, авторитетные иностранные источники, например, Миранда Картес в своей книге «Три императора». Позвольте цитату: ‘It took her nearly two years of—highly decorous—near-stalking to persuade the extraordinarily diffident Nicholas to install her as his mistress. It was a further six months before the affair was actually consummated.’21
Указанная связь с точки зрения православной веры не может считаться ничем иным, как блудным сожительством, актом любодеяния. Блуд – это смертный грех согласно древней вере отцов наших. В религиозных убеждениях Николая Александровича, кажется, никто не сомневается? Мы берём на себя смелость утверждать, что переживание греха этой совестливой, но слабой натурой, привело доброго, в сущности, но не получившего систематического научного образования, склонного к болезненному мистицизму человека к сомнению в том, действительно ли он как грешник способен восприять благодать Помазания Божия. Это сомнение, никогда его не оставлявшее, ослабило его волю, заставило его подчиниться тирании деспотичной жены, наконец, прислушиваться к колдунам, шарлатанам, проходимцам и фаворитам всякого рода и быть уловленным в сети нездоровой спиритуальности.
Мы, разумеется, не считаем мадам Кшесинскую единственной виновницей деградации государственного управления, совершившейся из-за смены власти в нашей стране, это было бы reductio ad absurdum22, но часть вины за народные страдания, безусловно, лежит и на ней. Ваша честь, я закончил.
КЕРЕНСКИЙ (назидательно). «Господин судья», Павел Николаевич, «господин судья», или даже «гражданин судья», давайте отучаться от старых привычек и языка раболепия… Я горжусь званием гражданина, единственным, которое сохранила революция! Благодарю! Слово предоставляется защитнику.
РОЗАНОВ (встаёт). Граждане свободной России, я не юрист, и поэтому с некоторой робостью приступаю к судоговорению в этих стенах. Но даже мой дилетантизм в вопросах юриспруденции не препятствует мне обнаружить очевидные изъяны в речи обвинителя. Павел Николаевич допускает не одну, не две, а целых три ложных посылки. Эти посылки тянут за собой одна другую, вроде вереницы слепцов, что держатся каждый за плечи идущего впереди, и все эти слепцы падают в яму.
Начнём с первой. Обвинитель утверждает доказанность плотской связи, ссылаясь на личный дневник Государя…
КЕРЕНСКИЙ. Что значит «Государя», что за слово?! Революция смела эту династию как ветхий мусор!
РОЗАНОВ. Александр Фёдорович, вы не можете протестовать против того, что в нашей русской истории был последний Государь, как вы не можете протестовать против того, что вода замерзает при нуле градусов Реомюра. Вы хотели бы отменить саму историю? О, вы – хотели бы…
КЕРЕНСКИЙ. Настаиваю на уважении к новому демократическому суду.
РОЗАНОВ …Государя, говорю я. Как, любопытно знать, попал вам в руки этот дневник, и насколько это честно – судить кого-либо на основе его личных, сокровенных записей, не предназначенных для чужих глаз?.. Запись, на которую ссылается обвинитель, звучит дословно так – разрешите процитировать… (Читает.) «Вечером полетел к моей М. К. и провел самый лучший с нею вечер до сих пор. Находясь под впечатлением её – перо трясется в руках!» И вот на отношении этого пера, которое трясётся в руках, Павел Николаевич делает вывод о том, что отношения перешли известную грань. Да как же вам – да как же вам не стыдно! Господин обвинитель, господа, виноват, граждане присяжные заседатели, да были вы когда-нибудь влюблены со всей энергией юности, до того, чтобы холодели руки и перехватывало немотой горло? Или вы сразу родились с холодным развратом в сердце и профессорской степенью в кармане, чтобы читать эти строки юного человека обязательно таким вот медицинским, физиологическим и пошлым образом?
Что же до «авторитетных зарубежных источников», то Павлу Николаевичу вовсе бы лучше на них не ссылаться, а то всякий раз, как он начинает это делать, выходит позорный конфуз: вот вроде цитаты из той помоечной австрийской газетёнки, как её там, Neue Freie Presse, обвинившей Государыню Александру Фёдоровну в связи с немецким генштабом, лживой цитаты, которую вы ничтоже сумняшеся огласили на всю страну с думской трибуны первого ноября шестнадцатого!
МИЛЮКОВ. Протестую, это не относится к делу! Я был охвачен известным полемическим задором, да и сложно было тогда разобраться…
РОЗАНОВ (кивая). Но ведь после вы даже в ваших воспоминаниях, как честный человек, как мужчина, так ни разу открыто и не повинились?
КЕРЕНСКИЙ. Защитник, держитесь сути вашей речи! Это не Павел Николаевич сегодня на скамье подсудимых.
РОЗАНОВ. Как угодно! Тот самый «авторитетный» источник, что использует слово consummated, пошлое буржуазное словечко, тоже ведь должен на что-то ссылаться, разве нет? И он ссылается – на что, как вы думаете? Да на всё тот же дневник нашего несчастного Государя, на эту, вообразите, «дрожащую руку»!
МИЛЮКОВ. Василий Васильевич, при всём уважении, зачем снова «Государя», зачем вы машете красной тряпкой перед нашим носом и упорно настаиваете на этом слове применительно к господину полковнику Романову? Оно даже юридически нелепо!
РОЗАНОВ. Но я беру пример с вас, Павел Николаевич! Это ведь вы первый здесь в зале суда заговорили о Помазании, тем самым превращая его в юридическую категорию. А Помазание, милостивый государь, есть таинство, каковое таинство не может быть уничтожено хоть сотней манифестов или решений Петросовета! Помазанника, так и быть, что почти одно и то же. «…Дрожащую руку», говорю я, итак, Фома ссылается на Ерёму, а Ерёма на Фому, младший хоронится за старшего, а старший за младшего, и вот вся слава и всё дутое значение ваших так называемых «авторитетных» источников! Как и большей части всей современной учёности, впрочем.
МИЛЮКОВ. А я в вас, Василий Васильевич, всегда подозревал методологический анархизм с таким душком даже мракобесия!
РОЗАНОВ (отмахивается от него рукой). Но продолжим. Связь не доказана. Да и то, женщина, интимный дневник которой вы сегодня бесстыдно вытащили на Божий свет, в этом самом дневнике от восьмого января [тысяча восемьсот] девяносто третьего пишет следующее – простите меня, Матильда Феликсовна… «Ники… теперь вдруг говорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет его мучить всю жизнь. <…> Я готова была разрыдаться». Замечу на полях: где вы видите слабую и безвольную натуру? Эта «слабая натура» выстояла против того, против чего далеко не каждый мужчина выстоит. Хотел бы я вас, Павел Николаевич, поставить в такое же положение да посмотреть на вашу стойкость… Да, уже знаю, что скажете вы и вслед за вами целый хор современных собакевичей: «Поскольку все люди физиологически одинаковы, а я бы не упустил своего, следовательно…» Нет, не следовательно: вашу пошлую логику одинаковости всех людей я не принимаю и не приму никогда. Но сделаю, так и быть, допущение в её пользу, хотя бы в порядке умственного эксперимента. «Предположим на одну минуту», как говорил господин Фетюкович, что «он действительно схватил медный пест…»
КЕРЕНСКИЙ. Вы увлекаетесь, Василий Васильевич: при чём тут вообще медный пест? Фаллицизм вашего образа, конечно, ясен…
Сдержанный смех среди присяжных и свидетелей.
РОЗАНОВ. Допустим на минуту существование плотской связи. Что же из неё следует? Грех, любодеяние, осознание своей порочности, недостоинства, надломленная воля и все прочие ужасы. Так по-вашему?
МИЛЮКОВ. А по-вашему как?
РОЗАНОВ. А по моему – конкубинат.
МИЛЮКОВ. Что?! Конкубинат?
РОЗАНОВ (уверенно). Именно так, конкубинат. Законная и юридически невозбранная связь с постоянной наложницей. Матильда Феликсовна, извините меня ещё раз…
МИЛЮКОВ. А кто вам сказал, что канувшая в Лету власть признавала конкубинат?
РОЗАНОВ. А кто вам сказал обратное? Это вы ведь, господа думские и прочие интеллигенты, все стрелы своего красноречия направляли в адрес самодержавия, то есть, по-вашему, абсолютной автократии! Но будьте же последовательны: если власть Монарха ничем не ограничена, то, конечно, она может учредить и конкубинат.
МИЛЮКОВ. Какого монарха, если Романов в девяносто третьем был только наследником?!
РОЗАНОВ. Я про его царственного отца, Государя Императора Александра Александровича. Ведь он обо всём прекрасно знал, судя по приставленным к Цесаревичу полицейским агентам. Знал – и позволил. И своим позволением, гласным или негласным, он…
МИЛЮКОВ. …Учредил конкубинат? Странная, даже извращённая логика.
РОЗАНОВ. Не более странная, чем ваше странное и даже извращённое желание в «дрожании пера в руке» видеть некий положительный признак плотской связи. Моя же логика – вовсе не странная, а ясная, простая и понятная.
МИЛЮКОВ (неуверенно). В любом случае, Церковь не оправдывает конкубинат.
РОЗАНОВ (живо). Но и не осуждает его, по крайней мере, не приравнивает к любодеянию! Хорошо, не конкубинат – назовём это временной помолвкой, если вам это больше нравится.
МИЛЮКОВ. В церковном обиходе нет никакой временной помолвки.
РОЗАНОВ. Ах, батенька, в церковном обиходе много чего нет, что никоим образом не противоречит священному преданию и что давно уже можно было бы учредить, верней, вернуть! Вот, в частности, отец Александр Устьинский в своём письме от второго мая пятнадцатого мне убедительно разъяснил, что во времена земной жизни Спасителя не то что конкубинат – многожёнство у евреев было обычным явлением! Между тем, мы не слышим из уст Христа ни тени обличения этого обычая. А где же, скажите, многожёнство в современном церковном обиходе? Поэтому не ссылайтесь мне в этом вопросе на церковный обиход: Церковь слишком уж осторожна, желая из фальшиво понятого благочестия быть святей самого Христа.
А теперь – ваша третья посылка: из греха якобы происходит невозможность спасения. Вы, дорогой мой Павел Николаевич, не знакомы с учением Церкви о грехе и не знаете, что таковая невозможность следует из одного только злостного упорствования во грехе. Вы незнакомы, говорю я, и никогда не потрудились ознакомиться. В вашем профессорском, немецко-рациональном уме вся Церковь и весь путь к спасению видятся как некая музыкальная табакерка, где поворот заводного ключика с железной необходимостью приводит ко вращению вала со штырьками и касанию именно тех, а не других металлических пластин. Ваша логика атеистична, безблагодатна и, под видом псевдопопечения о церковности, антирелигиозна!
МИЛЮКОВ (принимая оскорблённый вид). Кажется, я никогда в своей жизни не давал основания обвинить меня в оскорблении христианских святынь!
РОЗАНОВ. О, да при чём здесь оскорбление святынь! Можно ведь и в сердце православного монастыря, облачась в схиму, быть равнодушным атеистом. Можно даже быть фанатиком-изувером – и равнодушным к сути своей религии атеистом: эти два состояния никак друг другу не противоречат. Мы с вами говорим на разных языках, милостивый государь, и никогда ни о чём не договоримся… (Обращаясь ко всем.) Господи, какое колоссальное лицемерие! Вот, были некогда два юных и красивых существа, эти существа любили друг друга со всем жаром первой любви. А мы чистый полудетский роман этих существ вынесли на коллективный суд, копаясь в их письмах и дневниковых записях, стремясь разглядеть под лупой, не совершили ли эти двое чего-то, что потом осудят злобные приходские кумушки, высохшие от своего насильственного, недобровольного целомудрия! Какой позор всем нам! Стыдно, господа, стыдно! Александр Фёдорович, я закончил. (Садится.)
КЕРЕНСКИЙ. И то, мы уж дождаться не могли! Подсудимая, встаньте! Вам предоставляется последнее слово.
КШЕСИНСКАЯ (встаёт). Здесь уже так многое было сказано, и почти всё – неправда. Какое, действительно, позорное обвинение! Неужели вы думаете, что я могла бы… Нет! Я действительно ничего не могу объяснить – ни вам, господин Милюков, ни людям вроде вас. Ваше поведение напоминает мне большевиков, которые, захватив мой особняк, перерыли вверх дном все шкафы и комоды, роясь в интимных деталях моего туалета, чуть не примеривая их на себя. Чтó, скажете, они и там искали символы самодержавия? Может быть, оружие? Несуществующие расписки, которые я будто бы получила от фабрикантов? Один Василий Васильевич понял меня, за что ему спасибо, но и его мне было тяжело слушать. “Часть вины и на ней”, – сказал сегодня прокурор. Может быть, но тогда виноваты мы все, и вы не меньше моего. О, как я жалею, что не сберегла последнее письмо Государя! Я прочитала бы его вам, и вы бы увидели, что он не только не упрекает, а благодарит меня за светлые минуты своей юности! Разве мог бы грешный человек написать бы такое письмо, такими словами? Простите. (Садится, закрывая лицо руками.)
КЕРЕНСКИЙ. Прошу присяжных заседателей удалиться на совещание для определения вердикта.
[21]
– Присяжные удалились в угол аудитории и там, немного пошептавшись, вынесли вердикт:
«Невиновна!»
Кажется, три-четыре человека, включая меня, встретили это объявление сдержанными поздравительными аплодисментами.
«Керенский» не знал (не знала), что ему делать, и поспешил(а) объявить о том, что заседание закончено, таким образом опустив официальное оглашение приговора. Никто, впрочем, даже и не подал виду.
Участники суда разбрелись по аудитории, с удовольствием выдохнув от напряжения эксперимента, улыбаясь и переговариваясь.
«Я так и знал, что у нас не получится достоверно следовать всем нормам судоговорения, – заметил Альберт. – Неизбежно возникают сомнения в реалистичности такого суда».
«Тю! – откликнулся Кошт. – То есть то, что Керенский, Милюков и Розанов судили Кшесинскую – здесь у тебя сомнений в реалистичности не возникает? Это, по-твоему, высокий реализм? Странный ты человек, Фёдор». «Фёдором», видимо, стало имя Штейнбреннера, которое Марк всё склонял так и сяк, и наконец уж полностью переиначил на русский лад. Ну да, от «Фрэдди» до «Фреди» и от «Фреди» до «Фёдора» уже совсем недалеко.
«Вы молодцы, – объявил я, и разговоры стихли. – Всё было достоверно, реалистично, со знанием дела, с погружением в материал. Марк – очень грамотно: про Петроградский трубочный завод, про то, что взрыватели были “узким местом” снарядного снабжения, я, например, и сам не знал, вернее, не держал в голове. Правда, уж больно хорош вышел этот ваш Гучков, не чета настоящему…»
«За сто лет он мог и поумнеть, Андрей Михалыч», – отозвался Кошт.
«Может быть, – согласился я. – Сбивание генеральского адъютанта на “старорежимные” формы речи, на “ваши высокопревосходительства” вместо “граждане” – тоже своего рода находка. Ада – отлично. Альфред, то есть господин Милюков, – выше всяких похвал!»
«Всё же это была неравная борьба, Андрей Михайлович, – заметила мне Ада со сдержанной улыбкой. – У вас с Альфредом разные весовые категории».
Я шутливо поднял обе ладони вверх, соглашаясь:
«Может быть, может быть, хотя мне не показалось это лёгкой победой, я боролся изо всех сил! “Матильду Феликсовну” тоже хочу похвалить… Постойте, а где же Марта?»
Марта стояла у окна, и плечи её, кажется, подрагивали. Лиза первая бросилась к ней и развернула девушку к нам. Так и есть: наша «маленькая К.» уже не удерживалась, слёзы текли по её щекам ручьём.
Лиза принялась тормошить нашу героиню, успокаивать её, говоря, как она блестяще справилась, как всем понравилась сегодня и какая она умница. Мы окружили их полукругом.
«Ох, Марта, мне так жаль! – покаянно признался я. – Я не знал, что вас это может так захватить. Простите нас!»
«А не надо было так вовлекаться и принимать эксперимент так близко к сердцу, – прокомментировала Ада прохладнее, чем мне бы хотелось. – Андрей Михайлович ведь предупреждал».
Марта помотала головой:
«Нет, нет, всё в порядке. Спасибо… Я не ждала, что моя жизнь будет вытащена на улицу и перед всеми развешана, словно постельное бельё! – вдруг воскликнула она со слезами в голосе. – Как больно…»
«Да ведь не твоя жизнь, Марфуша, – загудел Кошт. – Не твоя! Ты что это, всерьёз, про твою жизнь? Гляди, так и в больничку попасть можно!»
«Ты не понимаешь, Марк, – ответила ему Марта. – Когда своя жизнь – бесцветная, а тут – такая яркая вспышка, то свою собственную забываешь. Да и ну её совсем… Нет-нет, не думайте, всё со мной хорошо, – поторопилась она успокоить нас. – Сейчас я проплачусь, дайте мне просто время. Письмо жаль! – она встретилась со мной глазами и вдруг улыбнулась мне сквозь слёзы: – Андрей Владимирович, правда?»
Никто, возможно, не понял, что она говорит о последнем письме Николая, но я понял и кивнул. (Опять этот Владимирович!)
Группа вокруг Марты постепенно рассосалась. Ада, сев за стол (бывший председательский), подводила итог первому циклу и вслух подсчитывала, так сказать, примерный объём групповой выработки материала в количестве знаков. Я обещал ей написать вставки между стенограммами экспериментов, краткие выводы по ним и, может быть, недостающую биографическую статью. (Забегая вперёд, скажу, что всё это я сделал тем же вечером, конечно, несколько наспех.) После я сообщил коллективу о том, что с завтрашнего утра мы будем заниматься в учебном классе научной библиотеки по договорённости декана факультета с её, библиотеки, заведующей (это вызвало сдержанное одобрение), и объявил работу лаборатории на сегодня завершённой.
Тэд складывал зелёную скатерть. Остальные расставляли стулья и парты в привычный всем вид, перебрасываясь сегодняшними впечатлениями. Марта так и стояла у подоконника: её все оставили. Видимо, не из равнодушия, а, напротив, из деликатности, да и то, человек, который хочет замкнуться в своей тоске, – это очень сложный собеседник.
У меня оставались ещё дела: следовало бы найти Алёшу, который хотел о чём-то со мной потолковать, разумно было бы разыскать Настю Вишневскую, чтобы узнать, как она справляется с преподавательской нагрузкой. Я же, отложив обе эти вещи на потом, поспешил сделать совсем другое. Сев за свободный стол, я вырвал из ежедневника чистый лист и написал на нём красивым почерком в дореформенной орфографии:
Что бы со мною въ жизни ни случилось, встрѣча съ Тобою останется навсегда самымъ свѣтлымъ воспоминанiемъ моей молодости. Благодарю Тебя за всѣ часы, что мы провели вмѣстѣ. Не держи на меня зла: я не могъ поступить иначе. Знай, что въ любой бѣдѣ безъ всякихъ сомнѣнiй Ты можешь обращаться прямо ко мнѣ, и, если только не въ обществѣ, попрежнему на «ты».
Вѣрный нашимъ воспоминанiямъ,
Nicky
После я сложил этот лист бумаги втрое, подошёл к Марте и протянул ей.
«Что это?» – испугалась она.
«Кажется, то самое письмо, – ответил я и прибавил: – Считайте меня просто адъютантом Его Величества».
Марта медленно кивнула и так же медленно убрала это письмо в сумочку, глядя на меня во все глаза. Больше она мне ничего не сказала и не задала мне ни одного вопроса.
– Зачем вы это сделали? – спросил я рассказчика на этом месте.
– Бог знает, зачем! – с неохотой признался Андрей Михайлович. – Вы правы, совершенно глупый поступок. Безотчётный, понимаете? Есть времена, когда мы совершаем безотчётные поступки.
Что-то было в его тоне, что заставило меня промолчать, и мои догадки или, может быть, упрёки в неосторожности таких жестов по отношению к молодой чувствительной девушке так и не слетели у меня с языка.
– И потом, – прибавил Могилёв, – меня испугало это «ну её вовсе», сказанное про её собственную жизнь. Мальчики и девочки в этом возрасте иногда совершают большие глупости, и мне поэтому хотелось дать ей понять, что хотя бы один человек рядом и готов протянуть руку помощи. Что ж делать, если жанр и условия игры в ту секунду мне могли продиктовать только такие слова!
[22]
– Итак, – рассказывал руководитель проекта, – я заглянул на нашу кафедру, но никого на ней не нашёл. Вообще, весь факультет как вымер: в тот день все студенты с четвёртого сдвоенного занятия были сняты на какую-то внеочередную лекцию в актовом зале. Я спустился в вестибюль первого этажа – и там действительно обнаружил Алексея на одном из сидений неподалёку от входа. Я присел рядом и осторожно спросил его:
«Вы хотели со мной поговорить, Алёша?»
Алёша кивнул, потерянно огляделся кругом. Заодно уж добавлю пару штрихов к его портрету, так как не знаю, представится ли случай дальше. Чистое, простое лицо, несколько крестьянское, но очень миловидное, длинные ресницы, светлые несколько непослушные волосы. Ему бы косоворотку да свирель в руки, был бы настоящий Лель из «Снегурочки» Островского. Внешне впечатление было, надо сказать, обманчивым: Алексей вопреки своей внешности при разговоре производил впечатление человека юного, но умного, вдумчивого. А также – безусловно сдержанного и равнодушного к вульгарным соблазнам нашего века, так что догадка Лизы о том, что он, пожалуй, до сих пор ни с одной девушкой не познакомился, что называется, близко, оказывалась не совсем невероятной. Даже поражал его и облик, и характер, не сам по себе, но – столь контрастный с две тысячи четырнадцатым годом, столь не ко времени в этом году. Итак, юноша немного растерянно осмотрелся.
«Мы можем пойти на нашу кафедру», – предложил я.
«Нет, на кафедру не нужно, но, Андрей Михайлович, может быть, в аудиторию, где вы были? Все ведь ушли?»
«Думаю, да, – подтвердил я. – Суд окончился».
«Я так и понял…» – хмуро протянул Алёша.
Итак, мы вернулись в учебную аудиторию и сели друг напротив друга, верней, сел я, а юноша, посидев немного, встал, подошёл к окну, приложил к губам сложенные молитвенным образом ладони.
«Марта после суда здесь же стояла», – невольно сказалось у меня.
«Мне очень стыдно за то, что я не поддержал её на суде, и выглядит это как бегство, трусливое бегство, но я просто не смог: даже смотреть на это физически больно, тем более участвовать, – ответил Алёша и обернулся ко мне: – Андрей Михайлович, я не могу больше! Это… это ведь святотатство! Что-то, близкое к святотатству».
«Что именно?»
«Эта игра – вся игра, любой театр».
«Вы ошибаетесь, Алёша, – возразил я с улыбкой. – Вам, кстати, известно, что Николай Александрович, ваш исторический визави, в молодости тоже участвовал в домашнем театре? Сохранилась фотография, на которой он – в образе Евгения Онегина, такой молодой, трогательный и безусый».
«Да? – поразился Алёша. – Я не знал… Ну всё равно: ему можно, он же играл Онегина, а не… а не самого себя. Потому что понарошку это играть нельзя, нет смысла, а по-настоящему… Вы ведь Марту, сегодня, наверное, довели до слёз? Не вы лично, а группа?»
«Да, вы, к сожалению, угадали!» – подтвердил я.
«Я этого и боялся… Я сегодня прожил только три минуты жизни Помазанника, то есть ещё даже до его венчания на царство, и вчера не больше, а уже весь выжат, как… как жмых. Вот видите, даже слова говорю первые, какие придут в голову, не выбираю, потому что не выбираются. Как он выдерживал не три минуты, и не шесть, а всю жизнь? Я не имею права им быть, Андрей Михайлович, не имею права».
«Да почему же?!»
«Потому что не стою вровень, – пояснил Алексей. – Что там вровень! И вчетвертьровень не стою. А совсем не потому, что театр дурён сам по себе. Я принимаю вашу задумку, даже восхищаюсь. Это так ново по сравнению с тем, что мы делаем обычно, в этом – источник свежих сил. Но, скажите, я очень вас подведу, вы очень на меня обидитесь, если я откажусь быть Помазанником? – Алёша повторно использовал это слово, естественное в устах священника полтораста лет назад, но такое непривычное сегодня и в устах двадцатиоднолетнего человека. – Григорий Лепс, – продолжил он, – поёт это своё “Я крещён, а может быть, помазан”, не замечая, как смешно выглядит его “может быть”. Ты или помазан, или нет, а “может быть, помазан” – это как “немного беременна”. Я возьму любого другого персонажа, – поспешил он добавить, чтобы пояснить, видимо, что это его решение – не блажь и не прихоть. – Любого, кого назовёте».
Я вздохнул, и мы немного помолчали. Переубеждать его, видимо, не имело смысла, да и чтó можно было возразить ему по существу?
«Вам бы подошёл кто-то из духовенства, – предложил я. – Или из русских религиозных философов».
«Скорее, из первого, – согласился юноша. – Те, вторые, слишком умствовали, блуждали в трёх соснах. Да, я охотно…»
«В любом случае, я благодарен вам за уже сделанное, Алёша: я видел, что вся ваша душа восставала, но вы мужественно исполняли свою службу», – поблагодарил я его.
«Вы, кстати, единственный, кто меня называет Алёшей, то есть через “А” в уменьшительном имени, – заметил юноша. – Такая милая и изящная отсылка к Фёдор-Михалычу, я ценю…»
«Всегда пожалуйста. Ах, кстати! – оживился я. – Ведь я, чего греха таить, надеялся, что вы через вашу роль сойдётесь с Мартой, то есть не планировал специально, но если бы сложилось… Вы не обижаетесь?»
Алёша коротко рассмеялся. Пояснил:
«Нет, я не обижаюсь! Это трогательно, и Марта мне почти симпатична. Её молодая любовь меня сегодня обожгла, хотя совсем и не мне предназначалась. Только ведь это тоже мýка: отвергать любовь молодой девушки, заставлять её страдать, потому что долг Помазанника не позволяет быть с ней. В любом случае, не надейтесь на нас слишком, я не могу обещать, что сложится. Наследник уже расстался с Матильдой, теперь встречаться с ней будет просто бесчестно».
«Но вы только что сняли с себя корону! – запротестовал я. – Так, значит, перед вами нет никаких преград!»
«Я её, как вы помните, даже не надел, – с юмором ответил мне Алёша, видимо, вспоминая распределение ролей в прошлую пятницу и шутливую попытку Лизы его «короновать». – Да, я уже не он. Ну, и какой Матильде тогда во мне интерес?»
«А я ведь передал ей письмо от вас», – признался я вдруг.
«От меня?» – поразился Алёша.
«От Государя: то последнее, которое она потеряла. Может быть, учитывая это, вы ещё передумаете?»
Алексей медленно и задумчиво повёл головой из стороны в сторону.
Я пожал ему руку, и мы попрощались до нового дня.
[23]
– Так и не найдя Настю в университете, я вечером вторника, закончив все дела, решил, что стоит мне ей хотя бы позвонить и рассказать произошедшее за день. С другой стороны, это произошедшее укладывалось едва ли не в четыре слова: «Алёша не принял престола». Даже, если подумать, в два слова: «Алёша отрёкся».
Эти два слова я в итоге и отправил своей аспирантке в виде короткого сообщения.
Я предполагал, что она, движимая женским любопытством, позвонит мне, чтобы расспросить о подробностях, да хоть просто прояснить смысл моей не совсем ясной фразы, и мы немного поболтаем. Но Настя решила переписываться и ответила мне тоже сообщением, видимо, с некоторой иронией:
А кто наследует?
«Понятия не имею», – написал я.
Настя затихла, и я думал, что на этом мы закончили переписку. Прошло минуты четыре – и вдруг от неё прилетело выразительное и загадочное:
Your Sun is rising – & to-morrow it will shine so brightly.23
– Как-как? – поразился автор этого романа.
Андрей Михайлович повторил сообщение и пояснил:
– And было написано через амперсанд24, а to-morrow – через дефис.
– Орфография начала прошлого века? – догадался я.
– Верно! – подтвердил историк. – Правда, к своему стыду, я этого не понял сразу, даром что писал в своё время диплом по этой теме. Смотрел на это предложение как баран на новые ворота, пока не сообразил: это ведь цитата из письма Александры Фёдоровны! От двадцать второго августа тысяча девятьсот пятнадцатого.
– Вы даже помните дату?
– Да, потому что это был день принятия Государем верховного главнокомандования, – пояснил Могилёв. – Единственное отличие только и имелось в том, что в подлинном письме вместо to-morrow стояло to-day, тоже через дефис, и глагол был в настоящем времени.
– Что же вы ответили?
– Признаться, подмывало меня написать, что это всё – не вполне удачная шутка, что нам, мелким по сравнению с тем временем людям, не стоит впустую использовать их крупные слова для своих лилипутских нужд. А после я задумался: ведь я и сам в тот день поступил точно так же! Но ведь – со смыслом? Анастасия Николаевна тоже, выходит, писала со смыслом? Мне так и захотелось позвонить ей и спросить напрямую: что за смысл она вкладывает? Но я, странно сказать… оробел.
– Оробели? – не сразу понял я. – Перед тем, что она поймёт ваш звонок в позднее время неверно, как некую надежду на более доверительные отношения с вашей стороны?
– И это тоже, – согласился Андрей Михайлович. – Да ведь она просто могла ошибиться номером, и тогда вышло бы совсем глупо, вы не находите?
* * *
Наш разговор в тот вечер не закончился: мы успели обсудить что-то ещё, и, кажется, даже не пустячное. Но автор чувствует необходимость дать отдых своему читателю и, исходя из того, что каждой мысли – своё время, завершает на этом месте вторую главу.
Глава 3
[1]
В моих посещениях Андрея Михайловича установился порядок, согласно которому в оговоренное время он оставлял калитку и дверь своего дома незапертой. Для приличия позвонив в дверь, я входил в дом, а хозяин обычно ждал меня в прихожей. В этот раз, однако, мы встретились на участке.
Могилёв, полуобернувшись ко мне, прикрывая глаза ладонью, смотрел на небо.
В предвечернем летнем небе, чистом, без облачка, на расстоянии не больше километра от нас почти неподвижно висел жёлтый воздушный шар.
– Я часто его здесь наблюдаю, – заговорил мой собеседник вместо приветствия. – Понятия не имею, принадлежит ли он местному авиаклубу или, например, частному собственнику. По правде говоря, даже и не хочу знать.
– Почему? – уточнил автор.
– Потому что такое знание может нечаянно разбудить в уме завистливую мысль о том, что, дескать, у некоторых людей хватает и денег, и досуга для полёта на воздушных шарах, в то время как другие перебиваются с хлеба на квас. Очень большевистская мысль.
– А разве не справедливая?
– Справедливая, – согласился историк, – но этакой низшей справедливостью, тем, что и делает её одной из «тьмы низких истин». Человеку жизненно необходим досуг, а не только борьба за хлеб насущный. Причём иногда – именно такой досуг, длительный, замерший, блаженно-неподвижный, с лёгким оттенком скуки. Именно тихий досуг является питательной почвой создания новых смыслов. А без него мы все обречены на бег белки в колесе. Разве вы не согласны?
– Согласен полностью, – признался я. – А спросил про справедливость только потому, что пробую поставить себя на место моего будущего читателя и заранее обречённо думаю о сложности оправдания в его глазах «блаженно-неподвижного», вашими словами, досуга, который предполагает привычку к лени, барству и… и равнодушному использованию общественного неравенства.
– И вновь я вам отвечу, как неизменно отвечал Василий Маклаков в переписке с Шульгиным, – откликнулся собеседник, – что вы правы, но правы лишь отчасти. – Видите ли, до семнадцатого года прошлого века мы все, вся образованная часть общества, имели ровно эти мысли. Так сказать, всей страной коллективно казнили себя за нашу позорную праздность. Причём чем больше предавались этой праздности, тем больше себя казнили. И после переворота, устроенного небезызвестным швейцарским сидельцем, были обречены утонуть во всеобщей рабочей деловитости. Вот, произошла буржуазная революция девяносто первого года – или «контрреволюция», если оставаться в рамках марксистской догмы, – а этой муравьиной деловитости только прибавилось. И где в итоге новый собор Василия Блаженного, новое «Явление Христа народу», новая «Война и мир», новая Шестая симфония?
– Рискую предположить, что они могут появиться и сейчас, – возразил я. – Но пройдут почти незамеченными, потому что…
– Совершенно верно! – подхватил Андрей Михайлович. – Потому что мы потеряли привычку к сосредоточению на больших смыслах. В век судорожного мелькания «злобы дня» перед нашим лицом эти смыслы просто не помещаются в голове. Наше время не только враждебно всякой аскезе – оно даже кабинетному учёному тоже враждебно, потому что не может ведь учёный всё время отвлекаться на цветные пятна разных дутых жареных фактов и полуголых дамочек, что современные информационные колдуны создают перед нашими глазами. Мы все сидим в телевизионной комнате миссис Монтэг, на стенах которой три мультипликационных клоуна рубят друг другу руки и ноги под невидимый хохот. А попытки выйти из этой комнаты приравниваются к юродству. Впрочем, что это я держу вас на улице, милый мой? – спохватился он. – Не угодно ли пройти в дом?
– И всё-таки мы можем забраться в воздушный шар, настоящий или воображаемый, – заметил я, когда мы поднимались по ступеням крыльца.
– Именно! – с воодушевлением согласился Могилёв. – Именно!
[2]
Внутри дома Андрей Михайлович предложил мне остаться в кабинете, на что я заметил: его кабинет больше смахивает на библиотеку. Он немедленно подтвердил:
– Конечно, я с этой мыслью его и обставлял! Половина моей жизни прошла под «знаком библиотеки», если пользоваться астрологической терминологией. Вот и утро той среды началось с неё же. Едва я доложился о себе дежурному библиотекарю в читальном зале, как меня немедленно провели к заведующей, Таисии Викторовне Прянчиковой, в комнатку на третьем этаже между архивом и каким-то подсобным помещением.
Таисия Викторовна, маленькая, пухлая и неутомимая, посадила меня напротив и задала мне, наверное, три дюжины вопросов: ей всё в нашем проекте было искренне интересно. Энергия этой женщины, видимо, не находила полного применения в её профессии и плескала через край её существа. Что мы делаем? Как будет называться итоговый текст? «Перед бурей» в названии как-то связано с «Песней о Буревестнике» Максима Горького? Между прочим, как я отношусь к Горькому? Ах, Андрей Михайлович, неужели «тошнит»?! – ха-ха-ха, скажете тоже… Какого возраста мои студенты? Много ли среди них девочек? Не нахожу ли я, что девочки несколько глупее мальчиков? Что, не нахожу? Ах, я так рада это слышать, так рада, а то ведь многие педагоги-мужчины до сих пор страдают этим, прости Господи, мужским шовинизмом… С какими источниками мы работаем? Неужели современные студенты способны прочитать две-три толстые книги за выходные? Каким чудо-снадобьем я пользуюсь, чтобы мотивировать их читать, и не подскажу ли я его рецепт? Но ведь мы не только читаем – а что ещё делаем? Обсуждаем гипотезы, возможность альтернативных вариантов событий? Как интересно, как фан-та-сти-чес-ки интересно! Чтó я, действительно, думаю про «сослагательное наклонение» в истории? На самом ли деле Советский Союз планировал первым напасть на гитлеровскую Германию, и что случилось бы, если б напал? Одобряю ли я «Ледокол» Виктора Суворова (Резуна)? А вот ещё: нравится ли мне Эдвард Радзинский? Нет? Как жаль – а мне казалось, это самая яркая звезда нашей историографии! В любом случае, в Радзинском есть что-то загадочное, роковое, впрочем, вам, мужчинам, не понять…
Я не успел дать ни одного полноценного ответа, то есть «полноценного» со своей точки зрения. Я, как вы могли заметить, стараюсь на любой вопрос отвечать обстоятельно и не люблю легковесного отношения к мыслям – но Прянчиковой хватало одной фразы, и в меня немедленно летел следующий вопрос. В какой-то момент заведующая вообразила, что должна мне рассказать историю научной библиотеки – и, представьте, действительно начала её рассказывать! Мне пришлось взмолиться: Таисия Викторовна, миленькая, с удовольствием послушаю, но, может быть, в другой раз?! Рабочая группа, наверное, уже вся на месте! Тут только она немного умерила свой пыл и поспешила проводить меня в учебный класс, по дороге рассказав, что с утра попросила сотрудников развесить, начиная с вестибюля, бумажные указатели со стрелками, ведущие прямо к аудитории, чтобы мои студенты не потерялись. Я поблагодарил её за этот любезный жест.
[3]
В «классе» меня уже ждали Борис Герш и Лиза Арефьева, пришедшие первыми. Лизу я едва узнал, вернее, узнавание пришло спустя две-три секунды. Девушка надела светло-серую водолазку с длинными рукавами и длинную светло-серую же юбку, а также высветлила до русого цвета свои почти чёрные волосы, забрав их наверх с помощью сложной системы заколок. Я отпустил ей сдержанный комплимент по поводу её внешности и удачного попадания в образ.
«Это была моя идея», – отозвался Герш.
«Ваша?» – не поверил я.
«Моя, моя! Знали бы вы ещё, Андрей Михайлович, как сложно попасть к хорошему парикмахеру-колористу без записи! Полгорода обзвонили!»
«Удивительно, что вы входили в такие детали… Стесняюсь спросить – поверьте, мне даже неловко, – но… вы двое являетесь парой? Я просто не замечал раньше…»
Лиза, улыбнувшись, помотала головой, правда, чуть покраснела.
«Да нет же! – поразился Борис. – Просто мы, люди одного племени, должны помогать друг другу».
«Одного племени? – беспомощно переспросил я. И тут меня осенило: – Бог мой, Лиза, я уже четыре года подряд наблюдаю ваш, можно сказать, полусемитский профиль, и только сейчас сообразил! Вот что означает “глазами смотреть будете – и не увидите”25!»
«Четверть-семитский, – пояснила Лиза. – У меня только бабушка по матери была еврейкой».
«Но это-то и важно согласно галахическому праву! – встрял Герш.
«Верьте ему больше! – тут же отреагировала Лиза. – “Галахическому”, конечно! Мне это, может быть, и лестно, точней, приятно, как всякой девушке, что интересный молодой человек о ней заботится, руководствуясь каким-то своими… расовыми фантазиями, но я – Борис, извини – никогда себя не чувствовала еврейкой, никогда!»
«А как вы себя чувствуете в своём новом, “немецком” амплуа?» – продолжал я свои шутливые расспросы.
«Неужели вы считаете моего персонажа немкой? – ответила Лиза вопросом на вопрос, и в этот раз вполне серьёзно. – Мне показалось, что её высочество была русской до мозга костей».
«Но свои последние слова на краю той страшной шахты она всё же произнесла по-немецки», – возразил я, чтобы её подзадорить. Девушка пожала плечами:
«Ну и что? Чехов вон тоже перед смертью воскликнул: “Ich sterbe!”26, какой же он немец? А вообще, немцы были просто народностью в Российской Империи, то есть русские немцы, вот я и гляжу на неё как на русскую немку. Или вы не согласны?»
«Тогда ведь и евреев стоит считать просто народностью нашей бывшей империи, “русскими евреями”, – заметил я, – но, кажется, персонаж Бориса с этим точно бы не согласился».
«Не в бровь, а в глаз, Андрей Михалыч! – откликнулся Герш. – Как раз сейчас читаю его “Что нам в них не нравится”. Мучительная книга, и уже хотел пару раз бросить. Но бросить её именно мне нет никакой возможности…»
«А вообще, Андрей Михайлович, если серьёзно отвечать на ваш вопрос о том, как я себя чувствую в новой роли, – продолжила Лиза, – то – очень странно. Настолько странно, что хотела с вами об этом поговорить…»
«И я тоже, – добавил Борис. – То есть не о Лизе, а о себе и некоторых мыслях моего “прообраза”».
«Надеюсь, вы не собираетесь отказаться от своих ролей вслед за Алёшей? – уточнил я с беспокойством. – И, если этот разговор важен, зачем откладывать?»
[4]
Время для беседы было, однако, упущено. Аудитория постепенно наполнялась. Пришла староста, за ней – Марк, который пожаловался, что, дескать, до нашей научной библиотеки за неделю на ездовых собаках не доедешь, за ним – сразу пятеро, и выяснилось, что все в сборе, кроме «Цесаревича».
«Я дурошлёп, не написала Орешкину! – покаялась Ада. – Алексея же не было вчера на “суде”, он не знает, где мы! Сейчас попробую ему сообщить… Кстати, Андрей Михайлович, что это за странную голосовалку вы вчера повесили? Кто это отказывается от своих обязанностей? Ребята, вы что, сдурели?»
Тут нужно пояснить. Накануне вечером я действительно в общей беседе рабочей группы в социальной сети опубликовал «опрос». Знаю, что по современным нормам такая беседа называется «чатом», но не могу себя заставить использовать это слово, так же, как не могу использовать слово «флэш» или «флэшка». Флешь для историка существует только одна – полевое клиновидное укрепление в армии начала XIX века, «Багратионова флешь», например. Вы со мной не согласны? Но я отвлёкся. Мой опрос звучал следующим образом: «Можем ли мы включить Е. И. В. Александру Фёдоровну в регулярный план работы, если кто-либо из десяти основных участников откажется от своей роли?» В этом опросе приняли участие трое: Лиза Арефьева, Марта Камышова и Ада Гагарина – причём Лиза и Марта воздержались, а староста группы проголосовала «против».
«Ада, я не могу вам сказать, кто именно отказался, потому что надеюсь, что этот человек ещё передумает! – ответил я. – Давайте лучше дождёмся его самого и спросим…»
«Методом исключения получаем, что это Алексей, потому что все остальные уже тут, – немедленно сообразила Ада. – Очень интересно…»
«Savez-vouz, l’Empereur a abdique27», – с юмором прокомментировал её брат, дословно при этом повторяя слова министра двора графа Владимира Борисовича Фредерикса, сказанные им нескольким членам царской свиты второго марта семнадцатого года около трёх часов пополудни. Я и не знал, что Тэд знает французский. Правда, чтобы произнести одну фразу на французском, совсем не обязательно знать язык, а актёрство в этом очень помогает.
«Как некрасиво по отношению к группе… Он вам не раскрыл причин?» – продолжала допытываться староста.
«Раскрыл, – признался я. – Но я бы не стал их пересказывать без крайней необходимости. Вдруг нечаянно перевру что-нибудь…»
«Коллеги, господа и товарищи! – подал голос Кошт. – Может быть, начнём уже с докладом? А то мы до морковкиного заговения будем ждать нашего Ники!»
– Неужели ваши студенты использовали такие красочные фразеологизмы? – не мог не полюбопытствовать автор.
Андрей Михайлович хмыкнул:
– Думаю, это персонаж из старорусского купеческого рода на него повлиял. Хотя Марк и сам по себе мог такое выдать, конечно…
[5]
– Так и решили поступить, – продолжал рассказ Могилёв. – Мы все, включая меня, уселись за парты, а Лиза прочитала нам доклад, даже, можно сказать, целую обстоятельную лекцию, забавно контрастирующую своим содержанием с плакатами по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и радиохимической защите, которыми были увешаны все стены маленького класса. Я внутренне поздравил себя с тем, что мои студенты становятся настоящими педагогами – разумеется, едва ли это была моя заслуга, не стоило её приписывать себе.
Девушка толково рассказала не только об основных вехах жизни своего персонажа, но сделала любопытный обзор и сравнение между собой источников, которыми пользовалась. Биография её высочества за авторством Марины Земляниченко, воспоминания Феликса Юсупова, основательная работа Любови Миллер под названием «Святая мученица» – и, наконец, где-то сумела моя студентка раздобыть An Unbroken Unity28, книгу Эдит Марты Альмединген, которую я и сам некоторое время разыскивал, но безуспешно. Воздерживаясь от передачи своих впечатлений, Лиза заострила наше внимание на двух примечательных моментах биографии своего персонажа, обещавших некоторый простор для исследования. Первой было «церковное новаторство» великой княгини: столь значительное для её времени (пожалуй, и для нашего), что без высочайшего вмешательства ничто из задуманного не осуществилось бы. Второй – единственная и безуспешная попытка настоятельницы Марфо-Мариинской обители вмешаться в современную ей политику. Речь шла о печальном разговоре с Александрой Фёдоровной, её младшей сестрой, с целью убедить ту распрощаться с Распутиным. Разговор этот состоялся ближе к концу тысяча девятьсот шестнадцатого года – впрочем, я рассказываю вам такие общеизвестные вещи, что рискую надоесть. Стóит ли?
– Стоит, стоит, – пробормотал автор. – Не заставляйте меня стыдиться своего невежества больше, чем я уже устыдился.
– Как скажете… Слушая Лизу, я не столько вникал в смысл слов, сколько наблюдал за ней самой. Какое-то не очень приметное изменение в ней действительно произошло: куда-то ушёл избыток живости, верней, насмешливости, сами движения стали более спокойными, взрослыми, тон голоса тоже поменялся… Представьте себе молоко, влитое в чай, в прозрачном стакане или стеклянной кружке, вот вроде тех, которыми мы пользуемся! Даже по цвету вы увидите, что новая жидкость не будет чистым молоком, но назвать её чаем тоже невозможно… Вам, кстати, долить ещё?
Ближе к концу её доклада случилось отчасти забавное происшествие – то есть, говоря «забавное», я и не уверен: как посмотреть… В пятнадцатом году, рассказывала нам Лиза, некая учительница немецкого языка по имени Вильгельмина Ольцен, Ölzen – затрудняюсь, как произнести немецкое «о умлаут» в начале слова, и понятия не имею, как вы его передадите средствами русского алфавита, правда, это уже не моя головная боль, – Ольцен, повторюсь, решила поднести матушке Елисавете некий подарок. Уточню, не столько подарок, сколько знак женской симпатии, солидарности, сочувствия перед лицом охватившей всю страну германофобии, от которой даже эта выдающаяся подвижница, будущая православная святая, тоже пострадала: было разбито лобовое стекло автомобиля, в котором матушка возвращалась в обитель с похорон великого князя Константина Константиновича. Но что отставная учительница, живущая на скромную пенсию, могла бы подарить вдове брата покойного Государя, привычной к любой роскоши, а после пострига без труда сменившей роскошь на добровольную аскезу? У фройляйн Ольцен с давних времён сохранился один-единственный лист пергамента, на котором она придумала красивым почерком написать стихотворение рано умершего немецкого поэта Теодора Кёрнера. Готовую работу госпожа Ольцен передала «её королевскому высочеству» через дежурную сестру обители. Примерно через неделю Елисавета Фёдоровна навестила скромное жилище бывшей учительницы, чтобы лично поблагодарить за этот текст. Поэма Кёрнера, призналась настоятельница, была одной из её любимейших поэм. Между прочим, заметила Лиза, в книге Марты Альмединген приводится само стихотворение на языке оригинала. Вот, я его даже распечатала, так что желающие смогут в перемену…
«Спасибо, но зачем в перемену? – откликнулся со своего места Штейнбреннер. – Мы хотим услышать этот текст сейчас. Это – элемент характеристики личности!»
«Совсем не обязательно, – пробормотала Марта (не Альмединген, а Камышова). – Матушка могла похвалить стих просто из вежливости».
Лиза растерялась:
«Я не сильна в немецком…»
Но Штейнбреннер, сидевший за одной из первых парт, уже протягивал руку по направлению к бумаге – взяв текст поэмы, он вышел перед классом, вкратце пояснил, о чём здесь говорится, а после с выражением прочитал нам «Молитву во время боя» по-немецки. Вы можете найти её в нашем сборнике, поэтому не буду её читать, да я и не в состоянии был бы повторить за ним этот языковой трюк…
[6]
Прерывая рассказ Андрея Михайловича, считаю нужным здесь поместить полный текст стихотворения (или поэмы) Карла Теодора Кёрнера (1791 – 1813), а в сноске – его перевод, выполненный Фёдором Богдановичем Миллером (1818 – 1881), русским поэтом XIX века.
Gebet während der Schlacht
Vater, ich rufe dich!
Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze,
Sprühend umzucken mich rasselnde Blitze.
Lenker der Schlachten, ich rufe dich!
Vater du, führe mich!
Vater du, führe mich!
Führ' mich zum Sieg, führ' mich zum Tode:
Herr, ich erkenne deine Gebote,
Herr, wie du willst, so führe mich.
Gott, ich erkenne dich!
Gott, ich erkenne dich!
So im herbstlichen Rauschen der Blätter
Als im Schlachtendonnerwetter
Urquell der Gnade, erkenn' ich dich.
Vater du, segne mich!
Vater du, segne mich!
In deine Hand befehl' ich mein Leben,
Du kannst es nehmen, du hast es gegeben,
Zum Leben, zum Sterben segne mich.
Vater, ich preise dich!
Vater, ich preise dich!
'S ist ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das Heiligste schützen wir mit dem Schwerdte,
Drum fallend und siegend preis' ich dich,
Gott, dir ergeb' ich mich!
Gott, dir ergeb' ich mich!
Wenn mich die Donner des Todes begrüßen,
Wenn meine Adern geöffnet fließen,
Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich!
Vater, ich rufe dich!29
[7]
– Альфред, – рассказывал Могилёв, – закончил чтение и обвёл группу взглядом, наслаждаясь произведённым впечатлением.
«Какой же это русский немец? – риторически вопросил Борис, ни к кому не обращаясь. – Альфред – самый что ни на есть немецкий немец, выучивший наш язык, а русский паспорт у него по недоразумению. И это ещё нашу нацию упрекают в…» – он сделал неопределённый жест рукой.
«Да, – крякнул Марк, соглашаясь с Гершем. – Ты, Фредя, не обижайся, но послушаешь тебя – и сразу понятно, почему ваша “немецкая мечта” в двадцатом веке никому особо не зашла».
«Последнее замечание я отвергаю как несправедливое и окрашенное германофобией, – парировал Штейнбреннер. – А Елизавету хотел бы поблагодарить за этот ценный источник, который раскрывает нам одну из черт изучаемой личности, а именно её религиозный милитаризм или, если быть более точным, воинствующую религиозность».
«Альфред, может быть, не так уж и неправ, – негромко заметил Иван. – Если допустить, что в великой княгине имелся хоть один грамм этого настроения и духа, свойственного немцам вообще и Кёрнеру в частности, то я не очень удивлён тому, что на второй год войны с Германией толпа разбила стекло её автомобиля…»
«Что-о?! – возопила на этом месте Лина, которая всё время доклада не сказала ни слова, но слушала, как выяснилось, внимательно. – Иван, ты дебил? Какой ещё “религиозный милитаризм”?! Слышь, ты, крендель-мендель-колбаса, – это Альфреду, – руки прочь от нашей русской православной княгини!»
Здесь поднялся гвалт, и мне лишь ценой некоторого напряжения связок удалось перевести этот гвалт в разумное обсуждение.
Я обратил внимание группы на открывшиеся «белые пятнышки» и попросил решить, как мы будем работать с ними. Все тут же согласились, что встреча двух сестёр, «Аликс» и «Эллы», требует сценического эксперимента, а новаторство Елисаветы Фёдоровны в церковной области – отдельного доклада, который Борис Герш вызвался подготовить добровольно и даже с определённым энтузиазмом. Штейнбреннер хотел устроить новый суд, и, когда идея суда была единодушно отвергнута, стал настаивать, как минимум, на «синодальном разбирательстве»: насколько, дескать, еретическим являлся устав Марфо-Мариинской обители и не оказались ли при его разработке нарушены догматы православной веры?
«Такое разбирательство уже было, – спокойно ответила ему Лиза, – и все эти вопросы мне уже задавались». Я отметил то достоинство и отсутствие колебания, с которым девушка сказала это условное «мне».
«Но рýки Святейшего Синода оказались при этом связаны высочайшим указом, утверждённым в марте [тысяча девятьсот] десятого, – парировал Штейнбреннер. – Что ещё оставалось делать церковным иерархам, как не потоптаться на одном месте и не сделать хорошую мину при плохой игре? Это – неравные условия борьбы».
«Значит, наш Царь был более православным, чем Синод», – тихо произнесла Марта, не как вопрос, а как утверждение.
«Ничего подобного! – возмутился Альфред. – Это называется не “более православным”, а “прекращение богословской дискуссии в порядке административного произвола”!»
«Вот и выскажите своё возмущение моему царственному зятю, Павел Николаевич, – ответила Лиза, слегка улыбаясь. – И ему задайте все ваши вопросы о том, зачем он подписал свой указ».
«Я бы и задал, только где мы его найдём! – немедленно ответил Альфред. – Скажите пожалуйста, Альберта, долго ли…»
Не успел, однако, Штейнбреннер закончить свою мысль, а староста группы опротестовать обращение к ней по имени Альберта, как дверь класса открылась. На пороге, конечно же, стоял Алёша.
[8]
Все так и накинулись на нашего «Цесаревича» с разными вопросами, но громче всех прозвучала Ада:
«Алексей! Будьте любезны объяснить нам, почему вы отказываетесь от роли и подводите группу!»
Ради вящей торжественности староста даже перешла на «вы».
Не отвечая ей, Алёша прошёл к первой парте и занял свободное место рядом со мной.
«Я вас искал по всему корпусу, – пробормотал он, ни к кому не обращаясь. – Даже на кафедру отечественной по дурости зашёл, и столкнулся там с Владимир-Викторычем, который меня стал пытать о том, куда это мы исчезли. “Почему вы отказываетесь!” Потому, Ада, что это высшая степень бесстыдства – быть тем, кем не имеешь быть никакого морального права! Я ведь уже сказал Андрей-Михалычу, что готов исполнить любую другую роль. Любую! Хоть Ульянова-Ленина, хоть Нахамкиса-Стеклова, хоть Фёдора Раскольникова, хоть этого вашего Ка… Каляева. Одного поля ягоды…»
– Разве Раскольникова звали не Родионом? – прервал на этом месте автор рассказчика.
– Речь идёт об одном большевике, который в годы революции взял себе этот звучно-кровавый псевдоним, – пояснил Андрей Михайлович. – Его настоящей фамилией было Ильин.
– Извините! – покаялся я.
– Не на чем… Но продолжу.
«Надо было его короновать, – прокомментировал «отречение» Герш. – Вы пренебрегаете значением ритуала, друзья мои! Короновали бы, и он уже не смог бы отказаться, совесть бы не позволила».
«Может быть, – ответил Алёша вполне серьёзно на эту наполовину юмористическую мысль. – Сейчас-то что толку говорить о том, что вы не сделали?»
«Итак, у нас нет царя, – подвела итог староста группы. – Грустно, ребята!»
«Может быть, именно теперь и стóит подумать про замену Государя на Александру Фёдоровну?» – заикнулся я. И здесь случилось несколько неожиданное.
Группа после окончания доклада давно уже как-то сгрудилась в первой половине класса, но Лиза продолжала скромно сидеть на своём месте лектора. В этот миг она встала, прошла несколько шагов и остановилась прямо перед моей партой, глядя мне в глаза.
«Ники! – произнесла она негромко, но очень отчётливо, в полной тишине. – Надо принимать престол. Неужели ты оставишь свой народ без Государя?»
– Прямо «Ники» и на «ты»? – ахнул автор.
– Да, уверяю вас! – подтвердил Могилёв. – Скажи она что-то вроде: «Андрей Михайлович, группа предлагает вам…», я бы ещё сто раз подумал. Но против этого «Ники, неужели ты оставишь свой народ?..» не было никакой физической возможности возражать. Меня, должен признаться, посетил мгновенный ужас. Вот какой: знает ли Лиза о моём невинном письме Марте, подписанном семейным именем последнего Монарха? Насколько, кстати, невинно это письмо? Я ведь его писал явно не от себя, а беспристрастной рукой историка. Выходило теперь, что от себя?
Тэд первый почувствовал нерв момента и, забравшись на стул с ногами, закричал:
«Православные! Волим царём болярина Могилёва, Андрей-свет-Михалыча! Волим!»
Группа весело ответила разноголосым ропотом: «Волим!», «Даёшь!», «Болярина на царство!», «Ура!» и пр. Безусловно, это было только игрой, но их забавляла мысль о том, что педагог присоединяется к этой игре, становясь их коллегой по работе в полном смысле слова, принимая на себя ту же ношу, что и все, окончательно делаясь частью коллектива. Я встал со своего места, чтобы протестовать – но понял, что протестовать, идя против общего настроения, у меня нет никакой возможности. Приложив правую руку к сердцу, я поклонился группе поясным поклоном, примерно таким, каким цари могли приветствовать московский люд с Красного крыльца Грановитой палаты. Группа встретила этот поклон аплодисментами и весёлыми возгласами одобрения.
[9]
– Тут же появился, уже не помню, по чьей инициативе, некий рабочий комитет из Ивана Сухарева, Бориса Герша и Тэда Гагарина, который стал обсуждать детали предстоящей «коронации». Именно Тэд предложил провести её в форме сценического эксперимента, а Борис так и вцепился в эту идею. Штейнбреннер тоже примкнул к обсуждению, но в качестве оппозиции, той пресловутой Бабы-Яги, которая всегда против.
Оставшиеся студенты занимались тем, что сдвигали парты в заднюю часть класса, готовя пространство для «сцены». (Аудитория, замечу мимоходом, была совсем небольшой, парт в ней помешалось всего шесть, для одиннадцати человек их хватало в обрез.) Посередине сценического пространства установили «трон», то есть самый обычный стул, на спинку которого кто-то повесил бумажку с почти карикатурной надписью «Царскiй тронъ» в дореволюционной орфографии.
Лиза, развернув свою тетрадь для записей, отрéзала от её золотистой обложки сверху и снизу две полосы шириной три или четыре сантиметра. Найдя на столе преподавателя клей-карандаш, она склеила эти две полосы в обруч и принялась выстригать зубцы по одной из его сторон.
«Я против использования нелепых реквизитов такого рода», – немедленно заявил Штейнбреннер.
«А я за», – невозмутимо ответила Лиза.
«И я за, – добавил Тэд. – Плохой реквизит лучше его отсутствия. Лиза, голубушка, – обратился он к героине дня, – делай, пожалуйста, не треугольники, а полукружия, иначе выглядит совсем по-детски. Дай-ка мне, я покажу тебе, как надо…»
Гагарин полностью завладел «короной», а Лиза переключилась на изготовление «епитрахили», основу для которой в виде длинного кашне пожертвовал Тэд, а булавки – Марта.
«Нет, вы удивляете меня! – недоумевал Альфред. – Вы хотите сказать, что в этой аудитории сейчас совершится акт венчания на царство?»
«Фёдор, успокойся, никто так не хочет сказать! – подал со своего места Марк Кошт, расставлявший стулья для зрителей церемонии. – И давать Андрей-Михалычу воинскую присягу тебя никто не заставит. Расслабься уже, да?»
«Конечно, конечно… – но наш «профессор» не был готов расслабиться. – А что делает Елизавета, могу я спросить?»
«Епитрахиль», – лаконично пояснила девушка.
«Епитрахиль?! – взвился Штейнбреннер. – То есть настоящую православную епитрахиль?! И кто же, интересно, её на себя возложит?»
«Алексей, кто ещё? – весело ответил я. – Он вчера сообщил мне о готовности изображать духовенство, так что быть митрополитом Палладием ему сам Бог велел. Поглядите, как внимательно он листает Зызыкина!»
Тут поясню: Михаил Валерианович Зызыкин – русский правовед, который уже после эмиграции составил добросовестный труд под названием «Царская власть и закон о престолонаследии в России». В этом труде, кроме прочего, приведён полный чин коронования.
«А Алексей, разрешите узнать, рукоположен, чтобы надевать на себя епитрахиль? – не отставал от нас наш «русский немец». – Никто не видит в этом всём нарушения конфессиональной этики?»
«Фредя, уймись наконец, – попросил Кошт. – Иначе мы сейчас сделаем вторую корону, чёрную, и я тебя лично венчаю царём всех душнил всех времён и народов».
«Почему чёрную?» – тут же прореагировал Альфред.
Лиза не выдержала и рассмеялась. Кто-то подхватил, и через полминуты мы смеялись все.
[10]
«Коронация» прошла без сучка и задоринки.30 Алёша, облачённый в епитрахиль, служил серьёзно, сосредоточенно и вдохновенно, причём я произношу этот глагол без всяких мысленных кавычек. Молитвы он, правда, читал не наизусть, а из книги Зызыкина, держа её перед собой на вытянутой руке, но этот жест только прибавлял торжественности всему происходящему. Моё участие свелось к нескольким ритуальным жестам да к произнесению вслух православного Символа веры, что я без труда совершил по памяти. После слов «верховную власть над людьми своими» Алёша объявил, что чин венчания свершён, и поспешил снять «епитрахиль»: она его явно тяготила. «Народ» наградил нас новыми аплодисментами.
Я опять слегка юмористически поклонился и, снимая картонную корону, пояснил:
«Не думаю, что Государя на выходе из Успенского собора собравшиеся приветствовали аплодисментами, но, если уж так, все их отношу исключительно к Алексею. Он всё совершил как нельзя лучше».
«Да, отлично! – согласился Борис. – Настолько убедительно, что его хоть сейчас можно возвести в сан. Увы, от еврейских пареньков вроде меня это никак не зависит».
«Нет, нет, – пробормотал Алёша. – Это не так и не я должен был делать. И читать по книге – тоже плохо: как будто недоучившийся семинарист…»
«Алёша – умница, но меня поразили вы, – негромко сказала Марта, пристально глядя мне в глаза. – Вы ведь Символ веры сказали наизусть. Я не ожидала…»
Между прочим, студентам о своём монашеском опыте я никогда не рассказывал, даже мои коллеги не все о нём знали. Прежде чем я успел ей ответить, всерьёз или шуточно, заговорил Штейнбреннер:
«Вы все можете сколько угодно надо мной смеяться и даже, как тут обещали, надеть мне чёрную корону “главного душнилы” всех времён, и всё же я упорно не понимаю: какая чисто исследовательская ценность имелась в этой сцене?»
«Исследовательской не было никакой, – сразу согласился с ним Тэд. – А ритуальной и эстетической – масса».
«Такая масса, что те, кто увидел бы нас со стороны, назвали бы нас сектантами, а не исследователями», – упорствовал немец.
«Нет, Альфред, ты не прав, – вдруг выговорил Иван. – Здесь был и познавательный опыт, хотя бы для меня. Я своими глазами увидел, что…»
Встав со своего места, он вышел вперёд, и, обернувшись ко всем, продолжил мысль:
«Я своими глазами увидел, что это всё совершилось соборно. Вот этот экзамен кандидата о его вероисповедании, или молитва, когда митрополит произносит “мы”, и это явно не императорское “мы”, не фигура речи, а – “мы все, стоящие здесь”, или возглас дьякона, после которого царь склоняет голову вместе с народом, – слушайте, это всё – земский собор в миниатюре! Я намеренно молчу про религиозную сторону, а говорю только про общественную, – поспешил Иван предупредить возражения, хотя никто ему не возражал: все слушали внимательно. – Земский собор, установление общей нормы, учредительное собрание, если пользоваться юридическим языком. Какое право, – вдруг темпераментно воскликну он, – какое право господа вроде Милюкова и ему подобных имели талдычить нам тридцать лет подряд о том, что Россия не может обойтись без Учредительного собрания?! Вот, пожалуйста, уже оно совершилось четырнадцатого мая девяносто шестого! Кто им дал основание думать, что их адвокатски-либеральный способ выяснить народную волю лучше исторически-церковного? Да если бы он и был лучше: разве можно поступать так? Даже в быту разве можно продать какую-то вещь одному человеку, а после её же – другому, оправдываясь тем, что прежний договор купли-продажи написали пером на пожелтевшей бумаге, а новый, свеженький, отпечатали в типографии, и поэтому старый против нового никуда не годится? Почему в их хилый умишко не вошло, что прежде любых учредительных собраний, любых циркулярных телеграмм, любых манифестов надо было всенародно являться в тот же самый Успенский собор, падать на колени и кричать: Царь-батюшка, мы передумали, мы за двадцать один год всех предали и всё продули, благоволи снять нами возложенный венец! Кто из этих умников, – он показал ладонью на Штейнбреннера, – додумался это сделать?!»
«Браво», – шепнул Герш, внимавший каждому слову.
«А вы сами, Михаил Васильевич? – совершенно неожиданно для всех спросила Марта. – Вы разве додумались?»
«Я? – испугался Иван – и весь сразу как-то съёжился: – Чёрт побери, правда же…»
И хотя студент четвёртого курса Иван Сухарев никак не мог нести ответственность за поступки умершего в тысяча девятьсот восемнадцатом году генерал-адъютанта Михаила Васильевича Алексеева, он покорно принял вес этого упрёка, направленного совсем не в него, и тихо, медленно вернулся на своё место.
Альфред, откашлявшись, собирался, похоже, протестовать и оспаривать тождество коронования и земского собора с правовой точки зрения, да и Марк открыл рот, ведь и в его персонажа прилетел камешек. Но я не дал разгореться новой дискуссии. Хлопнув пару раз в ладоши за неимением председательского колокольчика, я бодро объявил, что время близится к полудню, а значит, самая пора уйти на обеденный перерыв!
В небольшом здании библиотеки отсутствовал даже простой буфет, поэтому я щедро отпустил на обед целый час. Ближайшая столовая находилась в здании Пищевого техникума в десяти минутах ходьбы от библиотеки: по моим расчётам, часа должно было хватить.
[11]
– Мой телефон, – рассказывал Андрей Михайлович, – уже во время «коронации» неблагочинно прожужжал, поэтому я с началом обеденного перерыва поспешил прочитать короткое сообщение. Сообщение было от Насти:
А. М., вы не хотите пообедать с симпатичной девушкой?
Я почти рассмеялся: что называется, моя аспирантка в своём репертуаре. Ответил в тон ей:
А кто симпатичная девушка?
«Да я же! – прилетело мне через минуту. – Вы, что, меня боитесь? В конце концов, я предлагаю только пообедать, а не поужинать… Где вы? Здесь вас все потеряли».
«В науч. библиотеке на Загородной роще, – пояснил я. И добавил: – Настенька, рад бы, но у тебя занятие в 12:40?»
Заметьте, кстати, как этот «телеграфный» формат коротких сообщений урезает речь! В полноценном письме, даже электронном, я бы не обронил глагол: написал бы «начинается занятие».
«Оно отменилось!» – сообщила девушка.
«Как это?! – поразился я. – Ты сама его отменила?»
«Нет: Вл. Вик.» (Это сокращение обозначало, видимо, Владимира Викторовича.) «Я свободна на сегодня. Так что насчёт обеда?»
«Я через 15 мин. буду в “Союзе”, – капитулировал я. – Там есть столовая».
«Уже вызываю такси!» – пришло последнее лаконичное сообщение с восклицательным знаком в конце. Я только головой покачал, увидев его: я в свою бытность аспирантом на такси не ездил… Впрочем, зачем осуждать? И пусть ездит, и слава Богу.
Через четверть часа мы встретились в многоэтажном торговом центре, где продаётся мебель, стройматериалы, сантехника и всякая такая всячина, выстояли очередь в столовой, сели со своими подносами за небольшой столик.
«Сегодня в пятиминутный перерыв во время второй пары ко мне зашёл завкаф, – начала рассказывать Настя. – Извините, вам не нравится это сокращение!» – тут же исправилась она.
«Нет, ничего… Я бессилен выстоять против могучих волн языкового вульгаризма своей одинокой тощей грудью», – отшутился я.
«Вульгаризма, значит? Ну-ну… Знаете вы, кстати, анекдот про трёх поросят, первого из которых звали Ниф-Ниф, второго Наф-Наф, а третьего – Заф-Каф? Это вам, наверное, тоже не нравится… Так вот, и спросил меня: где мой научный руководитель? Заф-Каф вас с самого утра ищет, не находит и злобствует. “Злобствует” я от себя добавила, но по нему, знаете, было видно!»
«Да, мне уже принесла на хвосте сорока», – подтвердил я.
«Какая ещё сорока? – не сразу поняла Настя. – А, это поговорка! Вы, Андрей-Михалыч, нарочно себя делаете более старым, чем есть, всяким вашим русским фольклором. Это такое мужское кокетство, что ли?»
«Что ты! Даже и в мыслях не было».
«Итак, – продолжала аспирантка, – я сделала глаза невинной девочки и ответила, что понятия не имею. Мне на это сказали: очень плохо! Позорно, легкомысленно и безответственно! И дали поручение: во-первых, выяснить, куда это вы исчезли. Вы лично и группа сто сорок один. Выяснить и сразу доложить. Во-вторых…»
«Ты уже доложила?» – прервал я.
«Андрей Михалыч! – Настя выпрямилась, едва не бросила вилку. – Вот это сейчас прозвучало обидно».
«Господь с тобой, – испугался я, – почему обидно? Ты не обязана мне никакой присягой, Настя, а Владимир Викторович всё-таки наш начальник».
«Ваш, но не мой! – парировала девушка. – Это не он мой научный руководитель. Я ведь от него ушла к вам, вы не забыли? Как жирный колобок… Видите, я тоже умею в русский фольклор! Во-вторых, мне было поручено присоединиться к работе вашей группы, внимательно смотреть и слушать, дать в конце дня подробный отчёт о том, что это вы делаете, звонить даже поздним вечером! А мою “пару” после обеда он отменил, потому что это задание важнее».
«Вот как? – я даже не вполне поверил. – Значит, ты должна прямо шпионить за нами в буквальном смысле слова?»
«Смотрите! – Настя показала мне на экране своего устройства личный номер телефона завкафедрой, которым он не разбрасывался просто так. – Вас это не убеждает?»
«Отчего же, вполне… А ты что?»
«А что я? Взяла под козырёк».
«“Вы должны были уж держать всё это в секрете и никому не говорить”, как сказал в Ставке генерал Толстой генералу Тихменёву вечером седьмого марта семнадцатого в ответ на сообщение о секретной телеграмме из Госдумы», – заметил я вполголоса.
«Не знаю ни того, ни другого! – чистосердечно призналась Настя. – И даже не стыжусь: не пытайтесь меня, пожалуйста, overwhelm with your knowledge31. Почему это я должна была держать это в секрете? Зачем вы меня отталкиваете?»
«Настя, не сердись, пожалуйста! – попросил я. – Похоже, я просто вляпался в какую-то интригу, и не хочу ещё и тебя в неё втягивать».
«А я в этой интриге занимаю вашу сторону!» – живо отреагировала девушка.
«Тебе бы лучше не занимать ничью… Увы, увы: мы демонстрацией всех этих дрязг подаём тебе как юному учёному дурной пример», – покаялся я.
«Бросьте, Андрей-Михалыч, мне не восемнадцать лет… Я готова вам помогать! Только не знаю, как…»
Я улыбнулся:
«Это очень мило с твоей стороны… Ну что же, доложи ему: мол, “лаборатория” переехала в библиотеку и там продолжает работать над материалом зубодробительно скучными академическими методами, так что ты еле высидела до конца».
«Я так и планировала. И мы оба знаем, что это не так: ха-ха… А чтó, я действительно могу к вам присоединиться после обеда?»
«Само собой! – радушно подтвердил я. – Твоя сестрица Элла ждёт не дождётся сойтись с тобой в открытом противостоянии. У нас очень удачная Элла, ты знаешь? Я, правда, так и не смог тебя, твоего персонажа то есть, вставить в общий план работы…»
«И к лучшему, – перебила Настя. – Меня устраивают редкие набеги. Посмотрим-посмотрим на мою старшую сестрёнку…»
«…Не смог, хотя честно пытался, – продолжал я. – Тут ещё случилось непредвиденное: так вышло, что в связи с отречением Алёши меня “короновали”…»
Настя вся осветилась изнутри и даже захлопала в ладоши. (Кажется, на нас начали оглядываться другие посетители столовой.)
«Правда?! – весело воскликнула она. – Я предчувствовала, что так будет!»
«Скажи мне, пожалуйста: это именно с твоим предчувствием связано твоё вчерашнее загадочное сообщение на английском?» – осторожно спросил я.
«Разумеется, – подтвердила Настя. – А с чем ещё оно могло быть связано?»
Правда, хоть и сказала это с уверенностью, она всё же как будто немного порозовела.
«Вы, девушки, любите говорить загадками, – дипломатично извернулся я. – Я даже думал, что оно не мне предназначалось».
«Кому же ещё? Эх, Николай Александрович, я ведь не “по-царски” одета сегодня! – притворно вздохнула Настя и с сомнением оглядела свою блузку. Была она в тот день в белой блузке с короткими рукавами и клетчатой юбке-шотландке, то есть красной в крупную зелёную клетку, достаточно длинной по современным меркам, что-то до середины голени, но по нормам столетней давности – несерьёзной, «подростковой» длины, слишком яркой и явно не во вкусе последней Государыни. – Вот и сомневаюсь, примут ли меня такую… пёструю».
«Ну ладно уж, Александра Фёдоровна, придётся нам делать хорошую мину при плохой игре и помнить, что не платье красит человека», – отозвался я в том же шутливом тоне.
«Да ладно, Андрей Михалыч: неужели последний царь называл свою жену по имени и отчеству?» – поддела меня Настя.
«Ну это уж нет, конечно», – согласился я.
«И зачем вы тогда пренебрегаете исторической точностью?»
«Ты ей сама первая пренебрегла… My darling Alix, isn’t it time for us to go, so as to not be late for today’s second session?32»
«Ой, какая прелесть! – Настя вся расцвела. – Настоящая “Россия, которую мы потеряли”! Вот так и станешь монархисткой и хрустобулочницей. Слышали такое словечко?»
«Слышал, – подтвердил я. – Но душа его отторгает».
«Ну, ещё бы… Знаете, я предлагаю нам переписываться по-английски, чтобы сохранить верность духу персонажей. Я три месяца жила в Британии, а теперь практики языка нет, и обидно».
«Что же, я не протестую», – вздохнул я, думая про себя: как много в ней ещё жизненных сил и чего-то почти детского!
«А в английском есть ещё одно достоинство», – тут же добавила Настя.
«Какое?» – поинтересовался я.
«В нём нет разделения на “ты” и “вы”, – пояснила девушка. – Разве это не прекрасно?»
[12]
– По пути в библиотеку, – говорил Могилёв, – я написал Аде Гагариной о том, что моя аспирантка сегодня присоединяется к работе группы, поэтому нас уже ждали.
«Царица-матушка сегодня прекрасно выглядит, – заметил Борис Герш, когда мы с Настей вошли в аудиторию. – Правда, несколько легкомысленно».
«Государыня, видимо, приветствовала сэра Джорджа Бьюкенена, английского посла, вот и надела что-то, приятное его глазу, – это Кошт иронически прокомментировал узор её юбки. – Были бы рады, если бы её величество изредка думали и о своих несчастных соотечественниках».
«Это – Гучков? – шепнула мне Настя, и в ответ на мой кивок холодно обронила «Гучкову»: – А с вами, господин октябрист, я даже разговаривать не хочу!»
«Ну, конечно! – протянул Марк. – Вы, мадам, меня, помнится, вообще хотели повесить, а в повешенном состоянии разговаривать неудобно».
Группа была уже в сборе – мы пришли позже всех – и, как выяснилось, обсуждала предстоящий сценический эксперимент. «Царскiй тронъ» успели убрать, точней, убрали записку со спинки стула и присоединили к нему ещё один, что, видимо, должно было изображать диванчик в одной из комнат Александровского дворца в Царском селе.
«Мы хотим выяснить несколько вещей, Андрей Михайлович, – пояснил Борис. – Что случилось бы, если бы старшая сестра сумела убедить младшую? Смогла бы она её убедить? Свелось ли всё к женским эмоциям, или на кону стояли какие-то сложные соображения?»
«Вы забыли мой вопрос: была ли здорова государыня императрица? – подал голос Штейнбреннер. – Я имею в виду, психически».
«Да, и действительно ли Аликс выгнала Эллу “как собаку”, о чём в воспоминаниях пишет мой персонаж? – прибавил Тэд. – Ну, или “пишу я”, как у нас становится модным говорить… В конце концов, это просто сценично. Государыня-матушка, не угодно ли пройти вот сюда? – обратился он к Насте с елейностью опытного царедворца. – Ваше величество, изволите видеть, будут стоять спиной к двери, а их высочество войдут оттуда…»
Настя кивнула, уже бледная, собранная, и заняла нужную позицию. Лиза стала у другого края «сцены», накинув на голову косынку, которая, видимо, изображала апостольник игуменьи. С некоторым даже удивлением и безусловным восхищением перед их близостью образу я наблюдал, как обе девушки, обычно такие живые, отбросили всякую весёлость, весь молодой задор. Настя нахмурилась, и эта складка на её лбу выглядела не как мимическая складка, а как морщина, оставленная годами жизни, скорбями и болезнями. Лиза смотрела прямо перед собой серьёзно и горестно.
Тэд, приглядевшись к ним обеим, по какому-то одному ему известному признаку решил, что обе участницы диалога готовы, картинно взмахнул хлопушкой-нумератором и щёлкнул ей.
– Позвольте, а я ведь не нашёл в вашем сборнике стенограммы именно этой сцены! – перебил на этом месте автор рассказчика. – Или я что-то пропустил?
Могилёв помотал головой.
– Нет, вы ничего не пропустили, – ответил он. – Сцены не было. Ничего не случилось!
Елисавета Фёдоровна сделала единственный шаг вперёд. Верных тридцать секунд они глядели друг на друга, и глядели с таким напряжением, что, кажется, я почувствовал струйку пота, побежавшую у меня по спине. Полная тишина позволяла расслышать даже их дыхание.
Аликс отвела глаза первой.
«Я не могу, – шепнула она. – Я не хочу этого повторять».
Пройдя к оставленной на лекторском столе сумочке, она вынула из той бумажный носовой платок и промокнýла им испарину со лба.
«Ура, Лизка победила Алиску!» – крикнула Лина. Да, вообще-то это так и выглядело. Или нет: не могу ручаться.
Тэд запоздало хлопнул своим инструментом и с досадой сообщил:
«Провал! Дамы и господа, мы сели в лужу!»
«Я не думаю, что это провал, – возразил я. – В известной мере это всё было красноречивей слов».
«Верно!» – прибавил Борис. Иван тоже промычал что-то, означающее согласие: он наблюдал за сценой очень внимательно, скрестив руки, стоя от всех несколько в стороне.
«Ну да: отрицательный результат тоже результат, – с деловым видом кивнул Альфред. – Но вопрос о психическом здоровье императрицы и о её диагнозе остаётся открытым, имейте в виду!»
«Я готова попробовать ещё раз, – проговорила Лиза тихо и без всякой улыбки. – Но стóит ли, если это так тяжело?»
«Нет, не стоит! – хрипловато произнёс Алёша и, подойдя к Насте, повторил ей полушёпотом: – Ваше величество, не стоит, не нужно. Вы и без того много страдали! Поберегите себя».
Эта его совершенно серьёзная просьба выглядела почти комично, и Настя действительно невольно улыбнулась в ответ, и всё же быстро смахнула слезинку из угла глаза носовым платком, который до сих пор держала в руке.
«“Красноречивей слов” – это любезное утешение со стороны Андрей-Михалыча, – заговорила староста, тоже слегка раздосадованная. – А правда в том, что задача нашего коллектива – вырабатывать текст. Из красивой картинки текста не сделать. А всё происходит потому, что некоторые нерегулярные участники группы…»
«Хорошо, Ада, хорошо, – торопливо вмешался я, боясь готового слететь с её языка упрёка в избыточной эмоциональности, отвечая на который, Настя наверняка бы тоже не полезла за словом в карман. – Давайте вообразим себе альтернативную историю! Александра Фёдоровна, как известно, в тот день сообщила своей сестре, что Государь ту принять не может. Ну, а если бы невралгия, жар, мигрень, любая другая болезнь уложили её в постель, и тот смог бы принять “тётю Эллу”? Чем бы это могло закончиться?»
– Тётю? – потерялся автор. – Вы ведь раньше говорили, что великая княгиня была ему свояченицей. Простите, но я снова заблудился в трёх соснах…
– Верно, – кивнул Андрей Михайлович, – по одной линии свойства она действительно ему была свояченицей, старшей сестрой жены. А по другой линии – вдовой его дяди, великого князя Сергея Александровича, брата Александра III. «Тётя» в их общении являлось, скорее, шуточным словом. В письмах к Государю Елисавета Фёдоровна называет себя то «тётей Эллой», то «сестрой Эллой», с английского sister-in-law33, а иногда просто подписывается одним именем.
– Мне никогда не удержать в памяти всего этого… Неудивительно, что их многочисленные близкородственные браки приводили к больному потомству, вам не кажется?
– Кажется, – снова согласился мой собеседник. – Но кто мы, чтобы судить? В любом случае, за все свои ошибки они уже сполна заплатили.
«Браво! – воскликнул Тэд. – Ах, как жаль, ваше величество, что вы не в мундире! Пиджак портит всё впечатле… ваша самоотверженность, однако, не знает границ», – прибавил он сразу, видя, что я снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула.
Девушки весело переговаривались, Борис сосредоточенно кивал, Альфред пожимал плечами, но большинство группы, судя по общим улыбкам, приветствовало идею. Тэд вежливо сопроводил меня к окну, поясняя: он хочет, чтобы между собеседниками в начале сцены было значительное расстояние.
«Хорошо, – согласился я. – Только, если можно, снабдите меня кто-нибудь простейшим реквизитом. Зажигалка, свернутая бумажка. Придётся обойтись без своего знаменитого янтарного мундштука, увы, увы…»
«Мундштука и правда нет, но зачем бумажку, вашбродь? Есть настоящие сигареты», – радушно предложил Марк, пока Тэд сворачивал и вот уже протягивал мне несколько искусственных «папирос». К полковнику, строго говоря, следовало бы обращаться «ваше высокоблагородие», а не просто «вашбродь», но такими деталями можно было пренебречь.
«Нет-нет, – отклонил я предложение. – Как-то дурно по-настоящему курить в библиотеке, и запах останется… Разрешите мне ещё секунд тридцать постоять у окна, настроиться. Никто ведь не против?»
[13]
СТЕНОГРАММА
сценического эксперимента № 4
«Беседа Е. И. В. Николая II и вел. кн. Елисаветы Фёдоровны»
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Е. И. В. Николай II (исп. А. М. Могилёв)
Вел. кн. Елисавета Фёдоровна (исп. Елизавета Арефьева)
НИКОЛАЙ (оборачиваясь). Ella! For God’s sake… I am so glad to see you.34 (Быстро проходит к ней; взяв её руку в обе свои и склоняясь, будто хочет приветствовать её церковным целованием руки, каким иногда встречают игумений, но удерживает себя от этого, а вместо этого ведёт её к небольшому дивану и сажает.)
ЕЛИСАВЕТА (слабо улыбается). Wenn du nur wüßtest, wie schwer mir fiel, hierher zu kommen.35
НИКОЛАЙ. Тётя Элла, могу ли я попросить тебя говорить по-русски? Ни одного немецкого слова не приходит на ум…
ЕЛИСАВЕТА (с лёгким акцентом). А мне в голову не входит вообще никаких слов. Если бы не обещание, которое я уже дала… Ники, прости меня за то, что касаюсь больного места. Видит Бог, мне это тяжело. Я пришла просить тебя – ты догадываешься, о чём? Я пришла просить тебя удалить от себя этого ужасного человека. Ты знаешь, о ком я говорю.
Молчание.
НИКОЛАЙ. Я закурю, ты не возражаешь? (Отходит к окну. Несколько раз пытается поджечь армейской зажигалкой папиросу, потерпев неудачу, досадливо откладывает зажигалку в сторону.)
ЕЛИСАВЕТА (энергично). Ники, ты не можешь вечно прятаться за своё вежливое молчание! Этот человек – враг Церкви и твоей земли. Он – сладострастник, колдун и наверное, настоящий бес. Человек, которым играют бесы: бесовская марионетка. Всё, что ты делаешь, он мажет дёгтем своего греха. Он гадок! Я удивляюсь тому, как ты, такой чуткий к этим вещам, не видишь, что он просто гадок!
НИКОЛАЙ (вполоборота к ней). В нём, безусловно, есть несимпатичные черты, но кто из нас без греха? Ты преувеличиваешь. Это простой русский мужик, который набедокурит, а потом кается. В конце концов, он – часть народа, а у меня нет другого народа. «Он гадок», – говоришь ты, но я не могу позволить себе брезговать своим народом, это… тоже некрасиво. Знаешь, он искренен! Он мне сам показывал фотографию своего кутежа. Не думаю, что человек, который…
ЕЛИСАВЕТА (перебивает). Ничего не хочу знать о его фотографиях, но эти фотографии видишь не только ты с твоим великодушием. Их видят твои подданные. Если бы ты знал, что говорят о тебе, о нём и об Аликс! Мне стыдно произносить то, что говорят, и мне больно думать, что у людей могут быть такие мысли.
НИКОЛАЙ (пожимая плечами). Всё в руках Божьих. Про кого из нас не клеветали? Что я могу с этим поделать? Ты же знаешь, Элла, что даже тебя – даже тебя! – называют «гессенской ведьмой». И это после всего доброго, что ты совершила для них! Так они отблагодарили тебя после убийства дяди Сергея!
Молчание. Великая княгиня сидит молча, невидяще глядя прямо перед собой.
НИКОЛАЙ. Тётя Элла, я тебя огорчил, прости.
ЕЛИСАВЕТА. Я в отчаянии, Ники. Мне кажется, что мы летим в пропасть, а этот чёрт сидит на облучке и, как говорят, тянет свои лапы к поводьям. Мы все ранены, а он – как грязь в ране. Он опасен, его нужно удалить, я так чувствую. Почему ты не можешь в этот раз просто мне поверить?
НИКОЛАЙ. Элла, моё положение таково, что я не могу просто верить. Аликс внушает мне одно, ты – другое, Григорий – третье, и Николаша – четвёртое. Каждый из вас может быть добрым и честным человеком, хоть его и называют разными именами. Неужели ты думаешь, что я не вижу вреда от его… неразборчивых связей? Григорий забывается, и ты не первая, кто об этом говорит. Мне самому пришлось ему однажды об этом сказать. Но ты отвечаешь перед Богом за свою обитель, Григорий – за свою семью в Тобольской губернии, и только я – за всю эту землю. Я могу ошибаться и, видимо, ошибаюсь, помилуй меня Боже, но я не могу никому довериться полностью. Даже если я дам себя уговорить, тяжесть ответственности будет не на вас, а на мне.
ЕЛИСАВЕТА. Ваше величество, простите! (Встаёт и делает книксен.) Я не должна была приезжать.
НИКОЛАЙ (со слабой улыбкой, но подрагивающим голосом). Ты помнишь, Элла, как ты делала книксен перед образами в храмах, ещё до того, как приняла православие? А я, представь, до сих пор помню. Ты не останешься на обед? Я попрошу подать постное.
Елисавета Фёдоровна отрицательно поводит головой и, не отвечая, идёт к выходу.
Перед тем, как выйти, она, полуобернувшись, крестит Государя, сотворяя в воздухе широкое крестное знамение.
Николай, подойдя к окну, снова пробует зажечь папиросу. Его руки чуть дрожат, но в этот раз он справляется с зажигалкой. Закурив, он смотрит в окно.
[14]
– Я должен сказать, – заметил автор, – что считаю эту сцену одной из самых выразительных в вашем сборнике.
Могилёв коротко хмыкнул.
– Не уверен, что так, – не согласился он. – Но благодарю вас! Мне она тоже дорога: как мой первый актёрский опыт. В хлопушке Тэда, доложу вам, имелось что-то магическое! Не в буквальном смысле слова, конечно: надо быть совсем язычником, чтобы зависеть от магии вещей, а я хоть и запрещён в служении, ещё не анафематствован же. Не в дословном смысле, но, когда он щёлкнул ей, я перестал воспринимать происходящее как игру. Передо мной была не моя студентка, которой я преподавал отечественную историю, а – близкий человек, старшая меня четырьмя годами сестра жены, уважение, симпатия и даже нежность к которой смешивались от мучительной неловкости за малоуместность её просьбы. Да и сам я… Разумеется, я помнил краем ума свои настоящие имя и отчество, свою профессию и то, что на дворе – двадцать первый век, но это знание как бы ушло вдаль, обесцветилось, держалось на мне так же легко, как на дереве – осенние листья: тряхни дерево, и они облетят. Не хочу показаться высокопарным, но в этом «актёрстве» – крайне неудачный термин – присутствовало не столько актёрство, сколько нечто таинственное, мистериальное, и не могу объяснить вам происхождение этой тайны. Вот, например, до самого начала диалога я полагал важным объяснить собеседнице, что Григорий помогает Бэби – семейно-обиходное имя наследника. Но внутри этой сцены я понял, что я несвободен в своих словах, что сказать этого нельзя, что Элле, которая любую магию и магическое врачевание отвергает как «святая сестра», да и не без основания она делает так, говорить это – совершенно неуместно. Но я-то не могу позволить себе ограничиваться соображениями честны́х сестёр, потому что я не патриарх, а хозяин Русской Земли! Почему они не дали мне стать патриархом? Всё это, думаю, звучит странно, и все эти мысли прекратились после окончания сцены.
После второй хлопушки группа некоторое время молчала. «Браво!» – крикнул Герш, но в этом одиноком «Браво!» его никто не поддержал.
«Да-а, – протянул Марк. – Хорошо, что этого никто не видит».
«Почему это?» – повернулась к нему Настя, даже несколько резко.
«Потому, – пояснил Кошт, – что это – жирный козырь в руки монархистов и прочих разных… вздыхателей по барской плётке».
Я обратил внимание на то, что мы перешли к обсуждению, и предложил поэтому поставить стулья кругом для более правильной процедуры. Некоторое время мы занимались расстановкой мебели.
«Вы ведь ему подыгрывали, Андрей Михалыч, разве нет? – продолжил Кошт, едва мы расселись. – Признайтесь честно?»
«Нет, это неправда», – тихо и убеждённо проговорила Марта, прежде чем я сам успел ему возразить.
«Знаете, – начал Иван, ни к кому не обращаясь, – этого диалога в реальности не было, то есть почти наверняка не было. Но мы все воспринимаем его так, как если бы он был – в отличие от той сцены, где Алиса Гессенская отказала Наследнику. Ту мы обсуждали добродушно, а здесь, как я погляжу, задеты за живое. Хочу сказать, что есть, видимо, разные степени вероятности…»
«Обратите внимание на то, что Государь сказал о Распутине! – горячо заговорил Герш. – Это… это гениально – или, в любом случае, очень точно. Распутин – гадок, похотлив, неразборчив, но все его уродства – часть народной жизни, а монарх, в отличие от монаха, не может позволить себе быть избирательным по отношению к своему народу. Я скажу больше! Скажу то, что уже говорил в двадцать девятом году и не поленюсь повторить. Распутин – тёмный невежественный колдун, но склонность к невежественному обрядоверию – часть нашей, русской религиозности. Церковь не отлучила его от себя и не избавилась от этой тёмной части. В его явлении повинны мы все! Это именно наша, Русская православная церковь, перед семнадцатым годом выродилась настолько, что не сумела дать никакой более достойной фигуры! “Кровь его на нас и на детях наших”36, хотя в данном случае не “кровь на нас”, а “явление через нас”. Чтó, скажете, я неправ?»
«Борис так энергично обличает “нашу”, “русскую” Церковь, – пробормотал Алёша, как-то вжавшись в спинку своего стула, – что так и хочется спросить, говорит ли он от себя лично или от своего персонажа. Если от имени Шульгина – всё в порядке. А если от себя, то… простите за юдофобское замечание». Эта фраза вызвала сдержанные смешки.
«Голая софистика, которую Борису, э-э-э, господину Шульгину как умному человеку даже стыдно заниматься, – вступил Штейнбреннер. – Что значит “не был отлучён”? Церковь, которая зависит от светских властей и руководится Синодом, то есть является просто “духовным ведомством”, не может быть свободной в своём каноническом праве. Упрекать Церковь до семнадцатого года в том, что она, с её связанными руками, не анафематствовала Распутина – это как упрекать меня лично в том, что мой диплом об окончании Theodor-Heuss-Kolleg не признаётся Рособрнадзором и я не могу на его основании вести в России профессиональную деятельность. Смешно! Наоборот, в этой сцене я вижу ещё одно подтверждение бескультурного вмешательства царской власти в духовную область, и спасибо Андрею Михайловичу за то, что он так выпукло это представил».
«Я не понимаю, – глухо буркнула Лина, – чтó, нельзя было старшую дочь сделать царицей? Ваше величество, чего вы уцепились за больного мальчишку?»
«Нельзя отнимать царство у того, кому оно уже обещано, – тихо ответил я. – Это просто неделикатно. Бэби и так мог умереть в любой день: поскользнуться на ровном месте и истечь кровью. Тогда, действительно, можно было бы менять закон о престолонаследии. Я думал, что ещё успею это сделать. Но не во время войны же…»
«Вот из-за вашей деликатности и просрали Расею», – продолжала ворчать Лина, не замечая улыбок в свой адрес.
«Вы все не понимаете главного, – подхватила нить дискуссии Марта. – А главное в том, что два хороших и близких друг другу человека не могли понять друг друга. Ведь матушка была полностью права! И Государь тоже, по-своему. Мы все летели в пропасть с чёртом на облучке без всякой надежды. Какой это всё ужас…» Сказав это, она поднесла ко рту указательный палец и прикусила его зубами, невидяще глядя перед собой.
«Марта, может быть, не стоит так близко к сердцу принимать фикцию, точней, экспериментальную модель, и по ней делать окончательные выводы?» – сочувственно обратился к ней Иван. Его сочувствие, конечно, выглядело как критика, но Иван был весь такой, прохладно-отрешённый – то есть до известной точки, перейдя которую, он становился другим человеком. И в этот момент у меня завибрировал телефон.
[15]
– Я забыл в начале дня его отключить, – пояснил рассказчик. – Извинившись, я сбросил звонок. Но этот противный аппарат зажужжал снова! Я глянул на экран – и, кашлянув, обратился к группе:
«Дорогие юные и не очень юные коллеги, этот звонок – от Владимира Викторовича. Я вынужден его принять, извините! Выйду в коридор, чтобы не мешать вам».
В коридоре я взял трубку.
«Андрей Михалыч, наконец-то! – почти оглушил меня энергичный голос Бугорина, так что я, поморщившись, убрал аппарат от уха и заодно включил уж «громкую связь». – Куда вы пропали? Где вас черти носят?»
Дверь аудитории открылась: Ада и Настя вышли вслед за мной в коридор. Стояли и глядели на меня с беспокойством.
«Я в научной библиотеке, Владимир Викторович, – ответил я со сдержанной неприязнью. – Участвую в работе творческой группы, что не очень легко делать, отвлекаясь на звонки. Как духовное лицо, хоть и бывшее, должен сказать, что против упоминания чертей всуе. Если мы их так часто кличем, они ведь и в самом деле явятся».
«А ты мне вечно будешь тыкать в нос тем, что ты бывшее духовное лицо? – распалялся на другом конце провода завкафедрой. – Ты мне лучше скажи, почему завязываешь отношения через мою голову?»
«Какие отношения?» – не понял я.
«Почему, дубовый твой колган, я узнаю про приказ о создании лаборатории от Яблонского, а не от тебя?»
Да, конечно, подумал я. Когда непосредственный начальник педагога называет его голову дубовым колганом, а студенты и аспиранты слышат этот эпитет, он, безусловно, имеет высокое воспитательное значение.
«Настя, Ада, – шепнул я, – возвращайтесь в класс, хотя бы кто-нибудь одна, приглядите за работой группы».
Моя аспирантка послушалась, но староста осталась. Она и не думала никуда уходить, а я не мог же её прогонять жестами словно кошку или курицу, правда?
«С кем ты там шепчешься? – с подозрением спросил Бугорин.
«Прошу своих студенток вернуться в класс».
«Они, значит, распустились у тебя совсем? Ну, каков поп, таков и приход».
«Владим-Викторыч, а почему вы от меня должны узнавать о приказах декана? – спросил я с не меньшим, чем у него, раздражением. – Он вам начальник, а я подчинённый».
«Не пудри мне мозги! Не дурнее тебя! Высоко взлетел, да? Так можем и приземлить!»
Фу, мысленно сказал я себе. Этот человек посылает мою аспирантку за мной шпионить – и меня же ещё пытается выставить виноватым! Вслух я произнёс другое:
«Товарищ Бугорин, а что вы, собственно, на меня орёте? Вы не захотели меня юридически прикрыть, а декан захотел. В чём вы видите проблему? Вам не нравится, что я занимаюсь лабораторией и на своём горбу выслуживаю вам повышение? Давайте вернём status quo! Я распускаю группу, студенты возвращаются к занятиям, получат “энки” в журнал за три пропущенных дня. Я перечисляю в оргкомитет конкурса полученный аванс. Кафедра пролетает мимо президентского гранта. На месте декана с высокой вероятностью остаётся Яблонский. А если Яблонского “уходят” по возрасту, то Балакирев. У вас, чтó, есть запасные комбинации, чтобы на меня так вот орать? Поделитесь ими, будьте добры! Меня от двери класса отделяет пять шагов. Сейчас я пройду эти пять шагов и скажу студентам, что заведующий кафедрой своим распоряжением отменяет приказ декана факультета – здóрово, да? – и прекращает работу лаборатории. Мне сделать так?»
– Вы смелый человек! – заметил на этом месте автор. – Не могу представить себе, чтобы я так разговаривал со своим начальством.
– Видите ли, – охотно пояснил мой собеседник, – и я тоже со своим начальством раньше так не разговаривал! Предпочитал обходиться без открытого противостояния. Но тут было две причины. Меня, во-первых, слишком грубо спустили на землю…
– Да, конечно, – улыбнулся я. – Вы только что были самодержцем всея Руси, а оказались рядовым педагогом.
– Нет, не так! – возразил Могилёв. – Я только что парил в разреженном воздухе мыслей об исторических судьбах России – и грубо, вещественно шмякнулся на прозу злобного быта. Но, главное, рядом стояла староста группы, той группы, с которой мы делали общее дело, и она всё слышала. Это общее дело следовало защищать, а для защиты нужно было стать ершом: маленькой, знаете, но колючей рыбкой, которую не всякая щука проглотит. Впрочем, может быть, я задним числом приписываю себе возвышенные мотивы, которых тогда не имел, кто знает? Когда говорят, что чужая душа – потёмки, обычно забывают, что своя-то – ночь непроглядная…
– И что вам ответил начальник?
– Ничего, представьте себе! Замолчал, и молчал секунд пять.
«Я вас не слышу, Владим-Викторыч!» – почти крикнул я, ещё в горячке этой борьбы.
«Я вас тоже еле слышу! – отозвался он почти таким же криком. – Связь плохая! Залез, небось, в подвал… Ладно, ко мне пришли, не могу разговаривать. После! Всё!»
Он дал отбой.
«Андрей Михайлович! – громко прошептала Ада. – Мне нужно с вами поговорить!»
[16]
– Почему «прошептала»? – не понял автор этого текста.
– Я ей задал тот же самый вопрос: почему шёпотом? – откликнулся историк.
«Так надо! – пояснила староста тем же шёпотом. – Идёмте!»
«Куда?» – не понял я.
«Куда угодно, хоть на улицу. На улицу лучше всего».
«А… группу разве не нужно предупредить о нашем отсутствии?» – растерялся я.
«Ни в коем случае!»
Ну, что мне оставалось делать перед лицом такой настойчивости! Я подчинился. Мы действительно спустились в вестибюль, взяли в гардеробе верхнюю одежду и вышли на улицу.
«За угол зайдём, и нас никто не увидит, – предложила девушка. – Здесь курилка: идеально. Итак, Андрей Михалыч! Я только что оказалась свидетелем – свидетельницей разговора, после которого мне многое стало ясно. Многое, но не всё. А мне нужно понять всё».
«Что – всё?»
«Все эти… аппаратные игры, все детали».
«Я, наверное, не имею права с вами этим делиться, Ада, – нахмурился я. – Это не совсем студенческое дело».
«Ах, Господи, Андрей Михалыч! – с досадой крикнула староста. – Хватит уже видеть во мне студентку! Хватит играть в кодекс чести британского флота и невынос сора из избы! Я обязана знать, понимаете? Я тоже должностное лицо, хотя и маленькое, меня это тоже касается, но не поэтому, а потому, что я вам помочь хочу! Вы же… вы ведь наивны как младенец, вас кто угодно обведёт вокруг пальца! Неужели вы сами не видите?!»
Вот уже вторая женщина за день порывалась активно мне помочь, эх… Я вздохнул и, взяв с неё предварительное обещание не делиться этим с другими, принялся рассказывать всю суть интриги, как сам её понимал, конечно. Передал, в частности, весь наш разговор с деканом и то, что завкафедрой отправил Настю шпионить за лабораторией.
«Всё ясно, – подытожила девушка, когда я закончил. – Бугорин – матёрый аппаратный волк, он вас съест и не подавится».
«Зачем же ему меня есть? Я невкусный», – попробовал я отшутиться, но Ада отвергла юмор.
«Мало ли причин! – пояснила она. – Вот вы слишком смелый для него стали, сегодня, и он этим оскорбился. В нём есть что-то, знаете, бабье, – последнее слово было произнесено с нескрываемым презрением. В этой гордой, худой, достаточно высокой девушке с ершом коротких тёмных волос, с резкими чертами лица не только не было ничего «бабьего», но даже и женственного. Говорю вам в качестве заметки на полях. Разглядеть в моём начальнике нечто женское могла только она, конечно. – Бабье – продолжала Ада, – поэтому будет сидеть со своей обидой, как баба, и высидит, что или он, или вы, что надо вас “уйти”. И пока он вас не “уйдёт”, не успокоится».
«“Всё в руках Божьих”, как говорит мой персонаж», – философски заметил я. Девушке, однако, эта мысль пришлась не по вкусу.
«Вот отлично! – прокомментировала она. – А о нас вы подумали?»
«Вы все уже получите диплом через два месяца».
«Или не получим, если так пойдёт дело, – возразила Ада. – Слушайте, Андрей Михалыч, нельзя же быть таким… безгранично благодушным! Против вас уже начали борьбу, у него уже несколько очков форы! А вы, между прочим, наш царь! Я хоть по личным убеждениям, а также в качестве вождя Февральской революции и против аристократии, но по-человечески мне обидно. Смотрите: он уже заслал шпиона! Разве это красиво?»
«Ну, Настя же сама мне открылась, поэтому будет плохой шпионкой… Да, ты права, это не очень красиво, – пришлось мне согласиться. – Но что я мо…»
«Вот именно потому, что она будет плохой шпионкой, а Бугорин – совсем не дурак, он направит ещё одного, – настойчиво гнула свою линию староста. – Вы что, не читали “Мою службу в жандармском корпусе” Мартынова? Я по вашей рекомендации прочла, от корки до корки. Азбука ведь сыскной работы: внедрять не меньше двух агентов, которые не знают друг о друге! Не удивлюсь, если у него такой второй агент уже есть».
«Ах, пóлно, Ада, – отмахнулся я. – Что за мысли…»
«Что полно, что полно, Андрей-Михалыч, ах, извините, ваше
величество! Вам и тогда сестра жены, неглупая женщина, говорила, что нужно отправить этого “святого чёрта” к дьяволу на рога, а вы и тогда всё благодушествовали! Как хотите, а я собираюсь бороться! Мне, как вы помните, вас в семнадцатом году пришлось арестовать, но, в общем, мы с вами и тогда не поссорились, а о том, что в Екатеринбурге с вами обошлись некрасиво, конечно, соболезную, но я, извините, уже был бессилен, – разумеется, девушка выговаривала всё это с иронической улыбкой, которая, видимо, должна была смягчать её решительность. – Я вам говорю, что нужно сделать два шага. Первый: нам требуется эксперимент».
