Звуки цвета. Жизни Василия Кандинского
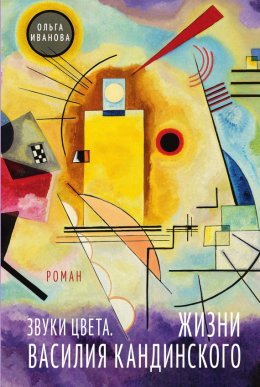
Мы любим бумажные книги
© О. П. Иванова, текст, 2024
© АО «Издательский Дом Мещерякова», 2024
Часть I
Русский художник
Легенда о сыне Сойки
Начало
Мальчик осторожно постучал в дверь кабинета:
– Папа! К тебе можно?
– Входи, Вася! Ну, как дела в гимназии?
– Папа, у меня задание по географии очень сложное… Можно взять «Энциклопедию географических открытий»?
– Конечно, возьми. А что за задание?
– Мне нужно узнать, как изменилась наша планета за тысячи лет. Нужно взять один из фактов и подробно описать его…
Отец достал из книжного шкафа тяжелый фолиант с золотым орнаментом на переплете, полистал, положил перед сыном на стол.
– Я уже рассказывал тебе о своей родине. Когда-то там жили древние тунгусы. И среди них моя прабабка, шаманка.
– А что такое шаманка?
– Колдунья по-вашему.
– Добрая?
– Добрая, людей лечила, от бед спасала. На тысячи лет назад и вперед видела. Рассказывала, как предки ушли искать далекую землю…
Он открыл страницу с географической картой северо-восточного побережья.
– Вот, смотри: это Берингов пролив. А тысячи лет назад здесь была узкая полоска земли – Берингов перешеек. По этому перешейку перебрались предки сибирских тунгусов в Северную Америку. Их потомки – индейцы – и сейчас живут там. Только перешейка уже нет, не возвратиться им назад… Растаявший ледник сделал пролив глубоким.
Мальчик смотрел удивленно:
– Так они, выходит, наши родственники? Американские индейцы?
Отец улыбнулся:
– Выходит так. Только уж очень дальние…
* * *
Когда Нахавайя был молод, Племя кочевало, и ему принадлежала вся большая земля. Люди не знали железа. Ножи их были из крепкого камня, иглы из острых костей, наконечники копий – из рога оленя. Они никогда не слышали грома ружейных выстрелов и не видели белых лиц пришельцев из дальних краев.
Однажды ураган вздыбил море, и оно бушевало много дней. А когда ветер стих, рыбаки нашли на берегу чужую лодку, а в ней изможденного человека. Он умирал. Лицо его было бледным и совсем не похожим на лица людей Племени. Одежда тоже была невиданной.
Нахавайя собрал целебные травы и стал лечить пришельца.
Ему дали имя Хораолу, что означает «чужой, приплывший в лодке».
Долго он был неподвижен и безразличен ко всему, но понемногу начал оживать.
Наконец он смог подняться и заговорить. Речь его не понимал никто. Но Хораолу скоро сам научился понимать людей Племени и говорить с ними. И однажды он рассказал о своей земле, далекой и прекрасной. Там всегда светит солнце. Там земля красна от сладких ягод. Там зверь ходит рядом с человеческим жильем, птица сама идет в силки, а рыба так и вьется вокруг рыбачьих долбленок. Там живет его народ, добрый и сильный. Там много красивых молодых женщин, которые будут рады встрече с мужчинами Племени.
Долго думал Нахавайя, совершая обряды и камлания, советуясь с предками и тотемами.
И вот он собрал большое кочевье из тех, кто пожелал идти в далекие земли.
Взял самых сильных, удачливых и выносливых охотников, самых быстрых, смелых и ловких юношей. Волки сопровождали их на охоте, помогая взять добычу. Олени понимали каждое их слово и любой их жест, послушно подставляли спины под поклажу и неутомимо шли за хозяевами.
Нахавайя пообещал оставшимся: «Когда найдем землю Хораолу, я пошлю за вами людей».
Не один год добирались охотники до той благодатной земли. Когда на их пути расстилались широкие реки и проливы, они выдалбливали лодки. Когда преградой был непроходимый снежный лес, готовили широкие охотничьи лыжи. Когда вставали впереди неприступные горы, привязывали к рукам и ногам цепкие крючья из оленьих рогов, взбирались на вершины и спускались вниз.
И нашли они далекую и прекрасную землю. И Хораолу встретился со своей семьей.
Охотники Племени выстроили себе уютные жилища и выбрали жен. И самая красивая девушка стала женой Нахавайя.
Жили охотники безбедно и счастливо. Так счастливо, что когда Нахавайя решил отправить их за покинутым Племенем, идти не захотел никто. И Нахавайя пошел один. Да так и не дошел. Никто не знает, что случилось с ним в пути. Только самые сильные шаманы Племени видели его Ханян-Оми, душу-тень, пробирающуюся в родовое поселение умерших Омирук…
Много дней, много лет и веков прошло…
Но его Ханян-Оми являлся шаманам и всегда предсказывал будущее и предупреждал о бедах и несчастьях.
* * *
Мороз средь белых деревьев надежно спрятал в узорный иней оленьи шкуры, покрывающие чум. Только сизый дымок над навершием выдавал человеческое жилье.
В чуме, теплом от очага, царил темно-оранжевый полумрак. Сквозь щель завешенного волчьей шкурой входа пробивалась ярко-белая острая полоска света.
Любимая дочь князя Гантимура, самая сильная и мудрая шаманка Ульху щурилась на огонь, мерно покачиваясь на медвежьей шкуре. Она всегда так настраивала себя перед камланием, чтобы увидеть далеко вперед и еще дальше назад, где в неуловимо легком колеблющемся свете живут древние духи предков…
Она так долго не выходила из жилища, что даже шумно игравшие в охоту на медведя внуки утомились, а шестилетний Хрисанф, потеряв в сугробе меховую варегу, заныл, показывая старшим покрасневшие пальчики.
Он хотел войти в чум и погреться, но этого делать было нельзя. Ведь там бабушка Ульху ожидает духов, с которыми будет говорить чужим голосом…
Мал был Хрисанф, да шибко удал. Изловчившись, прыгнул под ноги пробегавшей мимо сестре Марфушке, сбил ее и, когда она растянулась на снегу, сорвал рукавичку с ее руки, сунул в нее замерзшую ладошку и отбежал в сторону, кривляясь и дразня плачущую девочку. Старшие, Прокопий с Данилой, кинулись было за мальцом:
– Эй, ты! Анчутка косоглазая! Отдай рукавичку!
Да куда там! Захохотал, умчался, быстро припечатывая снег мягкими торбазами. Смуглый, скуластый, узкоглазый – князя Гантимура кровь, порода гордая да твердая. А характером бесстыжим, варначьим – в отца, ссыльного Петра Кандинского. Переплелись, перемешались в Петровых детях бурные жаркие струи лихих кровей. В хитрых глазах младшего уже читалась судьба каторжная. Но это только старая шаманка видела. Знала и то, что разбойным промыслом внук богат и знатен будет и что богатство его рухнет враз. Она на много-много лет вперед умела разглядеть будущее, не на года – на века. И доброе, и худое, и мудрое, и страшное…
Она вышла камлать. Бубен подняла, ударила – зазвенело, загудело, завыло. Народ стал вокруг: тунгусы и с ними русские, разбойничье племя, воры да душегубцы, да те, что у царя урвать хотели, свою правду в народе насадить. Однако местные давно считали их своими – сами привыкли и чужаков приучили принимать таежный народ.
Русские не раз уже видели камлание и все равно пугались. Только один смеялся над шаманами и над верующими в их силу оленьими людьми. Тот самый Петр, с дальней реки Конды родом. Там все такие были – большие, сильные и грозные, как медведи, ничего не боящиеся: ни шамана, ни зверя, ни ссылки, ни каторги, ни морозов-метелей, ни иного лиха.
Самого Господа Бога Петр не боялся: разбойничал, церкви грабил, вот и попал в Нерчинский острог. А ему нипочем! Оттого сила шаманская и не брала его, оттого и не смогла воспрепятствовать Ульху, когда он забрал из племени ее дочь, самую красивую тунгусскую девку, которую русский поп нарек именем Варвара. Только так ее никто не звал, звали Кукóлло – Варежка. Потому, что родилась она крохотной, с варежку, не чаяли, что выживет.
Как такое случилось? А напала тогда на стойбище болезнь лютая, от которой хрип голос и давило горло. Ее ссыльные принесли. Сами они тоже, бывало, хворали, но поправлялись и были крепче прежнего. А тунгусы умирали.
Стали чаще появляться по тайге верхние могилы – арангасы. Сколько ни уговаривал русский поп хоронить умерших по христианскому обычаю – в земле, окрестившиеся тунгусы все равно поднимали долбленые гробы высоко на лабазы между деревьями. Да и как копать могилы в снежные зимы, в лютые морозы? Русские для этого жгли костры, разогревали землю, а охотники ругались: зверь много дыма не любит, далеко уходит.
Когда умерли подряд несколько сородичей, пришли к Ульху люди: помоги! Зови духов, надо болезнь из стойбищ выгонять!
Надела шаманка на голову корону с оленьими рогами, взяла в руки бубен, взмахнула колотушкой… Долго камлала, кружилась, тряслась, на землю падала, с духами на их языке говорила, а в животе дитя ворочалось… После того камлания ни один тунгус больше не заболел, только самой шаманке нездоровилось. Вот и родила она до срока, едва растопило снег нежаркое весеннее солнышко.
Знала Ульху: если не поднимет девочку в первый день ее земной жизни, не даст ей новую силу, появится еще одна высокая могила меж берез…
Муж принес колоду и наточил топор, чтобы выдолбить гробик для дочки.
– Убери! – закричала Ульху, глазами со злостью сверкнула, ногой топнула, хотя раньше лишний раз не смела на охотника Деханая глаз поднять…
Но недаром она была самой сильной шаманкой в Гантимуровом роду. Ночью родила, а на рассвете унесла полуживую дочку в верховье ручья, окунула в студеную воду. А та даже не плачет… Висит в руках у матери, как выделанная беличья шкурка, глазки не открывает…
Положила Ульху дитя в мягкий мох. Ходит вокруг, дышит тяжко, стонет, хрипит да вскрикивает сойкиным голосом. Гантимуров тотем был такой: сойка – птица-пересмешница, яркая, шумная да разбойная. И с волчьей добычи свое урвет, и у медведя поживится.
Все выше солнышко, все уже делает Ульху круги вокруг дочери, все ближе к ребенку, все громче, все страшней дикий голос матери…
Лосиха умчалась прочь, услышав. Рысь с испугу взобралась на высокую сосну, затаилась, замерла. Волки настороженно выглядывали из-за кустов поодаль, близко не подходили. Только сойка не боится, рядом летает, с ветки на ветку перепархивает, жалобно кричит, стонет и плачет вместе с матерью. Уронила младенцу на лицо легкое голубое перышко. А оно не дрогнет, не колыхнется на бледном крошечном ротике – не дышит дитя…
Вот уже день к закату, вот ночь подбирается… Ульху не остановилась ни разу, не присела, воды не глотнула, только губы в кровь кусает. Вдруг пала рядом с дитем, корчась, потом будто бы умерла…
Очнулась Ульху от плача младенца. Сойка мечется рядом, кричит, зовет! Встала, отгоняя тяжкую боль, отряхивая слабость… Взяла девочку, прижала к груди, укутала. Ребенок жадно схватил ожившим ротиком сосок.
Это мать-шаманка родила ее заново, здоровой и сильной.
Росла Куколло как цветочек, красивей не было ни в селе, ни в тунгусском стойбище! Ее соболью шапку мать оторочила оранжевыми, черными, белыми и голубыми сойкиными перьями, нагрудник расшила серебряными монетами, торбаза украсила цветным бисером.
Едва стукнуло девочке шестнадцать, приметил ее русский ссыльный великан. Он привел Деханаю десять оленей, а перед чумом бросил пеструю оленью шкуру. Ступила на шкуру Куколло – стала невестой. Надел ей на шею Петр серебряное ожерелье, посадил на белую важенку и увез в свой дом…
Ульху рано стала учить дочь шаманскому искусству, чуяла в ней силу. Она и сама когда-то только помогала матери в камлании, а вот теперь со всех таежных приделов идут к ней люди за помощью. Стадо ее оленей теперь самое большое в ближней и дальней тайге. Деханай и сам ловок и удачлив в охоте, да за помощь, за лечение, за камлание дорогую пушнину, дичь и рыбу несут в его чум люди…
Нынче видела шаманка необыкновенный сон. Вдали, на краю неба, светился и сиял красками начинавшийся восход. Она слышала его – так же, как и звенящие струи ручья, свистящую метель, поющих весной птиц.
Сойка летала по ярко-голубому, роняя алые сполохи, а голос ее был нежно-сиреневым, серебристо-белым, жарко-оранжевым, и пронзительным, и светлым, и легким… Но вот краски начали умирать, сойка застонала, заплакала, как женщина, сложила крылья, падая в темноту… А из темноты выплыл на могучих крыльях орел, перья его светились переливами золота. В когтях он держал измученную мертвую сойку. Головка ее бессильно свесилась, крылышки, испачканные кровью, повисли… Орел сделал два плавных неспешных круга в рассветном небе. Вдруг сойка шевельнулась, открыла глаза, встряхнула грязные перья и выпорхнула из когтей орла. Вокруг опять сияла синева, перемежавшаяся алыми, пурпурными и розовыми мазками. Яркое птичье одеяние было свежим и гладким, оживший голос – высоким, радостным и смелым.
Ульху долго перебирала в голове подробности сна. Она знала, что это послание древних духов, и пыталась понять, о чем оно.
Она вышла из чума. Дочь подала ей две дымящиеся головни: одну из очага, другую из костра. Стала шаманка окуривать свое жилище, обошла чум девять раз. Забормотала, закричала, запела, закружилась. Древних предков, покинувших родную землю, зовет, духов кличет.
Кто пляску шамана видел, не забудет ее никогда.
Лицо у колдуньи завешено густой черной бахромой из мышиных хвостов, шаг сделает – они вздрагивают, шевелятся, приплясывают, как живые. К замшевой парке жилкой пришиты обожженные в костре деревянные и железные фигурки зверей, высушенные ящерки, птичьи перья, медвежьи клыки, рысьи когти, ястребиные лапы, змеиные шкурки.
Сначала топочет, медленно кружась, ударяя в бубен, и вот шаги становятся чаще и быстрее, круг пляски шире. Взмахи рук угрожающе стремительны, удары колотушки часты и звучны. Она, дрожа, падает навзничь, устремляет взгляд в небо. Что там? Он! Вождь предков, ушедший в чужую землю и уведший за собой охотников древнего племени. Его фигура далека и туманна… Но шаманка уже различает на голове Его пернатый убор, на плечах волчью шкуру, ноги в мягких торбазах… Он медленно приближается… Вставай, Ульху! Не упусти Его, шаманка! Промедлишь, и Он растает в вышине… Вставай, бери в руки бубен! Он должен слышать твой голос!
Она вскакивает на ноги и кричит:
– О, Великий Отец, Дух Ханян-Оми Нахавайа! Говори! Говори! Говори!
Под удары гудящего бубна ритмично выкрикивает слова, призывающие Великого отца.
Она кричит на чужом языке. Слов ее не понимает никто. Голос становится низким, утробным. Теперь в нем гремят сорвавшиеся с горы камни, шумят быстрые струи переката, рокочет отдаленный гром. Это голос Великого Духа:
«Дочь моя, мать покинутого народа! Ты видишь сквозь время. Тебе доверю я Знание, как доверит его твой правнук одному из моих сыновей. Храни и помни его при земной жизни и после нее. Храни и помни!
Когда потомки разучатся догонять в тайге зверя и рукой ловить на лету пущенную стрелу, в далекой земле, где люди живут в высоких каменных чумах, где железные звери оставляют за собой железные следы, а их рев слышен за много верст, родится твой правнук. Имя ему Непохожий, Владеющий Языком Многоцветья, Хранящий Память и Преумножающий Знание. Вдохновенны будут верующие в Многоцветье, как в бессмертие. Он пройдет большую дорогу и много испытает на своем пути. А когда сойка его души покинет тело, орел бессмертия поднимет ее из нижнего мира. Мать покинутого народа! Направь сойку туда, куда ушли за мною твои предки! Когда тело Непохожего отпустит сойку, она обернется вокруг земли и найдет сына моего, чье тело, измученное черными духами зла, вражды и смерти, не живет и не умирает, чью душу покинула его сойка. Говори с ним. Он примет сойку Непохожего. И Непохожий будет жить в его теле».
Детство
1871
Одесса зацветала каштанами и сиренью. Нагретый ветер кружил над дорогами ароматы цветов и моря.
Лидия Ивановна и Василий Сильвестрович Кандинские с маленьким сыном приехали сюда надолго.
Впрочем, перебираться с места на место им было не внове, всю Европу за последние годы объездили. Не понравится или захочется чего-то нового – соберутся и уедут. Доходы-то у купца первой гильдии немалые!
В комнатах еще стояли неразобранными чемоданы, саквояжи, узлы и короба, а гостиная уже была убрана цветами, и посреди нее сиял рояль.
Ждали гостей: старшую сестру Лидии Елизавету Чемеркину с дочерью Аней и младшую золовку Анастасию Левицкую с детьми.
Чемеркины зиму проводили в Москве, а по весне приезжали в Одессу, жили до холодов. Елизавета давно не виделась с семьей сестры, соскучилась. Поэтому не хотела подождать, пока закончатся последорожные хлопоты.
А у Кандинских малыш захворал. Устал от тряски, утомился, надышался едкой дорожной пылью. Капризничал и просил маму посидеть с ним. Мама заглядывала в детскую, уговаривала:
– Конечно, дорогой, буду с тобой весь вечер, вот только провожу гостей. И твоя любимая кузина Аня у нас, и Верочка Левицкая с мамой приехала. Ты ведь еще не знаком с Верочкой. Познакомишься в следующий раз, когда поправишься.
– Я не хочу с Верочкой. Я хочу играть с кузиной. Я ее люблю, а Верочку не люблю. Она задавака.
– Милый, зачем ты так говоришь! Нельзя так о девочке! Она ведь дочка папиной сестры! Да ты и не видел ее еще!
– Ну и что, что не видел! Я знаю. Она задавака!
Из гостиной донеслись звуки фортепиано. Мальчик приподнялся на постели и замер. Мать сказала:
– Это Шопен.
– Да, Шопен. Мама, можно я оденусь, пройду в гостиную? Я уже поправился. Голова почти не болит.
– Ты уверен?
– Да! Я хочу к Шопену!
– Хорошо, мой дорогой. Мы будем ждать тебя, – и, обернувшись к няне: – Одень Васеньку, Глаша.
Мальчик вошел тихими шагами и остановился в дверях гостиной. Все повернулись к нему: мама, отец, старший кузен Виктор, дедушка Сильвестр, тетушка Елизавета и незнакомая дама в кремовом платье с открытыми плечами. Рядом с ней, прижавшись бочком, в кружевной пелерине и бантах, сидела незнакомая девочка.
За роялем была Аня. Она встряхивала в такт музыке тщательно уложенными локонами, и они нежно сияли в падающих из окна светлых лучах.
Когда все посмотрели на Васю, она, не прекращая играть, обернулась тоже, улыбнулась и кивнула. Острый носик, бледные щеки, круглые серые глаза, как две серебряные монетки, над ними тонкие полоски бровей. Она казалась ребенку красивой оттого, что всегда смотрела на него с ласковой улыбкой.
Он хотел обнять ее и уткнуться лицом в платье. Он помнил, что ее платье пахнет антоновкой. Но вдруг решил, как большой, поцеловать кузине руку. Взял ее пальцы, и, склонившись, хотел коснуться их губами, а получилось носом. Она погладила его по голове и участливо произнесла:
– Кажется, лобик горячий… Ты не захворал, Васенька?
– Аня, – сказал мальчик, – какой у тебя красивый голос! Как у птички!
За рояль села мама и заиграла любимую мелодию сына. Музыка всегда успокаивала ребенка.
Кузина стала позади Васи и положила руки ему на плечи. К ним подбежала девочка в пелерине.
– Вы хотите танцевать? – спросила она и за руку потянула мальчика к роялю. Танцевать ему совсем не хотелось. Хотелось сесть рядом с Аней и слушать. Но девочка закружилась весело и изящно, и Вася, послушно сделав несколько па, отошел. А она, танцуя, приблизилась к матери, по-французски спросила разрешения поиграть с мальчиком в саду, схватила его за руку, увлекая за собой, будто это она была хозяйкой, а он гостем. Представилась, сбегая по лестнице:
– Меня зовут Верочка. А вы Васенька. – Она щебетала без умолку, а Вася только кивал, или вставлял робкое «Да», или «Нет».
– Вам сколько лет? Пять? Шесть? А мне скоро восемь. Через неделю мое рождение. Вы непременно приезжайте! У нас красивый сад. Мы устроим пикник на берегу пруда. У нас большой пруд. А у вас небольшой. Вы в каком месяце родились?
– Не знаю… – растерянно сказал Вася.
– Вася родился в декабре, – послышался позади птичий голос.
– В декабре? Зимой? У, как скучно! Нужно рождаться весной, когда солнышко!
– А зимой зато снег! – заспорил Вася.
– А весной цветы!
– А зимой елка!
– А весной… А весной…
– А зимой…
Мальчик растерянно замолчал, но Аня сразу пришла на помощь:
– Зимой тройка и сани!
Вася почувствовал себя победителем в таком важном споре. А Верочка вдруг вскрикнула:
– Ой, смотрите, лягушка! Наверное, кусачая! Я ее боюсь! А вы боитесь?
– Совсем не боюсь! – сказал мальчик и погнался за лягушкой. Девочка бежала позади, крича:
– Лови ее! Хватай ее! Держи ее!
И он отважно бросался вперед. А Верочка заливалась смехом, когда лягушке удавалось выскользнуть из его неловких ладошек.
Хитрая лягушка стремилась к пруду. Храбрецу удалось схватить ее за лапку, но вместо ожидаемой похвалы он услышал испуганный визг, сам испугался, сделал шаг назад, поскользнулся на илистом берегу и шлепнулся в воду. Но лягушку не упустил. Аня мгновенно выхватила его из воды, при этом сама едва не потеряла равновесие и гневно обернулась на Верочку.
По дорожке к ним со всех ног бежала няня Глаша.
– Что случилось?! Что вы кричите?! Бросьте эту грязную лягушку, Василий Васильич! Напугали барышню! Не кричите, барышня, лягушка не кусается! Ах, беда! Ножки промочили!
Поздним вечером гости разъехались. Остались только тетушка Елизавета с дочерью.
Ночью у ребенка начался жар.
А ранним утром застучали по дорожке конские копыта: приехал лучший одесский врач, доктор Шеломовский. Васе сквозь больной бред он показался похожим на гордого гуся с высоко поднятой головой на длинной шее, с внимательными желтовато-карими глазами и черными бровями вразлет. Доктор прижимался прохладным ухом к Васиной спине, велел то дышать, то не дышать, то глубоко вдохнуть, то покашлять.
В дверях стояла тихонько плачущая Аня.
– Не плачьте, барышня, – сказал доктор, – поправится ваш братишка.
– Кузен… – прошептала девочка.
– Ну, кузен. Кузенчик. Кузнечик. Будет скакать и прыгать пуще прежнего!
Впрочем, мальчик еще долго был слаб. Он много спал, а когда просыпался, рядом видел не только маму, но и Аню. Девочка старалась сама подать ему питье, присаживалась на край постели, держала за ручку, переворачивала подушку прохладной стороной. Иногда напевала ему песенки птичьим своим голоском. А иногда с ним оставалась няня. Ребенок капризничал и просил рассказать ему сказку. Няня начинала:
– Жила-была Нюрочка-девчурочка…
– Нет! Не такую! Эту я знаю!
– Жили-были старик со старухой…
– Нет! Эту не хочу!
Аня входила быстрыми легкими шагами, присаживалась на край кровати:
– Я расскажу. Вот послушай. Тише, не плачь, послушай. Я расскажу тебе про Лоэнгрина. Однажды король узнал, что дети его друга, доброго герцога, остались сиротами…
Иногда она переходила на немецкий:
- Ich will von keiner Freude wissen
- Muss ich des Grales Anblick missen…
- Es sei mein einz`ges Streben,
- Fortan mein ganzes Leben [1].
Мальчик утирал кулачками слезы и завороженно слушал, пытаясь бороться со сном.
Просыпаясь и не находя кузину у своей постели, первым делом спрашивал, где она. А если она была рядом, просил:
– Расскажи, что было дальше! Аня, пожалуйста, расскажи!
– Расскажу, только обещай хорошо покушать!
– Обещаю! Обещаю!
И мужественно старался справиться с содержимым тарелки.
А после нередко задумывался и просил:
– Расскажи, пожалуйста, еще про Лоэнгрина! – или вдруг начинал расспрашивать: – А почему Лоэнгрин не хотел, чтобы его имя знали?
– Потому, что ему не нужно было поклонение и обожание, ему нужно было, чтобы его просто любили!
– Мне тоже не нужно поклонение и обожание… А просто чтобы любили, – вздыхал мальчик.
Его мама уезжала, покидала Одессу, покидала маленького сына, прощалась с ним и, целуя, говорила, что она его обожает…
– Мама! – с дрожью в голосе, со слезами спрашивал мальчик. – Ты надолго уезжаешь?
– Дорогой мой! Я буду пока здесь неподалеку! Я буду приходить по вечерам, укладывать тебя спать, рассказывать сказки. Мы будем видеться часто!
– Мама! А зачем?! А почему?! Я хочу, чтобы ты была всегда! Здесь, с нами! Я не хочу быть без тебя, и папа не хочет!
Мама опускала глаза.
Их встречи становились все реже…
Если Вася начинал плакать, отец говорил:
– Пойдем-ка, сынок, я тебе корабль нарисую. Хочешь?
Он доставал листы плотной белой бумаги, усаживал мальчика за стол. Ребенок завороженно следил за руками отца, красивыми, изящными. На среднем пальце правой был тяжелый перстень. И эти руки творили волшебство. На листе появлялся силуэт парусного судна с высокими мачтами, с устремленным в неведомое бушпритом, с капитанским мостиком и рубкой, с пенными волнами под килем и чайками в небе за кормой.
Или вдруг на бумаге вырастали из ниоткуда высокие сосны, бежала бурная речка, на берегу появлялись маленькие, как игрушечные, домики с красными крышами, церковь с крестом, сопка и дорога вдоль нее.
– Это что? – спрашивал Вася, и отец отвечал:
– Родина моя. Село Бянкино Нерчинского уезда. Здесь мое детство прошло.
Он усаживал сына на колени и тихонько пускался в воспоминания о далекой забайкальской слободке, где рос до тринадцати лет.
Там по весне под необъятными вековыми стволами кедров и сосен ярко пылают пурпурно-розовые заросли багульника, а высокий берег бурной глубокой Шилки светится нежным розовато-белым цветом дикого сибирского абрикоса. Плоды его не съедобны, но на них настаивают самогон, и он делается целебным – лечит суставы и мышцы старикам, а молодым дает медвежью силу.
Там по широкой Шилке, несущейся между высоких гор, ходят пароходы «Соболь» и «Тарбаган».
Там тайга начинается прямо за огородами.
Там огромные орлы живут на высоких скальных останцах – овечку легко уносят в страшных когтистых лапищах, зазевайся только пастух…
Там могучие изюбри с громадными рогами ревут по осени за околицей, а отойдя на версту от села, можно легко наткнуться на медвежью берлогу у края курумных россыпей.
Там каждый житель – охотник, поздней осенью уходит в тайгу, взяв с собой небольшой припас да пару сибирских лаек, крупных, мощных, не знающих привязи. К Рождеству возвращается домой со связкой баргузинских соболиных шкурок, черных, со снежным проблеском серебряных сединок.
Там старые шаманы, похожие на сказочных леших, живут в одиноких, спрятанных в таежных зарослях, чумах, прячась от человеческого глаза. И только древние старики знают, где найти их, чтобы, если случается беда, пасть перед ними на колени и просить избавить от болезней, от хищных врагов, от других напастей и горестей. И тогда шаман надевает свою парку с нашитыми на нее бронзовыми фигурками зверей, медвежьими клыками, рысьими когтями, бурундучьими черепами, высушенными ящерицами и змеями. Берет свой бубен с колотушкой, временем отполированной – еще прапрабабка шаманила, этой колотушкой в бубен била, – и идет к людям камлать, гнать подальше беды и напасти. Кричит, зовет, воет, пляшет страшную пляску свою. И пугаются духи несчастья, улетают с дымом костра, уходят искать селения, не защищенные шаманским камланием.
Мальчик, замирая, с расширенными глазами, слушал рассказы отца, спрашивал:
– А мы поедем туда? Я хочу сам все увидеть!
Отец вздыхал:
– Уж больно далеко! Уж больно долго добираться! Ну, подрастешь – видно будет. Может, и доберешься когда. Только не дай господи никому, ни доброму, ни злому, не по своей воле туда попасть…
Когда ребенок, соскучившись, вспоминал маму, на помощь тут же приходила Аня. Она говорила, склоняясь к мальчику:
– Не плачь, Васенька! Все хорошо! Я с тобой, и папа, и тетушка!
– Только ты никогда не уезжай! – просил ребенок, цепляясь за ее платье. – Я от тебя тоже никогда не уеду! Знаешь что, Аня? Давай я буду твой Лоэнгрин!
Тетушка Елизавета Ивановна тоже всегда была рядом. Чтобы Вася не грустил, случалось, заговорщицки шептала:
– А у меня для тебя что-то есть! Ну-ка, угадай, что?
– Яблоко, – говорил Вася.
– Нет! Не угадал!
– Пастила. Или орехи. Или медовая бабка. Или… не знаю.
– Сдаешься?
– Сдаюсь.
Кроме лакомств, в тетушкином ридикюле часто прятались книжки издания товарищества Сытина: «Где любовь, там и Бог» господина графа Толстого, или «Золушка», или «Хрестоматия для малюток», или же самая любимая – «Приключения Гулливера».
В этот раз тетушка Елизавета с загадочным видом, под веселые аплодисменты Ани извлекла из тайных шелковых недр искусно изготовленную оловянную лошадку соловой масти, рыже-охристую, с мягкими светло-желтыми хвостом и гривой.
У ребенка радостно загорелись глаза. Много ли надо малышу для счастья!
Ложась спать, он уложил рядом на подушку Соловку и укрыл ее попонкой, которую из шерстяной пряжи связала кузина. Вдвоем с верной лошадкой все-таки легче было переносить разлуку с матерью.
Лошадка была его любимой игрушкой, пока он не подрос. Вася брал ее с собой гулять на бульвар и на море, не расставался с ней за обедом и за ужином, укладывал спать рядом с собой.
Сегодня они с тетушкой и кузиной собрались в гости к Левицким. Кучер Гаврила уже ждал у ворот с запряженной в легкую рессорную двуколку серой кобылой.
Вася подбежал к кучеру:
– А у меня вот какая! – и протянул ему свою лошадку.
Кучер восхищенно качал головой:
– Ох ты! Ладненькая! Соловая, что ли… Смотри ты: и хвост расчесали, и гриву! Я своей тоже все утро чесал.
– А твоя какого цвета?
– Моя-то? Да вроде как в яблоках…
– В яблоках?! А где они? – удивился мальчик.
– Это только так говорится, что в яблоках. Вот пятны видишь? Ну, вот это и называется яблоки. Пятны такие круглые.
– А, это только так говорится, что в яблоках! – Мальчик засмеялся. – А кто это придумал? Ты?
Кучер тоже рассмеялся, качая головой в большом картузе.
– Где уж мне такое придумывать! Нет, это не я, а, может, мой дед али прадед придумали.
– У тебя дедушка есть? – обрадовался Вася. – И у меня есть дедушка Сильвестр! Он тоже все всегда придумывает! А ты рисовать умеешь?
– Рисовать-то? Рисовать нас не учили, а вот к кузнецу ходил, так нарисовал ему, какой засов на вороты надоть…
Из калитки вышли тетушка и кузина. Вася бросился к ним:
– Смотрите! Вот конь в яблоках! Видите яблоки? Это пятны! Так только говорится, что в яблоках, а это просто пятны такие!
– Не пятны, а пятна, – улыбаясь, поправила Аня.
Удобно устроились в двуколке. Васю разморило щедрое одесское солнышко, и он задремал, привалившись на плечо кузины. Тетушка задумчиво сказала:
– Вот растет человек, ему все интересно, все необычно… Лошадь в яблоках… Никто и не думает, что это забавно, а ему… Мир открывается маленькому человеку. Славно это!
Вечером Вася достал краски и нарисовал лошадь. Всю в румяных спелых яблоках, а не в каких-то пятнах. Показал Соловке:
– Смотри! Узнаёшь? Видишь, какие они вкусные?
Она узнала, ей понравилось.
Рисунок он подарил кучеру. Тот долго смеялся:
– Ох ты, забавник! Смотри ты, какой патрет! – Бережно спрятал рисунок под сиденье облучка: – Бабе своей покажу, пущай посмеется.
В лубочной лавке тетушка Елизавета купила Васе альбом в бархатном переплете, где через каждые пять чистых листов плотной белой бумаги были изображены силуэты животных для раскрашивания. Первым был изображен силуэт лошади.
Они долго и тщательно раскрашивали ее. Тетушка тихонько шептала:
– Не спеши! Не набирай на кисточку столько краски! Разбавь чуть-чуть водичкой!
И оттого, что она произносила это едва слышно, мальчик делал плавные, тихие движения, рисунок получался светлым и аккуратным, а лошадка становилась похожей на настоящую.
В гостиной мелодично запели большие напольные часы, вызванивая «Ноктюрн» Глинки.
– Вася, мне пора идти к аптекарю, он приготовил лекарства для дедушки, – сказала тетушка, – и заодно на бульваре куплю для тебя бубликов. Хочешь?
– Хочу! Купи сразу пять! Нет, шесть!
– Куплю, всем хватит! А ты пока поиграй, только лошадку не раскрашивай без меня. Копыта осталось докрасить. Мы с тобой вместе закончим потом. Хорошо?
– Хорошо. Пойду играть.
Вася взял Соловку, и она поскакала по ковру, оттуда на кресло, на стол с красками и незаконченным рисунком.
– Смотри, Соловка, как мы лошадку раскрашиваем! Я подарю ее тебе! Только копыта раскрасим, когда тетя придет.
Соловка посоветовала не ждать тетю и раскрасить копыта самому. Черным цветом. Так Вася и сделал.
Все четыре копытца стали ярко-черными. Четыре черных провала на красивом рисунке. Вася смотрел на них, и ему хотелось заплакать. Виноватая во всем Соловка тоже расстроилась.
С тех пор он не любил черный.
Отец нанял для Васи учителя рисования, итальянца господина Чинесси. Он пытался научить мальчика основам рисунка в соответствии с анатомией человека и животных, объяснял, что такое перспектива и пейзаж. Но ученик говорил:
– Господин художник! Я все понимаю. Я уже научился рисовать и ухо, и пятку… И вот этот пейзаж я потом дорисую. Но мне сейчас нравится рисовать музыку. Вот смотрите! Это элегия. А это адажио господина Чайковского.
Художник в недоумении пожимал плечами…
Музыка про ветер
1872
Осенью привезли виолончель.
Когда учитель музыки господин Вихровский брал смычок, мальчику казалось, что длинные руки музыканта имеют множество суставов и могут легко согнуться в любом месте. Волнистый чуб падал на лоб учителя, он встряхивал головой в такт, а ученик неподвижно, завороженно созерцал.
Отец одобрительно улыбался в усы.
– Вам понравилось? – спрашивал учитель, пытливо глядя на мальчика, а тот отвечал взволнованным шепотом:
– У меня сердце замирало! А когда я так научусь?
– Научитесь непременно! Лучше меня будете играть! Я уже представляю афиши с вашим именем: «Знаменитый виолончелист Василий Кандинский»!
Виктор, кузен Василия, окончивший к этому времени медицинский факультет Московского университета, иногда приезжал в Одессу и гостил у Васиных родителей. Со всеми держался просто и уважительно и был особенно внимателен к мальчику, считая его, несмотря на разницу в возрасте, своим другом и большим умницей. Он велел обращаться запросто, на «ты», и этим еще более расположил его к себе.
Вася любил совместные прогулки, долгие вечерние беседы, но особенно купания в море.
Виктор умел плавать так быстро, что от него острым клином расходились в стороны волны, как от парусной шаланды, и Вася изо всех сил старался подражать ему.
– Где ты так плавать научился? – восторженно спрашивал он. – Так только моряки умеют!
– А я и есть моряк! – весело отвечал кузен. – Я ведь поступаю на службу на вооруженный пароход «Великий князь Константин»! Буду судовым врачом! – И они вместе ныряли в глубину, в сине-зеленую прозрачную бездну, где над пышными зарослями донной травы проплывали розовые барабульки, играла в волнистых бликах морская собачка, гордо стояла стайка морских коньков, пронзала синюю глубь серебристая рыба-игла, а под камнями прятались шустрые крабики.
Потом отдыхали на берегу, на теплом песке, наслаждаясь жарким солнышком, рассматривали облака в небе и сообщали друг другу:
– Вот это, смотри, на лилию похоже!
– А это на кролика!
– А это на щенка с высунутым языком!
– А вот плывет корыто с пеной!
Если Виктор, разморившись, начинал дремать, Вася тормошил его:
– Не спи! Давай я стихи почитаю!
– А ты стихи знаешь?
– А как же! Я ведь гимназист пятого класса! – и торжественно декламировал пушкинского «Пророка»:
- …Моих ушей коснулся он,
- И их наполнил шум и звон…
- И внял я неба содроганье
- И горний ангелов полет,
- И гад морских подводный ход,
- И дольней лозы прозябанье…
Виктор задумчиво слушал. И вдруг сказал:
– А ведь это о нас с тобой господин Пушкин написал…
– Почему? – удивленно и немного испуганно спросил мальчик.
– Мы Кандинские. Род наш необычный. Я тебе со временем расскажу о нашей родословной.
Вася не решился настаивать, но глубоко задумался и вечером передал отцу слова кузена. Тот посмотрел тревожно и сказал:
– Даст Бог, пронесет…
В церковные праздники ходили в храм. Путь неблизкий, но отец считал, что пройти его надо пешком.
В пасхальные дни раскланивались со встречными знакомыми, троекратно расцеловывались со всеми, кто приветствовал их привычным «Христос воскресе!». Кузен насыпал в карманы Васе мелкие деньги и велел раздать нищим, коих множество толпилось на паперти.
На обратном пути сказал:
– Ну, вот, брат, милостыньку раздали. Глядишь, и не станет Господь грехи прадедов нам с тобой засчитывать… А все же… свои-то грехи куда девать?
– А какие? – недоуменно спрашивал Вася.
– Какие? Он знает! Он найдет! Уж ты старайся, брат, не греши!
В гимназии Вася сдружился с Аристархом Казаровым, сыном кубанского помещика. Его родители снимали дом неподалеку, и мальчики часто виделись на улице, играли вместе и делились любимыми книгами. А любимыми были произведения Фенимора Купера: «Зверобой», «Следопыт», «Прерия» – и Карла Мая: «Виннету», «Черный Мустанг», «Верная рука».
Аристарх, болезненный и слабый, всю жизнь боролся со своими недугами. Родители возили его на воды и разыскивали лучших докторов. Однако в немощном теле жил боевой дух, помогавший ему преодолевать любые невзгоды.
Мальчик был светловолос и светлоглаз. Самым большим оскорблением он считал слово «бледнолицый» и отчаянно завидовал другу, который казался ему похожим на индейца. Он усиленно подставлял солнечным лучам лицо, чтобы хоть немного загореть, но в результате по белой коже только ярче рассыпались золотистые веснушки.
Вася был смугл, чернобров, хотя и синеглаз, с едва заметной восточной косинкой, которую тетушка шутливо называла «кандинкой». В их роду не было блондинов с чисто русскими лицами.
Дети грезили приключениями, сооружали в самых глухих уголках сада вигвамы, изготавливали луки и стрелы.
Неугомонный Аристарх придумывал все новые и новые игры. Себя он называл вождем Асахатуа и утверждал, что это имя означает «Бегущий навстречу опасности». Васе же дал имя Аечето, переведя его как «Взмах крыла».
Иногда к ним присоединялся сын садовника Сашко. Аристарх и ему придумал индейское имя – Эшнеуто, «Везде успевающий».
Вася искренне уважал Сашко за множество неведомых гимназистам умений, за легкость, с которой мальчишка, его ровесник, колол дрова, а бросив топор, тут же брался за лопату и делал все это со взрослой сноровкой, будто тяжелый труд доставлял ему какое-то особое удовольствие.
А как быстро и ловко он взбирался на самые высокие старые деревья в поисках неупавших плодов! А как звонко и разливисто он пел украинские песни, подыгрывая себе на балалайке!
Правда, книги читал медленно и долго, но это, вероятно, оттого, что не имел возможности посвящать чтению много времени – у него были обязанности по дому и саду, которые больше некому было исполнить.
Его отец, основательный широкотелый мужик с добрым, улыбчивым, как и у сына, лицом, с большими пшеничными усами, едва вдали на дороге показывалась коляска в пыльном облачке, бежал к господам, крича:
– Едут! Едут! Мабуть, брат ваш, дохтур, едет! Гнедые-то его, я бачу!
Он называл Васю забавно: Василек Василич.
– Бежи-ка, Василек Василич, братика встречай! Глянь, передняя рессорина у коляски просела, видать, гостинцев везет не мене пуда! Сашко, сопроводи барина, вдвоем веселее добежите!
Мальчики с гиканьем и свистом наперегонки мчались навстречу экипажу, врывались в пыльную завесу и поднимали еще больше пыли. Кучер недовольно бормотал. Виктор усаживал их рядом с собой, расспрашивал о последних одесских новостях.
– Дорогу возле нас мостят! У самого дома! – рассказывал Вася.
– Это хорошо! Пыли меньше будет!
– Нет, мне не нравится! Камней навалили, ни пройти ни проехать! По дороге не побегаешь, а если мы по навалам прыгать начинаем, мастер нас гонит.
Сашко дипломатично молчал.
Лошади бодро вбежали в распахнутые садовником ворота. Домочадцы высыпали навстречу. Виктор извлекал из недр коляски подарки, становилось весело и шумно.
Вечером Вася читал свои стихи:
- Заборы да камень,
- Булыжный навал,
- Нас город цепями
- Своими сковал,
- И утро, и вечер,
- Все те же дела.
- И камнем на плечи
- Усталость легла…
– Это ты сам написал? – недоверчиво спрашивала Верочка. – Не может быть!
Она тоже писала стихи, и ее мучила неясная ревность. Она любила быть лучшей.
Отец удивлялся:
– Сын, что за пессимизм! Я и не знал, что тебя посещают такие мысли!
– Зато и рифма на месте, и размер! – возражала тетушка.
– И суть понятна от первого до последнего слова! Действительно, навалы эти… Мальчикам бегать хочется, играть, а их гонят! – улыбался Виктор.
– Да бросьте! В Одессе мало места для беготни и игр? – решительно вмешивался дедушка Сильвестр. – Ишь ты, усталость у него! А у меня тогда что?
Аня не скрывала восхищения:
– Васенька, ты самый талантливый!
Юный поэт смущался и прятал глаза.
– Сын, напиши что-нибудь жизнеутверждающее! Что-нибудь такое… чтобы душа взлетала! Чтобы петь хотелось! – просил отец. – Можешь?
– Могу! Я ведь на самом деле не пессимист! Просто камни эти, мостовая… такое настроение было.
– О чем, о чем ты напишешь? – нетерпеливо спрашивала Аня. – Ты покажешь мне первой?
– Нет, Васенька мне покажет! – Верочка была тут как тут.
В следующую пятницу у Кандинских гостила семья Казаровых: мать, стройная дама с пышной копной темных волос, красиво уложенных над серым атласом платья, отец, с простым широконосым лицом, обрамленным элегантной русой бородкой, с тростью, на которую опирался довольно неумело, и шестнадцатилетняя сестра Аристарха Виолетта, сероглазая молчаливая девица в белом платье с пышным бантом на тонкой талии.
Поздним вечером, как обычно, все собрались в просторной голубой гостиной. Теплый ветер колыхал легкие занавески на распахнутых окнах. Мужчины начали разговоры о политике, о военном деле, о медицине, с большим пиететом прислушиваясь к мнению Виктора.
Отец увлеченно рассказывал о делах своей чайной фабрики, предлагал всем попробовать новые сорта чая – с китайскими травами, с лепестками медуницы и розы, со стручками ванили и палочками корицы. Он говорил, что для хорошего чая аромат должен быть легким и тихим, едва заметным. Он смешивал апельсиновую цедру с можжевеловыми ягодами и добавлял зернышко ванили. Или к тонким стружкам плодов самой пахучей сушеной груши всыпал щепоть молотых побегов сосны и такую же – жасминовых лепестков.
В распахнутые окна доносились ароматы цветущего сада и моря. Над домом витал сладкий дух, казавшийся духом очарования сказкой.
Дамы были озабочены погодой, домашними делами, судачили об общих знакомых. Барышни обсуждали новости моды и иногда, немного смущаясь, делились планами на будущее.
Они наперебой блистали музыкальными талантами, и взрослые восхищались их игрой поочередно. Вася знал, что так, как он, не сыграет ни одна. Но у него было заготовлено иное…
Музыка утихла, настало время стихов. Верочка читала дрожащим голосом:
- Все окна распахнула я
- Туда, где чудная весна,
- И кукла бедная моя
- Упала вдребезги с окна…
– Так уж и вдребезги? – спросил, сдерживая улыбку, дедушка.
– Там еще продолжение будет, – сказала поэтесса, готовая обидеться, но пока не решившая, на что именно.
– Конечно, обязательно нужно продолжение.
– Там еще про мое страдание от безвременной утраты…
– Куклу можно собрать и склеить свиным клеем из… из дребезгов, – произнес Аристарх. Все засмеялись. Верочка переводила взгляд с одного гостя на другого, пытаясь понять, над ней ли смеются или все же над мальчишкой.
Вася начал читать вчерашнее пессимистическое и заметил, что отец хмурится. Но за последней строчкой «И камнем на плечи усталость легла…» вдруг последовало:
- Но в скучной, холодной, пустой тишине
- Вдруг робкая память проснется во мне…
Голос его зазвенел:
- Как смутный, далекий и призрачный сон:
- Вгрызается в камни глубокий каньон,
- Где небо алеет и скалы в огне.
- Нам гордый индеец подводит коней,
- И яростью скрытой стучат по камням
- Литые копыта его скакуна,
- Каленые стрелы и лук за спиной,
- Над пропастью смело летит вороной,
- Орлиные перья качаются в такт,
- Купается в ветре мой рыжий мустанг,
- Мы скачем без страха в долину с горы,
– Где племя навахо разводит костры! – закончил он звонко и победно.
– Н-да… Неожиданно… – произнес отец.
Аня зааплодировала первой, остальные подхватили. Тетушка прижимала к сердцу ладонь и покачивала головой, не находя слов. Аристарх встал напротив с таким торжественным видом, будто аплодировали ему. Верочка смотрела обиженно.
Днем молодежь собиралась в большой садовой беседке, затевали игры с шарадами, с веселыми розыгрышами, с беготней по садовым дорожкам и прятками в кустах, и Виктор, хотя был самым старшим, с удовольствием вливался в компанию.
Верочка недолюбливала сына садовника не то чтобы за бедность, да и не был Сашко так уж беден по городским меркам, а просто за то, что он был сыном садовника. Ей не нравилась его необразованность, сильный украинский акцент, серая рубаха суровой ткани, босые ноги.
Зато Виктор всегда был приветлив и добр к мальчику.
Сашко приносил в подоле рубахи самые спелые вишни, высыпал на стол в беседке, рассказывал последние новости и убегал по своим делам.
Все с удовольствием угощались, и только Верочка брезгливо морщилась. Вася чувствовал, что это раздражает Виктора, хотя тот этого не выказывал.
Вася старался быть поближе к кузену, говорившему с ним на равных, как со взрослым.
Василий Сильвестрович, пребывая в великолепном расположении духа и видя взаимопонимание между сыном и старшим племянником, которого он уважал за самостоятельность, за проницательный ум, за умение мыслить свежо и оригинально, нисколько не препятствовал их дружбе, позволяя Васе допоздна быть со старшими в гостиной, когда матери уже уводили барышень отдыхать.
Он откровенно гордился своим юным музыкантом и поэтом, в таком возрасте удивлявшим присутствующих прекрасной игрой на рояле и виолончели и еще более – стихами. Однако, отвечая на вопросы о том, каким он видит будущее ребенка, отчего-то исключал занятия поэзией и музыкой. Он хотел видеть сына юристом, политиком или военным.
Кем же хотел стать подрастающий сын?
Он много размышлял о своем будущем и был полон сомнений. Не потому, что путь, выбранный для него отцом, был ему не по душе. Вовсе нет. Наоборот, ему нравилась юриспруденция, его интересовала политика. Военное дело привлекало в меньшей степени. Он считал, что люди в военной форме не имеют той свободы в выборе занятий и увлечений, что есть у прочих образованных людей.
Иногда ему хотелось стать врачом, как кузен. А иногда он начинал мечтать о поприще математика или инженера.
Искусство привлекало его, безусловно. Музыка – светлый праздник души. Он не только слышал, но и видел ее повсюду: в пене морских волн, в свежих гроздьях акаций, в трепете пламени церковных свечей, в резких взмахах крыльев птиц, в прозрачных каплях дождя…
Но стать музыкантом? Ему казалось, что, сделав музыку своей профессией, он превратит ее в обыденность и утратит связанное с ней чувство праздника. Нет, лучше он будет наслаждаться музыкой, не будучи ей ничем обязанным.
Придя домой с прогулки, он садился рисовать музыку, увиденную только что. Плавное легато облаков и резкое стаккато начинающегося ливня, звонкий мажорный лад солнечного дня и тихую печаль уплывающего в облака лунного диска.
В раннем детстве он любил показывать свои рисунки кузине Ане.
– Что это? – спрашивала она.
– Разве ты не видишь? Это музыка про ветер.
– Теперь вижу. Очень хорошо!
Она бережно складывала подаренные рисунки в тисненую кожаную папку.
Одну из акварелей, ту, на которой гривастый конь скакал через разноцветные камни, она особенно долго рассматривала, а потом попросила:
– Подари это мне, Васенька!
– Дарю! – великодушно сказал художник. – Я тебе и рисовал! Это индейский конь мустанг. Ты слышишь? Ты видишь, как копыта стучат?
Кузина сосредоточенно всматривалась в картинку.
– Разве можно услышать то, что нарисовано? – спрашивала она, а мальчик отвечал:
– Нет, услышать нельзя, увидеть можно.
– Можно увидеть копыта, а не стук!
– Как! Ты разве стук не видишь?! – удивлялся маленький художник.
Желтый цветок
1879
Васе исполнилось тринадцать лет, когда он услышал о подъеме национально-освободительного движения на Балканах и обострении международных противоречий. Он был уже достаточно взрослым для того, чтобы самому читать газеты и внимательно слушать рассуждения взрослых.
Война с Турцией началась 12 апреля 1877. Целью военных действий Россия провозгласила свободу православных славян – сербов, болгар, черногорцев от турецкого владычества.
Годом раньше кузен Василия Виктор Кандинский стал судовым врачом на минном транспорте «Великий Князь Константин». Он был смелым человеком, мечтавшим о военной службе с ранней юности. Но когда во время боя на Батумском рейде раздались один за другим несколько взрывов у самого борта транспорта, когда на глазах врача взорвалась бортовая миноноска, а ее экипаж, выброшенный за борт, попал в плен – турки просто вылавливали раненых и контуженных матросов баграми с крючьями, – его настиг меланхолический раптус. Так называется в психиатрии приступ острого, безысходного отчаяния и мучительной невыносимой тоски. Он бросился в воду, чтобы покончить с собой. Матросы спасли его, подняли на борт. Скоро он был списан с корабля и отправлен в отделение для душевнобольных военно-сухопутного госпиталя.
Как гром среди ясного неба настигло семью Кандинских известие о душевной болезни Виктора.
Навсегда ли или излечимо? Он врач, неужели не справится? А и осознаёт ли он, что с ним происходит?
Однако когда следующим летом Виктор навестил одесских родственников, он был вполне здоров и бодр.
Снова веселые прогулки, счастливые вечера, купания в море, долгие задушевные беседы…
Однажды, гуляя на бульваре, они вернулись к тому давнему короткому разговору: «Мы Кандинские. Род наш необычный…»
– Пожалуйста, расскажи! – просил Вася, заглядывая кузену в глаза.
Виктор сорвал желтый цветок, покрутил в руке…
– Не знаешь, как называется?
– Не знаю.
– Мой любимый цвет, ярко-желтый… Радостный цвет, веселый! – Он задумчиво поглаживал пальцем свежие лепестки. – Давай присядем, вот скамья в тенечке.
И он рассказал о древнем родовом проклятии.
– Я прекрасно понимаю основу моей душевной болезни. Я планирую описать ее в одном из научных трудов. Но ведь не все можно предложить коллегам на рассмотрение. Разве расскажешь? Великий грех прапрадедов… Осознанный, осмысленный… Церкви грабили, обозы, на большую дорогу с топором выходили! Сколько душ загубили?! Даст Бог, друг мой, тебя не коснется… А все же помни!
– И никто-никто не может проклятие снять? – тревожно спрашивал Вася.
– Шаманы на моей далекой родине умели. Да только где их теперь найдешь!
Он встал со скамьи, а Васе хотелось продолжить разговор. Но кузен сказал:
– Пойдем, – и после молчал.
Оглянувшись, Вася вдруг почувствовал неожиданное сильное волнение. Увядающий желтый цветок, словно обрывок странной судьбы, остался сиротливо лежать на покинутой скамье…
Весной 1878 года Вася получил письмо от кузена с рассказом о том, как был подписан Сан-Стефанский договор. Договор о безоговорочной победе России в войне с османами. Его итогом стала передача России Бессарабии. Болгария обрела независимость. Сербия, Черногория и Румыния расширили свои территории.
Это вызвало эйфорический подъем в российском обществе.
Мальчишки на перекрестках, размахивая газетами, звонко выкрикивали заголовки победных новостей, одесситы нарасхват покупали их недолговечный товар.
Кандинские горячо радовались вместе со всеми. Но через недолгое время радость была омрачена известием о том, что доктор Виктор Кандинский вновь оказался в больнице с психозом.
Следующее лето принесло Василию особые волнения: детские увлечения позади, гимназия окончена блестяще, нужно выбирать дальнейший путь.
– Поэтом, художником, музыкантом может быть человек любой профессии, – сказал отец, рассматривая аттестат. – Сын, ты, безусловно, талантлив! Но чтобы крепко стоять на ногах, нужно иметь земную профессию. Искусство – праздник! А тебе предстоят долгие будни.
Боевой друг Аристарх мечтал о карьере военного. Он видел себя во снах на вороном коне во главе нескончаемого строя гусар в киверах и ярких ментиках. Он представлял себя командиром лейб-гвардейского полка или генерал-адъютантом командующего войсками. Однако состояние его здоровья не давало надежды на блестящую военную карьеру, и он понемногу смирился.
Решено было, что Василий и его приятель будут вместе обучаться на юридическом. А значит, они вместе уедут из милой сердцу Одессы.
В Москве друзья поселились на пятом этаже доходного дома Кандинских, в большой квартире, в которой постоянно находилась старая экономка Мария Вильгельмовна.
К приезду молодого хозяина она тщательно прибрала комнаты и даже затопила камин, хотя на улице стояла довольно теплая погода и осенние заморозки еще не тронули пышных, начинавших оранжеветь, узорных кленов у дома.
Пожилая дама прожила в России большую часть жизни, но едва научилась сносно изъясняться по-русски. Впрочем, для Василия это не было препятствием: его бабушка Амалия, мамина мама, по-русски почти не говорила. Он с ранних лет привык к немецкой речи и разговаривал без акцента. Аристарх же брал уроки немецкого в Одессе у студента Людвига Эрхеля и уж во всяком случае умел заказать ужин в немецком ресторане «Sonne und Tauben», что находился на соседней улице.
В первые студенческие месяцы новые друзья и новые знания увлекли Василия с головой. Аристарха они же не то чтобы тяготили, но и не особо радовали. Казалось, он скучает в Москве. На самом деле некоторая угрюмость, бледность и ставшие вдруг голубоватыми полукружья тонкой кожи под глазами говорили о нездоровье, которое явно усиливалось в течение зимы. Он иногда оживлялся, радовался пушистому снегу, рождественским забавам, катаниям на тройках, но порой впадал в уныние, кутался в шерстяной плед, просил экономку разжечь камин и подолгу сидел, сосредоточенно глядя на огонь. Однако учиться любил и к учебе относился со всей серьезностью.
Прошла их первая московская зима.
Ушли морозы, улетели метели, потеплело скромное московское солнышко.
Василию казалось, что друг его повеселел и выглядел свежее. Однако иногда стал слегка прихрамывать и отставать при быстрой ходьбе. Приходилось подстраиваться под его шаг и чаще брать извозчика.
Они торопливо шли по университетскому коридору, спеша на лекцию. Массивная дубовая дверь отворилась прямо перед ними. Профессор Чупров укоризненно покачивал головой, глядя на свои массивные серебряные часы на блестящей цепочке:
– Опаздываете, молодые люди!
– Простите, профессор, бежали со всех ног! Извозчики все куда-то подевались!
– А я как раз вас и поджидаю! Зайдите после лекций. Вы любите путешествовать?
– Это как раз мое любимое занятие! – сразу ответил Кандинский.
Задохнувшийся от быстрого движения Аристарх кивнул.
– Вот и славно! У меня к вам есть предложение. Нужно обговорить, обдумать.
Предложение состояло в следующем: чтобы студенты могли практически разобраться в вопросах правовых обычаев в провинции, их отправляли в какую-либо область, лучше отдаленную, где им предстояло поработать с местным юридическим бомондом, как называл Чупров провинциальных судебных. В конце беседы он с торжественно-загадочным видом объявил:
– А у меня для вас сюрприз! Вам и тратиться особо не придется! Потому что Московское общество естествознания ищет молодых энергичных исследователей культуры малых народов России! Конечно, не первым классом поедете, но вторым вполне можно! На Вологодчину! Зыряне народ интересный, там столько тайн нераскрытых… Увидите! Двух зайцев одним выстрелом убьете, понимаете? Эх, я бы сам с вами… Да нельзя, работы много.
Вологодчина – это вроде бы и Европа, но не та хорошо знакомая, объезженная вдоль и поперек, близкая, своя. Нет, это другая Европа – неожиданная, невиданная, непонятная. Русский Север.
Они еще никогда не бывали на Севере.
Василий пребывал в состоянии легкого радостного возбуждения от предстоящего путешествия. Аристарх был сосредоточенно хмур. Иногда он останавливал на товарище долгий внимательный взгляд, будто хотел сказать что-то важное.
Теплым весенним вечером Василий предложил поехать кататься. Ему очень хотелось растормошить, развеселить друга. Они заказали пролетку с открытым верхом.
– Аристарх, отчего ты вял, тебе снова нездоровится?
Немного помолчав, тот ответил:
– Да, Вася, я опять неважно себя чувствую…
– Нужно пригласить доктора!
– Нет. Скоро нам предстоит путешествие. Я надеюсь в пути забыть о нездоровье. Так бывает. Помнишь, в детстве мы играли в индейцев. Если я просыпался с головной болью, то стоило мне выйти в сад, воткнуть в волосы перо и взять в руки лук, все проходило.
– Не спорь. Завтра будет врач. А пока давай-ка остановимся у кондитерской и закажем пирожные!
Они вернулись домой с несколькими бутылками шампанского, большой коробкой сладостей и пакетом ароматных кофейных зерен.
Зырянский орнамент
1889
Утром следующего дня раздался звон дверного колокольчика, Василий сам кинулся к двери. Но это был не врач. Это был посыльный с телеграммой.
– Кузина Анна к нам едет! Анна будет у нас гостить!
Казалось, новый свет ворвался в окна, волнуя неожиданно и радостно.
Аристарх остался ожидать доктора, а Василий бросился за извозчиком: пора уже было ехать на вокзал встречать Аню.
Она выпорхнула из вагона легкая и стройная, в светлом шерстяном пальто и шляпе с бутоньеркой, в легких ботиночках и тонких шелковых перчатках. Потянулась к Васе и, прикоснувшись к щеке теплыми губами, сказала:
– Какой ты стал большой, красивый, солидный! Настоящий господин!
Она быстро шла по перрону, улыбаясь, переливчатым птичьим своим голосом рассказывая последние новости. Носильщик с ее саквояжем и корзинкой едва успевал за ними.
Подсаживая даму под локоток в пролетку, Василий упоенно ловил тонкий аромат ее изысканных парижских духов.
Она, как в детстве, называла его Васенькой, говорила о том, как соскучилась по милому кузену. И всю дорогу расспрашивала. Ее интересовали мельчайшие подробности его жизни.
Когда он сообщил о предстоящем путешествии на Север, она примолкла, задумалась, а выходя из пролетки, опершись о его руку, воскликнула:
– Васенька! Возьми меня с собой в Вологду!
Он растерялся от неожиданности:
– Нет! Что ты, что ты, Аня! Это север! Тебе не под силу будет! Что там… Какие люди там… Какая будет погода… Нет, нет, я не могу взять тебя в неизвестность.
Она смотрела умоляюще.
Мария Вильгельмовна приготовила утку с яблоками и крюшон.
Анна сразу заметила молчаливость Аристарха и была к нему особенно внимательна. Постепенно он разговорился, сообщил, что доктор прописал ему капли и грудной чай, что он скоро поправится. Анна ласково сказала:
– Уж, пожалуйста, поправляйся поскорее, милый индейский вождь! Нужно победить нездоровье, дорогой наш Асахатуа, бегущий навстречу опасности!
Все заулыбались. Возникла атмосфера легкости и доброжелательства, как обычно бывало в ее присутствии.
Они музицировали, вспоминали одесские вечера, беседку в саду, прогулки у моря, вечерний чай… Вспоминали Сашко, Верочку, Виктора и Виолетту… А под вечер, когда Аристарх уже ушел отдыхать, Анна снова завела разговор о поездке.
– Вдруг случится что-то непредвиденное в поездке… Аристарх все же едет? Он может захворать… Я помогу, я буду рядом!
– Аня, пойми, тебе непросто будет!
– Да отчего же! Я здорова, я хочу, я могу путешествовать! Ну, очень прошу тебя, Васенька! С кем я еще посмотрю мир, как не с тобой! Не одной же мне ехать! – Она расцвела улыбкой, чувствуя, что кузен уже колеблется и понемногу поддается ее уговорам.
На следующий день доктор опять навестил Аристарха. В конце визита, когда Василий и Анна провожали его, невесело сказал, пользуясь тем, что больной не слышал:
– Господин Казаров недооценивает свое состояние. Ни о каких поездках и путешествиях не может быть и речи. Он должен остаться здесь. Я буду приезжать так часто, насколько смогу. Может быть, даже каждый вечер.
Василий и сам понимал, что Аристарху ехать нельзя. И Анна понимала это. Лишь сам Аристарх не хотел понимать и надеялся, что дорога в неизведанное оздоровит его.
Между тем наступило чудесное время, когда босые вихрастые мальчишки продают на улицах букетики ландышей и пышные пучки сирени, когда по утрам в открытое окно врывается жизнерадостная какофония заливистых птичьих трелей, когда солнце нанизывает на золотые лучи кружева свежей зелени, такой новенькой, душистой и будто лакированной.
Анна отправилась за покупками. Она сказала, что возьмет для кузена то, что понадобится в путешествии. Когда вернулась, в корзинке было множество мелочей, преимущественно дамских, а сверху фиолетовой пеной кудрявился букет сирени.
– Аня, я еду один. – Василий постарался придать строгость и твердость голосу. – Останься, пожалуйста.
– Васенька, отчего ты в меня не веришь? – обиженно спросила кузина.
– Аристарха нельзя бросать, – сделал еще одну попытку отговорить ее Василий.
– Мария Вильгельмовна присмотрит за ним, и доктор обещал бывать каждый день! И нужно нанять сиделку! И попросить о помощи кого-то из товарищей по учебе!
Анна положила руки Василию на плечи и снизу вверх всматривалась в его лицо. Он невольно обнял ее и коснулся губами виска.
За ужином Аристарх сказал, опуская глаза:
– Поезжай с кузиной, Вася. Я не смогу.
Видно было, что он с трудом сдерживается… Но он был воин, и он был вождь. Он не мог показать при даме слабость. Впрочем, и без дамы тоже.
Анна, разволновавшись, потихоньку смахнула слезинку. Василий сделал неловкую попытку поддержать друга:
– Аристарх, дорогой! Подлечишься, доктор будет приезжать! Я вернусь, и мы сразу поедем в Одессу! И придумаем какое-нибудь интересное путешествие! На свете столько неизведанных мест!
– Ловлю на слове. Обязательно придумаем. – Аристарх старательно улыбался.
Так и решилось. Анна едет в Вологду. А там будет видно.
Она настояла на поездке первым классом. Она и в Москву первым классом приехала. Расточительность была ей свойственна.
Вещей оказалось неожиданно много: саквояж, несессер с мелочами от манжет до ножниц, шкатулка с письменными принадлежностями, корзинка со снедью, приготовленная старой экономкой.
На Анне было синее дорожное платье с накидкой и легкие замшевые ботинки на невысоком каблучке. Василий отправился в своем обычном студенческом сюртуке и светлом жилете.
В купе на полку над мягким бархатным диванчиком Анна поставила ветку сирени в высоком стакане.
По соседству расположилась пожилая пара – чопорная дама с седыми буклями и ее супруг, длинный худой господин в массивных очках и с тростью. Они вполголоса переговаривались по-немецки, с заметным недовольством косясь на Анну и Василия. Им явно не нравилось ни щебетание Анны, ни аромат сирени, ни само присутствие молодых, красивых и веселых соседей. При этом они отчего-то полагали, что те не знают немецкого, поэтому не особо заботились о том, что их слышат. Несколько раз Василий раздраженно порывался вмешаться в разговор, но Аня останавливала:
– Нам нет до них никакого дела! Мы видим их впервые, и, я надеюсь, никогда больше не встретим!
К вечеру чопорные пассажиры сошли на какой-то небольшой станции, сразу стало свободнее и легче, будто свежий ветерок прошелся по вагону.
Анне дорога доставляла удовольствие, и она все время улыбалась и шутила. Василий тоже был в прекрасном расположении духа.
Вологда встретила пасмурным небом и влажным ветерком. Анна поеживалась, кутаясь в накидку. Веселый рыжебородый извозчик, сильно, по-северному, окающий, всю дорогу до гостиницы пел:
– Лошадки мое, грязныя копыта, вы скажите дураку, где деньга зарыта! Откопаю да отрою, да копыты вам отмою! Ой, бел голубок, что ты сел на дубок! Аль оттудова видать, где деньгу мне копать!
– Скажи, браток, кто такие песни сочиняет? – поинтересовался Василий.
– Сами сочиняются, – бодро ответил мужичок. – Не так-то давно случай был в суседнем селе. Паренек там живет, дурачок маленько. По осени коней пас. Выгнал за усадьбу в рощу, там ветра меньше. Слышит, вроде по жолезну жеребенок бьет. Подошел, глянул – крышка чугунка с-под земли виднеется. Ну и вырыл, и поднял чугунок-то. А там деньга. И сребро, и злато!
– Клад? И что же потом было? Разбогател?
– Куды там! Барин все прибрал! Дал на водку, да ребятишкам на пряники. Зато сбрую его жеребенку купил новую. Вот и вся богатства. Да и то ладно! Сбруя-то совсем худа была…
– Обманул, выходит, мужика.
– Эт ясно дело. На то и бары. А вот и гостина ваша! Эта самая хорошая. Я-то внутре не бывал, а брат сказывал. Он чумаданы барам носит.
Анна, сходя из пролетки, оглянулась на извозчика:
– А что за деньги были? Царские монеты?
– Монеты-то? – прищурился мужичок, извлекая из недр ямщицкого кафтана блестящий кругляшок. – А вота!
Подмигнул хитрым глазом, разворачивая коней, лихо свистнул и умчался вдоль по пустынной улице.
– Вот те раз… – удивленно произнес Василий, глядя ему вслед.
Аня засмеялась:
– Значит, не все барин прибрал! Хитер мужик вологодский!
Гостиница блистала чистотой, что приятно удивило. При этом проживание оказалось совсем недорогим.
Анна заказала в свой номер цветы. Букет ромашек и колокольчиков принесла круглолицая девочка-зырянка в сарафане с красными бретелями поверх вышитой рубахи, босая, робкая и молчаливая. Из трех монеток с ладони Анны осторожно взяла одну и тихонько удалилась.
Обед в гостиничном трактире был простым, но очень сытным: стерляжья уха, шаньги с тертым картофелем, пироги с налимьей печенкой и кисели, ярко-красный клюквенный и розово-кремовый земляничный. Мясо не подавали: была среда, постные дни здесь соблюдались строго.
Наутро Василий пешком отправился в судебную палату. Пора было заняться главным делом.
Присяжные поверенные встретили его радушно. Молодой человек, по виду Васин ровесник, с острыми чертами лица, светловолосый, неумело пытающийся пользоваться лорнетом в позолоченной оправе, с видимым удовольствием оторвался от раскладывания по зеленому сукну в чернильных пятнах своих бумаг, представился Михаилом Агульевым, проводил студента к главному юрсоветнику, а сам остался ждать в коридоре, длинном, мрачном и пыльном.
В своих решениях адвокаты были независимы от суда в ведении вверенных им дел и подчинялись только специально установленному для них дисциплинарному порядку. Правозаступничество совмещалось с судебным представительством. Столичному студенту Кандинскому была интересна практика коллег, но, исполняя необходимую юридическую часть своей командировки, он мечтал поскорее закончить ее и погрузиться в этнографическое исследование.
Ожидавший его в коридоре Агульев спросил, намерен ли гость посетить губернатора Кормилицына.
– А есть такая возможность?
– Безусловно, есть! Если вы желаете, я сегодня же доложу об этом! Впрочем, если вам удобнее действовать официально, это тоже можно.
Василий взглянул на молодого человека с некоторым удивлением: он вхож к губернатору?
Как оказалось, одна из двоюродных сестер Агульева была замужем за секретарем губернатора, и как раз сегодня в числе других гостей была приглашена на крестины трехмесячной дочки Михаила, который пообещал познакомить Василия с ее супругом. Вопрос приглашения к губернатору можно было считать решенным.
Кандинского неожиданно тоже пригласили отметить крестины. Он с радостью согласился. Ему было любопытно вблизи рассмотреть местное общество.
Анна купила в лавке подарок для ребенка – деревянную лошадку, искусно вырезанную и ярко раскрашенную вологодскими мастерами.
Агульев представил приезжего гостям, явно гордясь знакомством: не к кому-то, а к нему пришел столичный студент, да с красавицей-кузиной!
За сладкой наливкой, за пирогами с мясом, с вязигой, с ягодами, хозяева и гости разговорились.
Секретарь с супругой, статной дамой в броских, хотя и не самых модных, нарядах, держались скромно, но иногда в их сдержанной манере проскальзывало высокомерие. Впрочем, кажется, никто, кроме Анны, внимательно наблюдавшей за всеми, этого не замечал.
Три толстые тетушки неодобрительно перешептывались: «Как это! В гостинице?! Вместе?! Ну и что, что в разных номерах!»
Среди гостей почетное место занимал здоровенный, бородатый, похожий на купца господин – как оказалось, доктор Гордей Вековский, три месяца назад подоспевший на своем богатырском сером першероне в самый тяжелый и опасный момент родов и спасший роженицу и ребенка.
Он рассуждал о жизни крестьянства в разных губерниях, о дальних границах, о прошлом и будущем русских дорог. От него так и несло вольнодумством чуть ли не революционного свойства, и тетушки явно не одобряли такие речи, но Василию он понравился. Раскованностью и свежестью мысли он напоминал ему старшего кузена и друга Виктора, а непривычным окающим говорком – давешнего рыжего извозчика.
– И что же вас привлекло в наш дикий край? – спрашивал он у Василия. – Если вас интересуют обычаи местных народов, я готов вам показать самых настоящих, не городских жителей Вологодчины. Хотите?
– Очень хочу! – воскликнул Василий, так, что на него все оглянулись. – Собственно, за этим я и приехал. Кроме основных обязанностей, связанных с юриспруденцией, меня интересует этнографический аспект…
Ему стали живо, иногда перебивая друг друга, рассказывать о местных народах и их обычаях, и получилось, что, оказавшись в центре всеобщего внимания, он отвлек гостей от главного события – крестин маленькой Александры.
Когда же проснувшуюся, в белоснежном батисте и пенных кружевах, таращившую на всех круглые синие глазенки, малютку вынесли к гостям, Кандинский был потрясен. Ему не случалось раньше видеть такое крошечное дитя, и он не ожидал, что вид ребенка растрогает его до глубины души.
Вдруг в мыслях мелькнуло: когда-то и у них с Анной родится ребенок… И тут же ужаснулся: как – ребенок?! Как – с Анной?! Его даже бросило в жар, и доктор сразу заметил это, тихонько спросив:
– Вам нехорошо?
– Нет, ничего… – смутившись, ответил Василий, а доктор уже подавал ему ледяное шампанское в хрустальном бокале:
– Сделайте глоточек, мой друг, но не более… Вот так. Вам лучше?
– Безусловно… Спасибо.
– Вот и хорошо. Так завтра едем?
Анна, как и было договорено заранее, осталась в городе. Она не любила рано просыпаться и боялась медведей.
Дорога лежала через лес, такой свежий, солнечный и яркий, что у Василия мелькнуло в голове: почему здесь нет лучших художников мира? Почему они не знают об этом чуде, об этом сочном буйстве зеленого всех оттенков? И голубого – цвет небес повторялся в нежных колокольцах, обильно растущих по обеим сторонам дороги.
Остановились у ручья, прозрачного и певучего. Пока доктор поправлял что-то в упряжи, Кандинский сорвал несколько колокольчиков.
– Зачем? – спросил доктор. – Завянут ведь!
– Для кузины, – ответил, помедлив, Кандинский. – Нет, я знаю, что завянут! Это так… Мысленно для нее…
Доктор улыбнулся в бороду и, кажется, хотел что-то сказать, но промолчал.
Действительно, букетик увял очень быстро.
– Ну вот… Я же говорил. Так всегда бывает – что красиво и свежо, быстро увядает… И материальное, и чувственное, если оно живое. Это только камню нипочем ни бытие, ни время…
Отчего-то Василий разволновался и после все молчал. И доктор молчал, понимающе и сочувственно.
Быт коренных северян привел студента в восторг. В первом зырянском доме их встретили так, будто давно ждали дорогих гостей, хотя приезд их был полной неожиданностью для хозяев.
Поразила архитектура двухэтажного деревянного дома. С одной стороны его крыша была вытянутой, длинной, пологой и низко опускающейся к земле. Оказалось, в этой части дома зимой держат скотину. Но не так, как иногда в деревнях центральной части России, где рядом с хозяевами в одной избе на земляном полу ютятся и коза, и теленок, и куры. Здесь помещение для скота было отгорожено прочной бревенчатой стеной с тяжелой дверью посередине так, что даже запах животных не просачивался в хозяйскую часть жилья.
Чисто выскобленный, медового цвета, дощатый пол с вязаными половиками, резная прялка, дрова аккуратно уложены в загородку у печи, в красном углу иконы – не потемневшие, не закопченные, какие Василию случалось видеть раньше, а светлые, в сияющих окладах. Под иконами на стене – лубки с медведями и охотниками, с красными девицами и серыми лошадками.
А более всего поразило то, что каждый предмет мебели: и печь, и скамья, и стол, и даже потолок – по краю были украшены необычным красным и синим узорным орнаментом.
– Что это? – удивленно спросил гость, и хозяин ответил:
– Это песня. Наша песня такая.
Еще более удивившись, не до конца поняв сказанное, Василий переспросил:
– Что же за песня?
И хозяин стал напевать красивым, сильным и каким-то светлым голосом мелодию, простую и приятную, которая сразу сливалась с рисунком орнамента. И стало понятно: конечно, песня! Песня, нарисованная певцом в своем необыкновенном жилище, мелодия, которую можно не только слышать, но и видеть в тишине избы под этими светлыми иконами.
Он стал подробно рассматривать рисунок, и удивление сменилось странным чувством: все его существо, весь организм от макушки до пяток вдруг оказался внутри рисунка, окружавшего его со всех сторон, внутри мелодии, внутри зырянской песни. Однако, на удивление, душа его вовсе не рвалась из этого замечательного заключения. Некоторое время он даже не мог реагировать на обращенные к нему вопросы.
Потом гостей усадили за стол.
Крепкие белые грузди в глиняной плошке были пересыпаны блестящими бордовыми бусинками моченой брусники. Жареные караси лежали поверх политой горячим жиром круглой розоватой картошки. Квашеная капуста с диким луком источала острый и свежий аромат. Высокий каравай главенствовал посреди аппетитного изобилия, и когда хозяин опускал на его край острый нож, в воздухе с облачком пара распространялся чудный запах свежего хлеба. Но больше всего Василия поразили коричневые ломти печеной медвежатины на огромном резном блюде.
У Кандинского, едва вышедшего из странного состояния погружения в орнамент, охватившего его минутой ранее, слегка кружилась голова от ароматов кушаний, солений и варений, он любовался ими так, будто это были изображенные талантливым художником на холсте натюрморты, и от этого почти не мог есть.
Зато доктор от души наслаждался щедрыми яствами. Он, как оказалось, был не только давним знакомцем хозяина дома, но еще и родственником его супруги, молчаливой улыбчивой Марьюшки, как все ее называли.
– А что, господин Кандинский, – спрашивал доктор, – не пойти ли нам с вами завтра поутру в тайгу, не посмотреть ли наш северный лес вблизи? Грибов-ягод нет еще, только цветет, зверя добывать нельзя, а так… Прогуляться. Комаров пока немного. К вечеру вернемся. А то можно и в лесу заночевать.
– Сходите, протопчитесь! – рекомендовал хозяин. – А то тропка до зимовья заросла, поди!
Василию рассказали, что почти у каждого сельчанина есть еще один дом – в лесной глуши стоят охотничьи избушки, где промысловики останавливаются, чтобы добывать зверя по осени, по зиме.
– А сейчас ваши лесные дома без присмотра стоят? – удивлялся Вася, а хозяин удивлялся его вопросу:
– А чего ж им не стоять? Крышу поправил, дверь лесиной подпер. Мишка не сломит. Стоит!
– Мишка? Медведи здесь есть?
– А чего ж им не быть? С берлог повылезли, медвежонков повывели.
Василий покосился на доктора: не боязно ли? Но тот спокойно и с аппетитом уплетал творожную бабку с медом, слегка кивая головой в подтверждение слов хозяина.
– А если не медведь, а, скажем, человек лихой? – допытывался Кандинский. – Он же с лесиной справится?
– Да у нас нет таких. Если кому вознадобится в зимовье, так разрешения прежде берут. Хозяин не велит – не взойдут. А то нехорошо будет.
«Здесь живут удивительные люди. Люди с открытой душой и чистой совестью», – думал студент с восхищением.
– А почему нельзя сейчас зверя добывать? – продолжал приставать студент.
Хозяева удивленно переглядывались: что здесь непонятного?
– Так нынче дитенки у них! Да и мяса мало… К зиме добывают.
– Где почивать мыслите, – с улыбкой, не сходившей с милого круглого лица, спросила Марьюшка, – в дому, в постеле, или на сеновале?
– На сеновале, конечно! – воскликнул Вековский, не сомневаясь, что и студент желает того же. На самом деле Кандинскому еще не приходилось ночевать в таких неожиданных условиях, и это было тем более интересно.
Хозяин с хозяйкой накрыли пышное сено суровым полотном, а укрываться предложили тканым одеялом или просторным тулупом на выбор, если ночь будет свежа.
Василий уснул под рассказы доктора об охотничьих обычаях зырян. А когда пробились в щели сарая острые лучи солнца, просыпаясь, с наслаждением подумал: «Как приятен запах раннего утра… Жаль, что я не смогу на словах передать Ане этот потрясающий аромат…»
На удивление, лесная избушка оказалась не так уж далеко. В ней одуряюще пахло смолой, на грубо сколоченных полках над широкими нарами лежали полотняные мешочки с сухарями, покрытые душистым лапником, маленький туесок с медом, берестяной коробок с сухой малиной и короб побольше с сушеными грибами. Темно-оранжевые куски чаги покоились еще в одном туеске. Высокий ушат с деревянной крышкой на полу под маленьким окошком почти до краев наполнен водой. В печурку уложены дровишки, под ними высохшая берестяная растопка – только чиркни спичкой, вспыхнет как порох.
Это все предназначалось путникам, испросившим разрешения хозяина воспользоваться лесным прибежищем, но не столько им, сколько заплутавшим горемыкам, набредшим на зимовье случайно.
Вековский вскипятил в котелке воду и заварил чай с терпким хвойно-травяным привкусом, разложил на струганых досках столика «припас» – завернутые в холстинку ломти пшеничного хлеба и отварной свинины. Из местных запасов взяли только немного меда и соли в узелке.
Лес был свеж и ярок. Белки крутились над головами, лосиха с лосенком стояли на тропе чуть ли не в двух шагах от них, тетерка покачивалась на ветке старой сосны, рябчики тонко пересвистывались в ветвях, голоса иволги и еще какой-то музыкальной птицы переливались в звон ручья.
«Как жаль, что Аня не узнает этого! Ведь ни в Москве, ни в Одессе нельзя увидеть и услышать ничего подобного!»
В последующие дни они с доктором посетили других зырян, и везде их встречали радушно, вкусно угощали и ни в какую не хотели брать предлагаемых за гостеприимство денег.
Василий быстро делал зарисовки предметов зырянского искусства: иконных окладов, самоваров, веретен, прялок, ткацких станков.
Он чувствовал, что искренне полюбил людей этого племени, таких загадочных, непривычных и не похожих на виденных ранее российских крестьян, и высказал это Вековскому. Тот нимало не удивился:
– Отчего же их не любить! Народ простой, бумажных законов не знает, а Божьих не преступает. Эх, жаль, друг мой, мало у вас дней в наших краях! Я бы вам не то еще показал!
Вернувшись в Вологду, еще до встречи с Анной, Кандинский поинтересовался в конторе у Агульева, готов ли его принять губернатор. И был неприятно поражен известием о том, что, да, безусловно, готов, но только при наличии необходимых атрибутов соответствующего достоинства – мундира и шпаги.
И не слишком огорчился, что встреча не состоится, так как переполнявшие его впечатления от поездки к зырянам глушили иные переживания.
Василий принялся рассказывать о них Анне, встретившей его радостно:
– Я так соскучилась, Васенька! Мне так грустно было без тебя! Все время одна, ни друзей, ни знакомых…
Она слушала его рассказ о зырянах с ласковой улыбкой, казалось, ей было интересно, но после вдруг призналась, что почти ничего не запомнила.
– Видишь ли, Васенька… Мне просто нравилось смотреть на тебя и слышать твой голос… Ты был так… – Она не сразу нашла слова. – Ты был так выразителен… Так мил… Мне хотелось, чтобы ты говорил и говорил, рассказывал и рассказывал! О чем – неважно!
Василий растерянно замолчал, не зная, как реагировать на ее слова.
Весь вечер его преследовало чувство тоскливого недовольства, и он не понимал, отчего оно. Оттого ли, что Анна не захотела разделить с ним его нежданный восторг встречи с неизведанным и прекрасным миром? Оттого ли, что он покинул этот удивительный мир, в котором песня – это орнамент, а орнамент – это звук, мелодия и песня?
Ночью он проснулся, будто от толчка. Ему вдруг показалось, что случилось нечто ужасное. Он сел в кровати, утирая холодный пот, борясь с дрожью и оттого пугаясь еще больше.
Домой!
Разве он не выполнил задуманное, разве не разрешил поставленные вопросы? Домой!
Анне давно наскучила вологодская бездельная жизнь, она называла ее кислой.
В последний раз пообедали в гостиничном трактире, но отчего-то на этот раз уха казалась слишком жирной, пироги слишком жесткими, а кисель слишком сладким.
Анна дважды спросила Василия о его настроении, но он только пожимал плечами в ответ.
Поезд прибыл в Москву ранним утром. Туман размывал очертания домов и фонарей, пуховым одеялом покрывал мостовые. Лошади зябко подрагивали влажными спинами.
Кандинский дал телеграмму Аристарху, но на вокзале их никто не встретил.
– Расхворался наш вождь! – огорченно сказала Анна.
Василий не ответил. Он напряженно всматривался в улицу, будто ожидая чего-то из глубины ее.
Распахнутые двери их квартиры не сулили хорошего.
Анна все поняла и тоненько застонала. Вышла заплаканная экономка, хрипло выдавила из себя:
– Ночью он умер… Ночью… Ни стона, ни звука…
Это была первая большая потеря в жизни Василия Кандинского.
Он заказал сорокоуст, несмотря на вопиющую дороговизну таинства, заказал много поминального вина и угощение для причта, для факельщиков, для студентов, знавших Аристарха, хотя понимал, что самому теперь долго придется быть во всем экономным.
На похоронах изо всех сил старался сдерживаться. Грустные друзья-студенты окружали его. Профессор Чупров подошел, пожал опущенную руку, неуверенно пробормотал слова соболезнования.
Когда гроб с легким, исхудавшим телом опускали в глубокую тьму, Анна упала лицом Василию на грудь и заплакала в голос. Ее плач подхватили другие женщины, монахини Никольской обители и стоявшие в стороне кладбищенские нищие. В этот день было три похоронных процессии, и нищие переходили от одной к другой. Их отработанное, привычное завывание еще долго висело в печали кладбищенского воздуха, раздражая тех, кто испытывал настоящее, не показное отчаяние. Однако так было положено…
«Плакальщицы… Эти люди так и живут, не зная ничего, кроме похорон, кроме созерцания человеческого горя, к которому на самом деле равнодушны… – мелькнуло в голове у Василия. – Да и люди ли они… Может быть, это духи умерших неправедно…»
Он выгреб из кармана горсть мелких денег, и нищие, привычно уловив это движение, тут же неслышно, но быстро приблизились к нему, протягивая грязные ладони.
Дома в вечерней полутьме каминного зала Анна, тихонько всхлипывая, зажгла всего одну свечу.
Василию говорить не хотелось. Он сидел у камина, отпивая понемногу поминальное вино, и оно кружило голову.
Они долго молчали.
Наконец Анна заговорила с тоской и отчаянием в голосе:
– Ведь останься я в Москве, все было бы по-другому! Я бы сумела выходить его! Ах, что я наделала! Что я наделала!
Она зажала ладонью рот, сдерживая рыдание. Потом прошептала:
– Домой! Пора домой! Завтра я еду!
Он встал перед ней, крепко сжал ее руки, умоляя:
– Останься! Не бросай меня теперь, я не хочу одиночества!
Она обняла его, плача…
Наутро он сделал ей предложение, которое она приняла с готовностью, сказав, однако:
– Нас не поймут и не одобрят. Ты мой кузен, и ты моложе…
Василий горячо возразил:
– О чем ты, Аня! Ты мой самый близкий друг! Ты красивая женщина! Неужели я должен жениться на другой только потому, что обществу кажется, что так положено!
– Милый мой Васенька! – отвечала Анна. – Тем ты и люб мне, тем и дорог, что никогда не шел на поводу у «общественного мнения», у тех, кто диктует нам свои законы. О тебе еще заговорят! Ты еще удивишь мир! И наши дети будут гордиться отцом!
Василий остановил ее восторженную речь поцелуем…
А вскоре их настигла вторая тяжелая потеря…
Они узнали о странной смерти Виктора.
Им рассказал об этом неожиданном и страшном событии Михаил Васильевич Сабашников – купец, сахарозаводчик и хороший друг Виктора Хрисанфовича. Приезжая в Москву, он всегда останавливался в доходном доме Кандинских. Узнав о произошедшем, Михаил Васильевич написал:
«Трагическое событие произошло на даче Кандинских в селе Шувалово недалеко от Петербурга.
Петербургское общество психиатров не нашло средств на публикацию монографий доктора Кандинского, и это угнетало, расстраивало и ввергало его в уныние, с которым он пытался бороться, но не всегда успешно. Тем более ему хорошо было известно, что средства выделялись, но занявший пост председателя общества завистник, не раз высказывавший неприязнь к Кандинскому, всячески препятствовал публикации его работ.
Под влиянием позыва к самоубийству, бывавшего у него обычно в переходном периоде к здоровому состоянию, он взял из аптечного шкафа в больнице опий и по возвращении домой принял, безусловно, смертельную дозу этого яда.
Склонность к научному самонаблюдению не покинула его и в эти минуты. Он взял лист бумаги и стал записывать: „Проглотил столько-то граммов опиума. Читаю «Казаков» Толстого“. Затем уже изменившимся почерком: „Читать становится трудно“.
Его нашли уже без признаков жизни…»
Вдова Елизавета Карловна Фреймут потратила все свои средства на публикацию трудов покойного супруга. А в годовщину его смерти там же, на даче в Шувалове, тоже приняла смертельную дозу опия…
«Стог сена», «Лоэнгрин» и атом
1895
Первые годы совместной жизни Василия и Анны обоим казались счастливыми. Окончив учебу в университете, получив диплом юриста, о котором так мечтал его отец, Василий стал художественным директором типографии, одновременно принял предложение преподавать в университете, еще до того, как стал магистром.
По рекомендации профессора Чупрова, начал готовиться к получению профессорского звания. Хотя в глубине души и понимал, что не увлечен наукой настолько, чтобы это стало делом его жизни. Преподавать ему нравилось, хотя порой несколько угнетало однообразие. Но, возвращаясь каждый вечер домой, он с удовольствием думал о том, что его ждет любимая женщина.
Иногда в разговорах молодые супруги вспоминали чувство умиления, охватившее их при виде крошки Александры на ее крестинах в доме Агульева. Они, случалось, придумывали имена для будущих своих детей, мечтали о том, как будут гулять и играть с ними, и даже начинали обсуждать список приглашенных на крещение… Это было игрой, конечно же, несерьезной.
Но время шло, а молитвы их о ребенке не доходили до Господа. Анна чувствовала, что молодой супруг уже оставил надежду стать отцом, и порой впадала в задумчивое уныние, пытаясь скрывать свое состояние от мужа.
Профессор между тем настаивал, чтобы Кандинский брался за диссертацию, и он уже был готов начать работать над темой морально-этических аспектов юриспруденции. Во время своей экспедиции по Вологодчине он с большим интересом занимался этим вопросом. Но вдруг поменял планы.
Ему было не занимать деятельной энергии, но для полноценной жизни нужны были новые яркие впечатления. Это любила в нем Анна, и это пугало ее до слез, до дрожи, до замирания сердца и остановки дыхания. Она вдруг с тоскливым страхом начинала думать, что когда-то вместо ее заботы и терпеливой нежности ему может понадобиться нечто более яркое, новое и неожиданное…
Анна прекрасно понимала, что, если не появится новый интерес, жизнь его, и без того достаточно однообразная, станет пустой. Этого она особенно боялась. Боялась тоскливого уныния, в которое совсем недавно повергла Василия смерть друга. Она изо всех сил старалась сделать быт мужа уютным и легким, но его неугомонной натуре этого было мало.
Когда она узнала, что в Москве состоится выставка импрессионистов, ее охватило радостное возбуждение. Но она не ожидала, что впечатление от оригинальных произведений будет таким захватывающе-сильным.
Василий остановился перед «Стогом сена» Клода Моне и стоял, пока Анна не спросила его осторожно, не хочет ли он пройти далее. Не отрывая взгляда от картины, он задумчиво произнес:
– Ты понимаешь… Это ведь не просто искусство. Тебе не кажется, что здесь нет предмета?.. А оторваться невозможно. Волнует и покоряет… Встань вот так… вот здесь… Ты видишь?
Она соглашалась. Впрочем, были ли моменты в их жизни, когда она в чем-то не соглашалась со своим Васенькой?
И все-таки Анне все чаще казалось, что их чувства остывают, что они, если еще не охладели друг к другу, то скоро это может случиться.
Вскоре в Большом давали «Лоэнгрин» Вагнера. Они и раньше не пропускали премьер, а теперь пропустить было никак невозможно!
Ожидание царило в доме.
За ужином Анна вспоминала с улыбкой, как шестилетний Васенька был ее Лоэнгрином, а он, ложечкой помешивая чай, улыбался.
Они немного поспорили о том, где удобнее слушать оперу: Анна предпочитала ложу, а Василий любил слушать в партере, и она, как обычно, уступила.
Когда был объявлен антракт, Василий, еще не поднявшись с кресла, обернулся к Анне и порывисто сжал ее руку:
– Это божественно! Я так рад, Аня! Вот оно – осуществление моей сказочной Москвы! Ты знаешь, Аня… Я всегда видел музыку, но так ярко, как сейчас, – никогда. Скрипки, басы и особенно духовые… Они воплощают всю силу этого предвечернего часа…
Охватившее ее чувство нежности к мужу было таким сильным, что она почувствовала, как вспыхнули щеки и сладко забилось сердце. Острое ощущение того, что жизнь всецело принадлежит ему, делало ее еще более счастливой.
Возвращались домой в удобной пролетке с крытым верхом. Ветерок кудрявил Анне выбившиеся из-под шляпки пряди, Василий поправлял их, сняв перчатку.
«Нет! – радостно думала она. – Просто показалось! Все у нас хорошо! Он любит меня по-прежнему! Сейчас он скажет что-то хорошее обо мне…»
А он опять завел речь о музыке:
– Ты знаешь, Аня… Когда я был мал, думал, что и все люди видят музыку, глазами видят, что они ощущают ее вкус и запах… Помню, что звуки ксилофона представлялись мне крошечными разноцветными ландринками, которые пахнут то яблоком, то земляникой, то лимоном. Колыбельная Чайковского согревала, словно теплое молоко с медом, которое я пил в детстве перед сном. И мне казалось, что я сижу на качающемся мостике среди сиреневых облаков… А твой голос – как я его любил! – был похож на самый ароматный, чуть перезревший дюшес… Однажды ты заплакала, уже не помню, о чем. И капельки сока дюшеса были такими сладкими!
Но вот сегодня эта музыка, эта опера… Это было необыкновенно, Аня! Представь, я ведь видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами… Бешеные, безумные линии рисовались передо мной! Ах, как бы я хотел, чтобы ты видела и чувствовала так же, дорогая моя!
«…Дорогая моя!» – У Анны кружилась голова от счастья.
Вечером за чаем Василий задумчиво сказал:
– Помнишь, ты собирала и складывала мои детские рисунки…
Она не удивилась, ничего не спросила, просто прошла в свою спальню и извлекла тисненую папку из-под груды бумаг и документов.
– Ты их хранишь?! – удивился он. – Это ведь просто детская забава!
– Это твои рисунки! – возразила Анна, делая ударение на слове «твои». – Это рисунки талантливого мальчика, ребенка с большим будущим, которое теперь наступает!
– Аня, ты веришь еще… Мне ведь скоро тридцать!
– Я верю, я знаю! – твердо ответила она, при этом с грустью подумав: «А мне тридцать шесть…»
– Да… Я на самом деле неплохо рисовал для своего возраста… Только сеньор Чинесси не был доволен моими ранними работами. Ты слышала про школу Антона Ажбе?
– Ты хочешь снова учиться?
– А почему бы и не учиться, если это интересно?
– А как же… Ты ведь собирался писать диссертацию?
Он на короткое время задумался, потом поднял на Анну, разливавшую чай, повеселевший взгляд:
– Что-то давно мы не были в Европе!
Ночью он ни на минуту не сомкнул глаз. Он должен был объяснить свое решение профессору Чупрову, человеку, так много сделавшему для его научной карьеры, глубоко уважавшему и ценившему лучшего своего ученика. Под утро сел писать ему письмо:
«Прежде всего, я убедился, что не способен к постоянному усидчивому труду. Но во мне нет еще более важного условия: нет сильной, захватывающей все существо любви к науке. А самое важное – нет веры в нее».
Он отложил перо и задумался. То, что разрушило его веру в науку, лежало на поверхности. Это была утрата чувства уверенности в знаниях человечества, после того, как Антуан Беккерель открыл распад атома и открыл самопроизвольную радиоактивность. Это было великое потрясение. И, обсуждая событие с профессором, он понимал, что и его замечательного учителя обуревают те же самые мысли.
«Рухнули толстые своды. Все стало неверным и шатким. Наука казалась уничтоженной, а ученые в заблуждении, наудачу и на ощупь, шаря рукой впотьмах, ищут истину.
Мир никогда не будет прежним. Он стал зыбок и неустойчив. Я не удивлюсь, если сейчас камень поднимется с земли и растворится в воздухе… Когда потрясены религия, наука и нравственность и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь себя».
За окном бушевала непогода. Оконное стекло позванивало от ветра. Буря, протест, мятеж, будто подтверждение правдивости и правильности избранного пути!
«Часы, проведенные в изучении юриспруденции, бледнеют при первом соприкосновении с искусством, которое только одно выводит за пределы времени и пространства.
Чем дальше, тем сильнее притягивает меня моя старая и прежде безнадежная любовь к живописи. Вплоть до тридцатого года своей жизни я мечтал стать живописцем, потому что любил живопись больше всего на свете, и бороться с этим стремлением было нелегко… Сейчас, в возрасте почти тридцати лет явилась мысль: теперь или никогда. С этим я не могу ничего поделать».
Он закончил, чувствуя, что, как ни трудно будет профессору, он поймет и простит его. Не может не понять: он ведь и сам полон кипучих творческих идей, правда, совсем иного плана.
Он пытался объяснить это Анне. Но она впервые не встала на его сторону.
– Как же диссертация? – повторяла она снова и снова. – Ведь все уже было решено! Ты должен стать профессором! Из-за какой-то зыбкой и туманной идеи бросить все! Нет, я не понимаю!
У него рухнула вера в незыблемое, у нее – надежда стать профессорской женой.
– Послушай, Аня… Ведь только что ты говорила о моей способности к живописи… И в доказательство показывала мои детские рисунки.
– Да, милый Васенька, ты и тогда был талантлив, и сейчас, безусловно, способен на многое. Но перевернуть свою жизнь, бросить перспективную должность ради какого-то туманного замысла! Нельзя же так!
– Почему?
– Потому, что профессорская должность у тебя почти в кармане!
– Аня, милая! Ты же всегда понимала, всегда я чувствовал твою дружескую поддержку… Теперь она нужна мне как никогда!
Анна грустно посмотрела на него и тихо произнесла:
– Ну что ж… Если иначе нельзя…
Мюнхен
1896
В Мюнхене сняли хорошую квартиру у реки, откуда совсем недалеко было до студии Ажбе.
Ранним утром Василий вышел из дома. Солнце поднималось над Мюнхеном. На улицах было свежо и тихо.
По тенистой аллее на берегу Изара он вышел к Зайдльштрассе и остановился полюбоваться пышными деревьями в ярчайших красках осени. Позади послышался стук копыт, мерный и звонкий. Он оглянулся и взволнованно замер. К нему, покачивая точеной головой, грациозно вздымая круглые копытца, легкой рысью бежала его Соловка. Рыже-охристая лошадка со светло-желтой, тщательно расчесанной гривой и пышным хвостом. Вожжи держал, сидя на высоком облучке, молодой немец в синей шляпе с пером, со щегольскими усиками над верхней губой. А вокруг, в золотых лучах утреннего солнца пылали жарким осенним пламенем листья платанов, ясеней и лип…
Он долго смотрел вслед одному из образов своего далекого детства, которое вдруг странно напомнило о себе здесь, в Мюнхене…
После он еще несколько раз встречал эту красивую лошадку, запряженную то в двуколку, то в раскрашенную красными и желтыми лилиями рессорную деревянную коляску, в которой позади молодого возницы сидели женщина, одетая во что-то светлое, и мальчишечка, на голове которого тоже была шляпа с полями и сизым пером. И каждый раз Василий останавливался и любовался, забыв обо всем. А немец вежливо приподнимал свою шляпу, коротко кланялся, и точно так же делал его маленький сын. И долго после этих ничего не значащих встреч у Василия было великолепное расположение духа.
Антон Ажбе, человек небольшого роста, с быстрыми черными глазами и пышными усами под крючковатым осом, называл себя то венгром, то словенцем, то австрийцем. Он говорил по-русски с легким акцентом, это придавало его речи какую-то неопределенную прелесть и вызывало интерес окружающих,
Василий сразу отметил для себя, что учитель как настоящий художник, идеально разбирающийся в тонкостях анатомии человека и на том строящий основу портрета, не считает важным выписывание мелочей в работе: всех этих морщинок, пальчиков, ноготков, ресничек и прочего, а резко, иногда даже грубовато, быстро, куском черного угля обозначает главное: то, что будет сразу выхвачено из сути живописного полотна неискушенным зрителем. Бросив небрежный взгляд на старательные труды учеников, Ажбе предлагал им рисовать тем же самым быстрым угольком.
Соученики, преимущественно молодые русские художники, порой посмеивались над пестрыми и яркими этюдиками Василия, но он не замечал их насмешки.
Но именно вокруг него быстро образовалось дружеское сообщество. Может быть, потому, что он был старшим среди них, но, вероятнее, он просто умел быть интересным окружающим, заражая их оптимизмом, бодростью тела и духа, непереносимостью безделья и смелыми творческими порывами.
Анна шла по Зендлингерштрассе, размышляя о том, что она будет делать сегодня вечером. Знакомых в Мюнхене у нее не было. Правда, сохранился адрес гимназической подруги-одесситки Лидии Званицкой, давно перебравшейся в Европу. Лидия изредка писала ей в Москву, сообщая о главных событиях своей жизни – замужестве, рождении детей, разводе и новом замужестве. Анна намерена была разыскать ее по адресу, обрадовать и удивить своим появлением.
Она зашла в уличную кондитерскую «Ренессанс», заказала чашечку кофе и вазочку крошечных бисквитов, покрытых розовой глазурью. За соседним столиком молодая дама, миловидная, чуть полноватая, в белом кружевном платье и шляпе с розами вокруг тульи, наслаждалась роскошными пирожными с пышным бело-розовым кремом. Она со скучающим видом обернулась к Анне, и вдруг лицо ее оживилось.
– Анна! – воскликнула она так громко, что официант едва не выронил кофейник. – Анна, не узнаешь?! Это же я, Вера! Ну, Верочка! Помнишь?!
Анна, удивленная, обрадованная, кинулась к своей давней подруге, они обнялись и расцеловались, смеясь и восклицая.
Верочка жила в Германии уже несколько лет. Она вышла замуж за немца-чиновника, с которым познакомилась во время поездки с родителями в Европу, обзавелась массой новых друзей, родила двух дочек – Катеньку и Мусю, которые сейчас гостят у бабушки в Одессе. Муж на службе в Берлине, а она тем временем от скуки отправилась в Мюнхен навестить друзей и полюбоваться немецкой стариной.
Какое счастье эта встреча с Анной! Она, конечно, слышала, что Анна вышла за Василия, как он? Как их жизнь? Почему в Мюнхене? Есть ли у них детки? А Аристарх? Он рядом? Женат? Как умер?! Ах, бедный, бедный, милый, милый Аристарх!
Заказали поминального кагора, поплакали об Аристархе, которого Верочка, помня твердость духа его, называла «железным мальчиком». Погрузились в воспоминания о детских годах, о юности, о прекрасном любимом городе, где было столько хорошего…
– А ты, я вижу, совсем не торопишься? Вася же, наверное, ждет? Как это, целыми днями пропадает в своей студии? Зачем он решил заниматься живописью, ведь уже не мальчик! И как его успехи на новом поприще? Антон Ажбе? Ну, как же, конечно слышала! Это пьющий, опускающийся человек! Говорят, хороший художник, но его чаще видят в дешевых ресторанах, чем в галереях… Ты этого не знала? Сомневаюсь, что он может кого-то чему-то научить! Ну вот, ты же сама говоришь, что Васины успехи не блестящи! Ничего, не расстраивайся, Аня! Увлечение живописью может быстро угаснуть. Помнишь ведь, он чем только не увлекался! И музыкой, и поэзией, и юридическими науками! И стихи писал! Помню его стихи. «Индейская песня», кажется. Они с Аристархом всё в индейцев играли. Помнишь?
Вернувшись домой, Василий наткнулся на осуждающий взгляд жены.
– Я сегодня в кондитерской встретила Верочку. Да, да, нашу подружку детства и юности. Помнишь? Она постоянно живет в Берлине. Замужем за каким-то крупным чином. Прекрасно одета, ухожена… Немного располнела. Ей идет.
– Отлично! Вы весело провели время?
– Да, разговор с ней доставил мне удовольствие. Ведь у тебя совсем нет времени для меня…
– Ты должна меня понять. Я приехал учиться. Мне предстоит многое узнать, многое постичь…
– Так вот. Она хорошо знает твоего хваленого учителя Антона Ажбе. И совсем не высокого о нем мнения.
– Да, да, я отлично ее помню. У нее всегда было свое мнение об окружающих… – сказал он с иронией.
Анна отвернулась к окну и грустно произнесла:
– Тебе хорошо здесь. У тебя интересная жизнь, новые друзья. Ты занят учебой, ты увлечен искусством. А обо мне ты забыл.
– Ну, нет, ты не права, Аня. Ты по-прежнему мой близкий друг и любимая жена. И если уж тебе не нравится Ажбе… Вам с Верочкой не нравится… Я планирую скоро поступить в академию художеств Франца фон Штука.
– Опять учиться! – воскликнула Анна. – Так, может быть, мне лучше вернуться в Москву?!
Он подошел ближе, чтобы обнять жену, но она уклонилась и ушла в свою спальню.
На следующий день, проснувшись в невеселом настроении, он не пошел в студию. Сказать по правде, ему порядком надоели скучные занятия по рисунку.
– Ты сегодня никуда не торопишься? – спросила Анна.
– Я, пожалуй, отправлюсь на пленэр, – ответил он, собирая этюдник. – Если хочешь, пойдем со мной.
– Нет, это скучно. Мы договорились с Верочкой встретиться сегодня в том же кафе.
– Ну и прекрасно. Желаю хорошего дня.
Уже не в первый раз вместо того, чтобы заниматься в студии, он отправился на пленэр…
Ему уже давно не нравилась методика Ажбе. К тому же он понимал, что, беседуя с его женой, в оценке деятельности учителя Верочка была не так уж и не права…
Впрочем, через короткое время его ждали в академии художеств Франца фон Штука.
Он вошел в студию, оглядывая просторный зал.
Тут и там – скульптурные работы, часть из которых не закончена. Полет силы, мощи, стремительности, от которого захватывало дух.
Он остановился, переводя взгляд с одной фигуры на другую. У окна за мольбертом заметил стройный девичий силуэт и даже не сразу понял, что это живой человек, а не скульптура. Девушка оглянулась на него. Красивым ее лицо назвать было нельзя, скорее, по-юному милым. Приподнятые стрельчатые брови, узкий подбородок и опущенные уголки рта придавали выражение некоторой детской обиды, легкие подвижные руки дополняли кроткий образ.
Кандинский поклонился, она кивнула и отвернулась к своей работе.
В студию быстрым шагом вошел Франц фон Штук. Красивый человек с гордой осанкой и строгим выражением лица. Он обратился к Кандинскому:
– Друг мой! Рассчитываю на вашу поддержку и помощь в обучении молодых художников!
– Но ведь я сам приехал учиться… – после паузы, несколько растерянно ответил Василий.
– Вы обучались в мастерской Антона Ажбе! – уверенно возразил Штук. – Мне хорошо известна не только его методика обучения, но и его мнение о вашем несомненном таланте!
Василий искренне удивился, припомнив ироничное отношение прежнего учителя к его этюдам. Позже он узнал, что с таким же предложением великий маэстро обращался и к другим начинающим художникам, якобы это заставляло их больше стараться в студии.
Девушка остановила на нем внимательный взгляд.
– Габриэле Мюнтер, – представилась она, протягивая узкую невесомую ладонь. Василий склонился к ее руке, коснулся губами шелковой кожи. Девушка смутилась оттого, что пальцы были испачканы краской, и ее бледные щеки слегка порозовели.
В то время Кандинский редко брался за кисти, предпочитая работать мастихином. Ему казалось, что это дает возможность более яркого и насыщенного цвета.
Фон Штук внимательно разглядывал его работы, и Василий не мог понять, одобряет ли учитель, нравятся ли они ему. В какой-то момент, покачав красивой породистой головой, маэстро предложил ему начать рисовать исключительно в черно-белой гамме.
Это было интересно, но слишком непривычно и потому непросто. Но таков был план обучения в академии.
Кандинский был влюблен в яркое многоцветье, поэтому ему непросто было освоить неожиданную технику. Но, как в любой момент его жизни, открытой всему новому, он сосредоточенно взялся за дело.
Целый год он посвятил черно-белому. Этот процесс не был слишком увлекательным, но необходимым для достижения цели. Он знал, что дороги искусства и ремесла идут параллельно, но они отнюдь не прямые.
Работая рядом с Габриэле, он с интересом, отрываясь от своего мольберта, разглядывал ее рисунки.
Они не казались ему совершенными – они казались особенными. Иногда хотелось, как было принято в мастерской Ажбе, уточнить и подчеркнуть главную мысль картины. При этом он не ощущал себя ни величиной в живописи, ни даже просто более знающим художником.
Как он узнал от маэстро фон Штука, девушка была выпускницей дюссельдорфской частной художественной школы, недавно вернувшейся из двухлетнего путешествия по Соединенным Штатам. Она неплохо разбиралась в последних течениях в искусстве, имела и свой взгляд, и свою манеру письма, и собственный стиль.
Она не была лишена манеры самолюбования, но писала автопортреты не перед зеркалом и не по памяти, а поздними вечерами с отражения в стекле окна. Тогда, из-за неясности, нечеткости, портрет приобретал загадочные, слегка размытые черты и становился странно манящим. Впрочем, были у нее и реалистически точные работы, которые она отчего-то не очень любила демонстрировать.
У нее была подруга, Марианна Веревкина, дивившая Кандинского тем, что держала кисть, зажав между средним и безымянным пальцами правой руки, которая у нее была изуродована: указательный палец отсутствовал, большой был лишен первой фаланги.
Осторожно расспросив о ней Габриэле, он узнал удивительные подробности. Отец ее был генералом, крупным военачальником, мать писала иконы, бабушка – известная детская писательница Анна Дороган из старинного аристократического рода.
Едва ли не с младенчества Марианна обучалась всем известным видам искусства. Кандинский с некоторым удивлением заметил, что у них очень много общего. Как и он, в раннем детстве Марианна объездила с родителями Европу. Увлекалась музыкой, играла на фортепиано и виолончели, до тех пор, пока ее правая рука была в порядке. Увлеченно писала стихи, которые регулярно публиковались в журнале «Русская новь». Но только живопись была смыслом ее жизни. Она брала частные уроки у Прянишникова и Поленова, два года обучалась у Ильи Репина. Великий маэстро гордился своей выдающейся ученицей и ценил ее замечательные способности, трудолюбие и неутомимость в работе. Как-то он сказал о Марианне: «Эта девушка – русский Рембрандт!»
За ней ухаживали, за ее руку боролись граф Алексей Воронцов и Жан Бенуа. Владимир Толь писал ей страстные и нежные письма и романтические стихотворные послания.
Как и многие богатые русские дворянки, Марианна увлекалась не только танцами, но и охотой с борзыми и гончими. Случилось так, что однажды увлечение дорого ей обошлось: ей прострелили руку. Кто это сделал, как это произошло, навсегда осталось для окружающих тайной. Ее расспрашивали, настаивали на ответе, но даже родители ничего не узнали. «Случайный выстрел, – отвечала она на все вопросы, и иногда саркастически добавляла: – Теперь претендентов на мою руку поубавилось. Такая рука никому не нужна…»
Прошлых воздыхателей как ветром сдуло, и было похоже, что они просто чего-то испугались…
Габриэле
1901
Кандинский быстро сдружился с другими русскими художниками – учениками Штука.
Вечерами они вели долгие беседы о последних тенденциях в живописи, о стилях и течениях, об особенностях национальных художественных традиций. Обсуждали структуру цвета и спорили о его воздействии на зрителя, говорили о синестетической музыкальности оттенков.
Решение создать творческое объединение для ищущих новые пути в искусстве возникло само собой. Рольф Ницки, Вальдемар Хеккель, Вильгельм Хюсген, Дмитрий Кордовский и, наконец, Василий Кандинский стали основателями и организаторами его, и имя ему было «Фаланга».
Марианна шутила:
– Взамен утраченной фаланги пальца у меня есть теперь великолепная «Фаланга»!
Одновременно с «Фалангой» они открыли школу художественного творчества, где планировали обучать живописи молодежь.
В другие подобные учреждения женщин не брали. Но, когда на пороге появились Габриэле Мюнтер и Марианна Веревкина, Кандинский сказал единомышленникам:
– Современность требует изменить отношение к образованию дам. Тем более способности наших барышень несомненны!
Они стали одними из первых учениц в прямом и переносном смысле, записавшись сразу на два курса: скульптурный к Вильгельму Хюсгену и живописный к Василию Кандинскому.
В те дни Габриэле писала сестре в Берлин:
«Для меня было совершенно новым художественным впечатлением то, как Кандинский принципиально иначе, чем другие мои учителя, все подробно и основательно объяснял. Он воспринимал меня как сознательно устремленного к своим целям человека, способного ставить перед собой собственные задачи».
Между тем и учитель восхищался ученицей:
– Тебя ничему нельзя научить. У тебя все от природы. Единственное, что я могу для тебя сделать, это оберегать и пестовать твой дар, чтобы к нему не пристало ничего неверного!
Для выезда на пленэр подыскали отличное местечко: Кохельское озеро.
Вокруг цветущие лужайки, поля с овечьими стадами, зеленые дубравы, веселые птичьи трели. И отсутствие любопытных глаз. Изредка проедет мимо селянин на возу сена, вежливо поздоровается, может быть, и спросит о чем-то, но не настойчиво и не назойливо. Ученики и в особенности ученицы, пришедшие вслед за Габриэле и Марианной в художественную школу, были довольны выбором места.
