Джозеф Антон. Мемуары
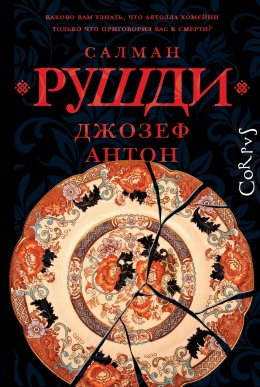
Уильям Шекспир,“Буря”[1]
- Прошлое – пролог. Что будет,
- Вам совершать и мне.
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
© Salman Rushdie, 2012
All Rights Reserved
© Д. Карельский, перевод на русский язык (главы 1,2), 2012
© Л. Мотылев, перевод на русский язык (пролог, главы 3-10), 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство ACT”, 2024
Издательство CORPUS ®
Пролог
Первая птица
Потом, когда вокруг него взрывался мир, когда гибельные черные дрозды облепляли каркас для лазанья на школьном дворе, он досадовал на себя, что забыл фамилию репортерши Би-би-си, которая сообщила ему, что старая его жизнь кончена и впереди новое, мрачное существование. Она позвонила ему домой и не стала объяснять, кто ей дал телефонный номер. “Каково вам, – спросила она, – узнать, что аятолла Хомейни только что приговорил вас к смерти?” Лондон, вторник, солнце – но вопрос заставил утренний свет померкнуть. Он ответил, не понимая толком, что говорит: “Приятного мало”. А подумалось: я мертвец. Он задался вопросом, сколько еще дней ему отпущено, и ответом, казалось, должно было послужить однозначное число. Он положил трубку и бросился из своего кабинета на первый этаж узкого дома в Излингтоне, стоявшего впритык к таким же узким домам. Окна гостиной закрывались деревянными ставнями, и он, хоть в этом не было никакого смысла, запахнул их и запер. Потом запер и входную дверь.
Был День святого Валентина, но с женой, американской писательницей Мэриан Уиггинс, отношения у него в последнее время разладились. Хотя с тех пор как они поженились, прошел только год с небольшим, шесть дней назад она сказала ему, что несчастлива с ним, что ей “совсем не так хорошо, как раньше”, да и он понимал уже, что их брак – ошибка. Сейчас она смотрела, как он, гальванизированный новостью, словно весь под током, нервно мечется по дому, занавешивает окна, проверяет задвижки и шпингалеты, и ему пришлось объяснить ей, что происходит. Отреагировала она достойно – стала обсуждать с ним, как быть дальше. Использовала слово “мы”. Да, это было храбро.
К дому подкатила машина американского телеканала Си-би-эс. У него была договоренность, что он отправится к ним в студию в Найтсбридж, в Боуотер-Хаус, где в прямом эфире выступит в утренней программе, передаваемой через спутник.
– Я не могу это отменить, – сказал он жене. – Прямой эфир. Нельзя просто взять и отказаться.
Позднее в то утро в православной церкви на Москоу-роуд в Бэйсуотере должна была пройти служба в память его друга Брюса Чатвина[2]. Меньше двух лет назад он отпраздновал с Брюсом его сорокалетие в его доме в Хомер-Энде, графство Оксфордшир. И вот Брюс умер от СПИДа, а теперь и в его дверь постучалась смерть.
– А с церковью как же? – спросила жена. Он не знал, что ответить. Отпер входную дверь, вышел, сел в машину и поехал, не придавая особого значения расставанию с жилищем, не зная, что вернется в этот дом, где обитал пять лет, только через три года, когда дом уже будет не его.
Дети в школьном классе в Бодега-Бэй, штат Калифорния, поют печальную бессмысленную песенку. Раз в год она в руки брала расческу, шуршики-пуршики, мо-мо-мо. За окнами школы дует холодный ветер. Прилетает один черный дрозд и усаживается на каркас для лазанья на пришкольной площадке. Песенка детей движется по кругу. Она начинается, но конца не имеет. Повторяется и повторяется. Взъерошит, пригладит, уронит слёзку, шуршики-пуршики, хей-бомбуршики, кричики-крячики, переворачики, тренчики-бренчики, мо-мо-мо. Вот уже четыре черных дрозда на каркасе, к ним летит пятый. Дети в школе поют и поют. Сотни черных дроздов облепили каркас, а в небе их тысячи – казнь египетская. Песня началась, а конца ей не будет.
Когда на каркас опускается первая птица, она кажется чем-то единичным, частным, особенным. И нет как будто необходимости выводить из ее присутствия общую теорию, включать ее в некую широкую картину. Позднее, когда начинается бедствие, казнь, легко увидеть в этой первой птице предвестье. Но сейчас, когда она только села на каркас, это всего-навсего одна птица.
В последующие годы он будет видеть эту сцену во сне, понимая, что его история – своего рода пролог, повесть о том, как прилетела первая птица. Поначалу это касается только его – единичный, частный, особенный сюжет. Из которого никому не хочется делать далеко идущих выводов. Двенадцать с лишним лет пройдет, прежде чем эта история заполонит собой небо, подобно архангелу Джабраилу, возвышающемуся над горизонтом, подобно двум самолетам, врезающимся в два высоких здания, подобно казни птицами в великом фильме Альфреда Хичкока[3].
В Си-би-эс он почувствовал себя новостью дня. Люди в отделе новостей и те, кто вещал с разнообразных мониторов, уже произносили слово, которое вскоре повиснет у него на шее как жернов. Они произносили его так, словно оно было синонимом “смертного приговора”, и ему хотелось возражать, педантично втолковывать им, что оно имеет другой смысл. Но с этого дня для большинства людей на земле оно будет иметь ровно такой смысл, и никакого другого. И для него в том числе.
Фетва.
“Я извещаю неустрашимых мусульман всего мира, что автор книги “Шайтанские аяты”, направленной против ислама, Пророка и Корана, а также все, кто, зная ее содержание, был причастен к ее публикации, приговариваются к смерти. Призываю мусульман казнить их, где бы они их ни обнаружили”. Когда его вели в студию на интервью, кто-то дал ему распечатанный текст. И опять его старому “я” хотелось спорить, на сей раз со словом “приговор”. Потому что это не был приговор, вынесенный тем или иным судом – судом, который он бы признавал или который имел бы над ним юрисдикцию. Это был указ, выпущенный жестоким умирающим стариком. И в то же время он понимал, что привычки его старого “я” больше не имеют значения. Он уже был другим человеком. Он был человеком в глазу бури, уже не тем Салманом, какого знали его друзья, а Рушди, автором книги, которую, исказив название, превратили в книгу “Шайтанских аятов”. Он написал роман “Шайтанские аяты”[4], но выходило, будто он – автор неких аятов, продиктованных ему шайтаном, он был теперь “шайтан Рушди”, рогатое чудовище на плакатах в руках у демонстрантов на улицах далекого города, повешенный с красным вывалившимся языком на грубых карикатурах, которые они несли. Повесить шайтана Рушди! Как легко оказалось стереть прошлую жизнь человека и соорудить новую версию его личности, неодолимую, которую, кажется, не побороть!
Король Карл I заявлял, что суд, вынесший ему смертный приговор, не имел над ним юрисдикции. Это не помешало Оливеру Кромвелю отрубить ему голову.
Он не был королем. Он был автором книги.
Он смотрел на журналистов, смотревших на него, и мелькнула мысль: не так ли разглядывают тех, кого ведут на виселицу, на электрический стул, на гильотину? Одного иностранного корреспондента, который, похоже, проникся к нему дружескими чувствами, он спросил, как ему относиться к заявлению Хомейни. Насколько это серьезно? Пустая пропагандистская угроза или нечто по-настоящему опасное?
– Не придавайте большого значения, – сказал ему журналист. – Президента Соединенных Штатов Хомейни каждую пятницу приговаривает к смерти.
Во время телепередачи, когда его спросили о его реакции на угрозу, он сказал: “Знал бы – написал бы еще более острую книгу”. Он гордился этим ответом – и в тот день, и неизменно потом. Это была правда. Он не считал, что очень уж остро критикует в своей книге ислам, но, как он заявил тем утром по американскому телевидению, религия, чьи лидеры так себя ведут, вероятно, заслуживает некоторой критики.
После интервью ему сообщили, что звонила жена. Он перезвонил домой.
– Сюда не возвращайся, – сказала она ему. – Тут тебя поджидают сотни две журналистов.
– Я поеду в агентство, – сказал он. – Собери сумку, и встретимся там.
Его литературное агентство “Уайли, Эйткен и Стоун” располагалось в белом здании с лепниной на Ферншоро-уд в Челси. Журналистов снаружи не было: мировая пресса явно не предполагала, что в такой день он отправится к своему агенту, – но, когда он вошел, все телефоны в здании звонили, и все звонки были о нем. Гиллон Эйткен, его британский агент, уставился на него с изумлением. Гиллон разговаривал по телефону с британцем индийского происхождения Китом Вазом, депутатом парламента от Восточного Лестера. Он прикрыл трубку рукой и прошептал:
– Хочешь с ним поговорить?
По телефону Ваз тогда сказал, что случившееся “ужасает, просто ужасает”, и пообещал свою “полную поддержку”. А через несколько недель он был одним из главных ораторов на демонстрации против “Шайтанских аятов”, в которой участвовало более трех тысяч мусульман, и назвал это событие “одним из великих дней в истории ислама и Великобритании”.
Он обнаружил, что не в состоянии думать о будущем, что понятия не имеет, какие очертания теперь примет его жизнь, что не может строить планов. Он мог сосредоточиться только на ближайшем, а ближайшим была служба в память Брюса Чатвина. “Ну что, мой милый, – сказал ему Гиллон, – думаешь, тебе стоит ехать?”
Он принял решение. Брюс был его близким другом. “Стоит, не стоит – мне насрать, – сказал он. – Едем”.
Появилась Мэриан, глаза блестели слегка безумным блеском, ее вывела из равновесия атака фотографов, налетевших на нее, когда она вышла из дома 41 по Сент-Питерс-стрит. На следующий день этими глазами она будет смотреть с первых страниц всех газет страны. Одна из газет дала ее взгляду название, которое напечатала аршинными буквами: ЛИК СТРАХА. Она была немногословна. Он тоже. Сели в его черный “сааб”, и он повел машину через парк в Бэйсуотер. Гиллон Эйткен с озабоченным лицом, сложив пополам свою длинную томную фигуру, ехал на заднем сиденье.
Его мать и самая младшая из сестер жили в Карачи. Что их теперь ждет? Средняя сестра, давно отколовшаяся от семьи, жила в Беркли, штат Калифорния. Не опасно ли ей там будет? Самин, его сестра-погодок, жила с семьей в северном лондонском пригороде Уэмбли, недалеко от знаменитого стадиона. Как их защитить? Его сын Зафар, которому было девять лет и восемь месяцев, жил со своей матерью Клариссой в доме 60 по Берма-роуд, около Грин-Лейнз и Клиссолд-Парка. Десятый день рождения Зафара казался в тот момент далеким-далеким. “Папа, – спросил его однажды Зафар, – почему ты не пишешь таких книжек, чтобы я мог их читать?” Это заставило его вспомнить строчку из St. Judy’s Comet – колыбельной песни Пола Саймона для его младшего сына. Если я не могу моего малыша убаюкать – чего она стоит, вся моя популярность? “Хороший вопрос, – ответил он Зафару. – Дай только окончить книгу, которую сейчас пишу, и тогда возьмусь за книгу для тебя. Договорились?” – “Договорились”. Книгу он окончил, она вышла в свет, но написать новую он вряд ли успеет. Обещание, данное ребенку, нельзя нарушать, подумалось ему, и его бурлящий мозг тут же сделал идиотскую добавку: но смерть автора – случай особый.
Мысль об убийстве была неотвязна.
Путешествуя пять лет назад с Брюсом Чатвином по “красному центру” Австралии, взяв в Алис-Спрингс на заметку граффити: СДАВАЙСЯ, БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТВОЙ ГОРОД ОКРУЖЕН, он с трудом поднимался на скалу Айерс-Рок, в то время как Брюс, гордый своим недавним восхождением к базовому лагерю на Эвересте, бодро скакал вперед, словно по самому пологому из склонов, а местные проводники рассказывали про так называемое “дело о ребенке и динго”[5]; в захудалом “Инланд-мотеле”, где они остановились, годом раньше тридцатишестилетний водитель-дальнобойщик Дуглас Крабб обиделся на бармена, отказавшегося налить ему еще, потому что он и так уже был хорош, начал грубить, был вышвырнут и тогда, сев за руль своего грузовика, на полном ходу врезался в бар и убил пять человек.
Крабб как раз давал показания в суде в Алис-Спрингс, и они зашли послушать. Шофер был одет скромно, глаза опущены, говорил тихим, ровным голосом. Он настойчиво утверждал, что он не из тех, кто способен так поступить, и на вопрос, почему он в этом настолько уверен, ответил, что водил грузовики много лет, “ухаживал за ними, как за своими собственными” (на этом месте – секундная пауза, и непроизнесенным словом в ней могло быть “детьми”), и вот так взять и разбить машину – совсем не в его характере. Лица присяжных, когда они это услышали, заметно посуровели, и стало ясно, что на оправдание ему рассчитывать нечего. “Я убежден, – прошептал Брюс, – что он говорит чистую правду”.
Бывают убийцы, для которых грузовики ценнее, чем люди. Пять лет спустя, возможно, другие убийцы уже отправились в путь, чтобы расправиться с писателем за кощунство, и вера – точнее, некое особое ее понимание – была тем грузовиком, который они любили больше, чем человеческую жизнь. Это кощунство, напомнил он себе, у него не первое. Восхождения на Айерс-Рок, вроде того, что совершили они с Брюсом, потом запретили. Скалу, священную для аборигенов, передали им обратно, вернув ей древнее название Улуру, и туристов перестали на нее пускать.
Именно тогда, в 1984 году, в самолете, на обратном пути из Австралии, он начал понимать, как написать “Шайтанские аяты”.
Служба в соборе Святой Софии – греческом православном соборе Фиатирской и Великобританской архиепископии, построенном и щедро украшенном но лет назад по образцу величественного византийского храма, прошла на звучном, таинственном греческом языке. В ритуалах была византийская пышность. Гур-гур-гур Брюс Чатвин, выводили священнослужители, гур-гур Чатвин гур-гур. Вставали, садились, преклоняли колени, вставали, опять садились. Стояла крепкая вонь от священных каждений. Он вспомнил, как в детстве, когда они жили в Бомбее, отец в мусульманский праздник Ид уль-Фитр повел его молиться. На идгах — молитвенном поле – звучал только арабский, коленопреклоненные люди стукались о землю лбами, вставали на ноги, делали перед собой из ладоней подобие раскрытой книжки, бормотали незнакомые слова на непонятном ему языке. “Просто делай как я”, – сказал ему отец. Семья была не религиозная, и в таких ритуалах они участвовали крайне редко. Он не выучил никаких молитв и не знал, что они означают. Лишь имитировал, бывало, чужие движения и бормотал, не понимая, заученные фразы. И поэтому бессмыслица церковной службы на Москоу-роуд показалась ему знакомой. Они с Мэриан сидели рядом с Мартином Эмисом[6] и его женой Антонией Филлипс. “Мы за тебя очень беспокоимся”, – сказал Мартин, обнимая его. “Я и сам за себя беспокоюсь”, – отозвался он. Гур-Чатвин-гур-Брюс-гур. На один ряд дальше от алтаря сидел писатель Пол Теру. “Ну что, Салман, на следующей неделе твоя очередь отпеваться?” – спросил он.
Когда они приехали, у церкви была всего какая-нибудь пара фотографов. Писателей папарацци обычно не слишком жалуют вниманием. Но во время службы журналисты один за другим начали проникать в церковь. Одна непостижимая религия предоставила площадку для новостного сюжета, порожденного непостижимо зверской атакой со стороны другой религии. Один из худших аспектов случившегося, – писал он позднее, – в том, что непостижимое стало постижимым, невообразимое – вообразимым.
Служба завершилась, и журналисты стали проталкиваться к нему. Гиллон, Мэриан и Мартин пытались его от них оградить. Один особенно настырный серый субъект (серый костюм, серые волосы, серое лицо, серый голос) протиснулся через толпу, выставил микрофон и принялся задавать очевидные вопросы.
– Извините, – сказал он серому, – но я здесь на церковной службе в память моего друга. Неподходящее место для интервью.
– Вы меня не поняли, – озадаченно проговорил тот. – Я из “Дейли телеграф”. Меня послали специально.
– Гиллон, выручай, – попросил он.
Огромного роста Гиллон наклонился к репортеру и твердо, своим самым величественным тоном, произнес:
– А ну пошел в задницу.
– Вы не имеете права так со мной разговаривать! – возмутился сотрудник “Телеграф”. – Я выпускник частной школы.
На этом смешное закончилось. Когда он вышел на Москоу-роуд, журналисты роились там, как трутни, осаждающие пчелиную матку, фотографы забирались друг другу на плечи, образуя шаткие конструкции, стреляющие вспышками. На мгновение он растерялся – стоял моргал, не знал, куда двинуться.
Казалось, от них не спастись. Дойти до машины, припаркованной в ста шагах, невозможно было без свиты из людей с фотоаппаратами, людей с микрофонами, выпускников всевозможных школ, посланных специально. Избавителем стал его друг Алан Иентоб, телевизионщик с Би-би-си, с которым он познакомился восемь лет назад, когда Алан сделал документальный фильм для телесериала “Арена” – о молодом писателе, чей недавно опубликованный роман “Дети полуночи” имел успех. У Алана был брат-близнец, но многие говорили: “Салман – вот кто выглядит как твой близнец”. Они с Аланом возражали, однако такое мнение бытовало. И в тот день для Алана явно было предпочтительней, чтобы его не принимали за его неродного “близнеца”.
Алан в машине Би-би-си подкатил прямо к церкви. “Залезай”, – скомандовал он, и они уехали, оставив позади крикливых журналистов. Некоторое время ездили вокруг Ноттинг-Хилла, пока толпа около церкви не рассосалась, потом направились к припаркованному “саабу”.
Они с Мэриан сели в его машину – и вдруг оказались одни, тишина тяжко давила на обоих. Радио в машине включать не стали, зная, что новости будут напичканы злобой. “Куда двинемся?” – спросил он, хотя оба знали куда. Мэриан недавно сняла маленькую полуподвальную квартирку в юго-западном углу площади Лонсдейл-сквер в Излингтоне, недалеко от дома на Сент-Питерс-стрит, – якобы для того, чтобы там работать, но на самом деле из-за нараставшего напряжения между ними. О существовании этой квартиры знали очень немногие. Там они могли укрыться на время, оценить ситуацию и принять какие-то решения. В Излингтон ехали молча. Говорить было не о чем – так казалось.
Мэриан была отличная писательница и красивая женщина, но он порой обнаруживал в ней то, что ему не нравилось.
Переехав к нему, она оставила на автоответчике его друга Билла Бьюфорда, редактора журнала “Гранта”, сообщение, что ее телефон изменился. “Мой новый номер тебе, может быть, знаком, – услышал Билл дальше, а затем, после паузы, которая его встревожила, прозвучало: – Я его захомутала”. Он сделал ей предложение в сумятице чувств из-за смерти отца в ноябре 1987 года, и отношения между ними довольно быстро начали портиться. Все его лучшие друзья – Билл Бьюфорд, Гиллон Эйткен, американский коллега Гиллона по агентству Эндрю Уайли, актриса и писательница из Гайаны Полин Мелвилл – и сестра Самин, которая неизменно была ему ближе, чем кто бы то ни было, в один голос стали признаваться, что никогда не были от нее в восторге. Если у тебя в семье нелады, подобные дружеские признания, конечно, вещь обычная, и он делал на это скидку, – но он сам несколько раз поймал ее на лжи и был этим потрясен. За кого она его держит? Она часто выглядела недовольной и имела привычку, говоря с ним, смотреть куда-то через его плечо, точно обращалась к призраку. Она всегда привлекала его умом, остроумием, и это никуда не исчезло, как и физическое влечение: хороши были ниспадающие волны ее рыжеватых волос, ее полные губы, ее широкая американская улыбка. Но она стала ему непонятна, и он ловил себя на мысли, что женат на незнакомке. На женщине в маске.
Однако в это послеполуденное время их личные затруднения выглядели малозначащими. В этот день по улицам Тегерана шли толпы с плакатами, на которых было его лицо с выколотыми глазами, похожее на лица трупов в “Птицах” с почерневшими, окровавленными, расклеванными глазницами. Вот каким был сюжет дня: несмешная валентинка, полученная им от этих бородатых мужчин, от этих закутанных женщин, от этого умирающего у себя в комнате злобного старика, пожелавшего напоследок увеличить свою особую мрачную, смертоносную славу. Придя к власти, имам уничтожил многих из тех, кто привел его к ней, он убивал всех, кто ему не нравился. Профсоюзных деятелей, феминисток, социалистов, коммунистов, гомосексуалистов, проституток, а также своих бывших приспешников. В “Шайтанских аятах” был выведен такой имам – имам, ставший чудовищем, чья огромная пасть пожирает его собственную революцию. Реальный имам вовлек свою страну в бессмысленную войну с соседним государством, в которой, пока старик не дал отбой, погибли сотни тысяч его молодых сограждан – целое поколение. Имам заявил, что помириться с Ираком – все равно что принять яд, и он принял-таки его. После этого мертвые возопили против имама, и его революция стала непопулярна. Понадобился способ мобилизовать ее сторонников, и для этого пригодились книжка и ее автор. Книжку объявили дьявольской, автора – дьяволом, и так возник враг, в котором имам нуждался. Этим врагом был писатель, затаившийся в полуподвальной квартире в Излингтоне вместе с женой, с которой они было почти расстались. Вот что представлял собой дьявол, необходимый умирающему имаму.
Школьный день уже кончился, и ему надо было повидаться с Зафаром. Он позвонил Полин Мелвилл и попросил ее побыть с Мэриан, пока он съездит к сыну. В начале восьмидесятых она была его соседкой на Хайбери-Хилле – щедро жестикулирующая, сердечная, смешанного происхождения женщина с блестящими глазами, актриса, готовая бесконечно рассказывать разные разности – про родную Гайану, где один из ее предков Мелвиллов познакомился с писателем Ивлином Во, показывал ему страну и, по ее словам, послужил прототипом мистера Тодда из “Пригоршни праха”, старика с причудами, не отпускавшего Томми Ласта из своего домика в джунглях и заставлявшего его без конца читать ему вслух Диккенса; про то, как она вызволила своего мужа Ангуса из Иностранного легиона, стоя у ворот форта и крича, пока его не отпустили; про то, как она играла маму Адриана Эдмондсона в популярном комедийном телесериале “Молодежь”. Выступая с комическими номерами на эстраде, она изобрела мужской типаж – субъекта, который “сделался таким опасным и страшным, что пришлось перестать его играть”, сказала она. Она записала несколько своих историй про Гайану и показала ему. Получилось очень-очень здорово, и ее первую книгу “Оборотень”, в которой они были собраны, приняли весьма благосклонно. Этой твердой, практичной и преданной друзьям женщине он доверял безоговорочно. Она приехала тут же, не говоря ни слова, несмотря на свой день рождения и на то, что была невысокого мнения о Мэриан. Он с облегчением оставил Мэриан в полуподвале на Лонсдейл-сквер и один поехал на Берма-роуд. Прекрасный день с зимним солнцем, чье изумительное сияние казалось упреком далеко не прекрасным мировым новостям, уже кончился. Февральский Лондон, по которому школьники шли домой, был темен. Когда он подъехал к дому Клариссы и Зафара, полиция была уже там.
– А, вот и вы, – сказал ему полицейский. – Мы тут как раз думали, где вас искать.
– Что происходит, папа?
У сына было такое выражение лица, какого никогда не должно быть у девятилетнего мальчика.
– Я объяснила ему, – бодрым тоном промолвила Кларисса, – что тебя будут хорошенько охранять, пока эта туча не пройдет, а потом будет полный порядок.
Она обняла его, как не обнимала пять лет, с тех пор как они расстались. Она была первой женщиной, которую он любил. Они познакомились 26 декабря 1969 года, за пять дней до конца шестидесятых, когда ему было двадцать два, ей – двадцать один. Кларисса Мэри Луард. У нее были длинные ноги и зеленые глаза, в тот день она надела хипповское замшевое пальто, поверх тугих каштановых кудрей – головная повязка, и от сияния, которое она излучала, светлели все сердца. У нее были друзья в мире поп-музыки, которые прозвали ее Хэппили (это прозвище благополучно – happily – приказало долго жить вместе с шальным десятилетием, которое его породило), и была пьющая мать, а отец, бывший военный летчик, вернувшийся со Второй мировой контуженым, покончил с собой, прыгнув с крыши здания, когда ей было пятнадцать. У нее была гончая по кличке Безделушка, которая мочилась на ее кровать.
Много всякого было заперто в ней под этой лучезарностью; она не хотела, чтобы люди видели набегающие на нее тени, и, когда ей делалось печально, закрывалась у себя в комнате. Может быть, ощущала тогда в себе отцовскую тоску, боялась, что она столкнет ее, как его, с какой-нибудь крыши, и окукливалась, пока не отпускало. Ее звали так же, как трагическую героиню Сэмюэла Ричардсона, а училась она, помимо прочего, в техническом колледже Харлоу. Кларисса из Харлоу – странный отзвук ричардсоновской Клариссы Гарлоу, еще одной самоубийцы в ее окружении, на сей раз литературной; еще одно пугающее эхо, которое прогонял ослепительный свет ее улыбки. У ее матери Лавинии Луард тоже было прозвище, не слишком аппетитное – Лавви-Лу[7], – и она имела обыкновение растворять семейную трагедию в стакане джина и, входя в роль веселой вдовушки, благосклонно отзываться на мужские ухаживания. Вначале был женатый полковник Кен Суитинг, бывший гвардеец, который приезжал к ней с острова Мэн, но жену так и не оставил, да и не собирался. Позднее, когда она переехала в Андалусию, в городок Михае, один за другим пошли шалопаи- европейцы, которые не прочь были широко пожить за ее счет. Лавинии решительно не понравилось намерение дочери жить, а затем и сочетаться браком со странным длинноволосым писателем-индийцем, непонятно из какой семьи и, похоже, не слишком обеспеченным. Она дружила с супругами Лиуэрди из Уэстер-хема, графство Кент, и рассчитывала, что ее красавица дочь выйдет замуж за бухгалтера Ричарда, их сына, бледного, костлявого парня с белой уорхоловской шевелюрой. Кларисса и Ричард встречались, но тайком она начала встречаться и с длинноволосым писателем-индийцем, и ей понадобилось два года, чтобы сделать окончательный выбор; и вот однажды январским вечером в 1972 году, когда он справлял новоселье в только что снятой квартире на Кембридж-гарденз около ЛадброукТроув, она пришла с готовым решением, и после этого они были неразлучны. Выбирать – всегда прерогатива женщин, мужчине же остается быть благодарным, если ему повезло и выбор пал на него.
Она обняла его, и все их годы влечения, любви, супружества, родительской заботы, неверности (большей частью с его стороны) и дружбы после развода, – все они выразились в этих объятиях. Произошедшее хлынуло на ту боль, что была между ними, и смыло ее, а под ней обнаружилось что-то неуничтоженное, что-то старое и глубинное. И еще они, разумеется, были родителями этого прекрасного мальчика и как родители всегда были заодно, всегда действовали в согласии. Зафар родился в июне 1979 года, когда он заканчивал “Детей полуночи”. “Держи ноги скрещенными1, – сказал он ей. – Я пишу быстро как только могу”. Однажды была ложная тревога, и он подумал: “Ребенок у нас родится в полночь”, но этого не случилось, мальчик родился в воскресенье 17 июня в 2.15 дня. Он посвятил свой роман Зафару Рушди, который, вопреки всем ожиданиям, родился днем. А сейчас Зафару было девять с половиной, и он с тревогой спросил отца: что происходит?
– Мы должны знать ваши ближайшие планы, – сказал полицейский.
Он задумался.
– Вероятно, поеду домой, – проговорил он наконец, и то, какими напряженными сразу стали фигуры людей в форме, подтвердило его подозрения.
1 Здесь обыграна примета – держать пальцы скрещенными в надежде на благополучный исход чего-либо.
– Сэр, я бы этого не советовал.
И тогда – он так и думал, что придется это сделать, – он рассказал им про полуподвал на Лонсдейл-сквер, где его ждала Мэриан.
– Эта квартира, сэр, мало кому известна как место, где вы бываете?
– Да, мало кому.
– Очень хорошо. Возвращайтесь туда, сэр, и сегодня вечером вам лучше никуда не выходить. Сейчас идут совещания, об их результатах вы узнаете завтра, вас оповестят без промедления. До этого вам надо будет оставаться в помещении.
Он поговорил с сыном, придвинув его близко к себе и решив в ту минуту, что будет рассказывать мальчику так много, как только возможно, в меру своих сил придавая событиям положительную окраску; помочь Зафару справиться со случившимся можно будет, давая ему почувствовать, что он, Зафар, в курсе дела, сообщая ему свою родительскую версию, которой мальчик будет доверять и на которую сможет опираться вопреки бомбардировке другими версиями – на школьной площадке, перед телевизором. Школа, сказала Кларисса, проявила себя с самой лучшей стороны: ни фотографов, ни телевизионщиков, желавших снять сына приговоренного к смерти, к Зафару не подпустили, и все ученики тоже вели себя великолепно. Без лишних слов они сомкнули вокруг Зафара ряды и позволили ему провести школьный день как обычно – или почти как обычно. Родители в подавляющем большинстве тоже проявили понимание, и те один-два, которые потребовали, чтобы Зафара забрали из школы, потому что его присутствие может оказаться опасным для их детей, получили от директора достойный отпор и со стыдом ретировались. Отрадно было увидеть в тот день в действии отвагу, солидарность, принципиальность – лучшие людские качества, противостоящие жестокости и фанатизму, всему темному, что свойственно роду человеческому, – увидеть в тот самый час, когда вздымающемуся валу тьмы, казалось, так трудно было сопротивляться. То, что было доселе немыслимым, становилось мыслимым. Но в Хэмпстеде, в школе Холл, сопротивление уже началось.
– А завтра, папа, мы увидимся?
Он покачал головой.
– Но я тебе позвоню, – сказал он. – Буду звонить каждый вечер в семь. Если вы захотите куда-нибудь пойти, – попросил он Клариссу, – пожалуйста, оставляй сообщение на автоответчике, чтобы я знал, когда мне позвонить.
Было начало 1989 года. Такие слова, как персональный компьютер, ноутбук, сотовый телефон, мобильный телефон, интернет, Wi-Fi, SMS, электронная почта, либо были еще не известны, либо только-только вошли в обиход. У него не было ни компьютера, ни мобильного телефона. Зато был свой дом, пусть он и не мог теперь в нем ночевать, а в доме телефон с автоответчиком, и он мог позвонить, затребовать (новое значение старого слова) и услышать, нет – извлечь оставленные сообщения.
– В семь часов, – повторил он. – Каждый вечер, запомни.
Зафар сумрачно, серьезно кивнул:
– Хорошо, папа.
Он ехал обратно один, и новости по радио были сплошь плохие. Два дня назад в Исламабаде, столице Пакистана, у американского культурного центра произошли “беспорядки из-за Рушди” (почему американцев сочли ответственными за “Шайтанские аяты”, непонятно). Полиция открыла по толпе огонь – пять человек убиты, шестьдесят ранены. Демонстранты несли плакаты: РУШДИ, ТЫ ТРУП. Сегодня из-за иранского указа опасность возросла многократно. Аятолла Хомейни был не просто могущественным религиозным лидером. Он был главой государства, и он отдал приказ убить гражданина другого государства, над которым не имел юрисдикции; к его услугам были убийцы, которые и раньше использовались для расправ с “врагами иранской революции”, в том числе с жившими за пределами Ирана. Еще одно новое слово пришлось ему выучить. Оно звучало в тот день по радио: экстратерриториальность. Иначе говоря – государственный терроризм. Вольтер однажды заметил, что писателю имеет смысл жить недалеко от государственной границы, чтобы он, если рассердит власть имущих, мог быстро пересечь границу и спастись. Самому Вольтеру пришлось из-за ссоры с аристократом, шевалье де Роганом, уехать из Франции в Англию, и он пробыл в изгнании семь лет. Но теперь, даже находясь в другой стране, ты не мог чувствовать себя защищенным от преследований. Ты – объект экстратерриториальных действий. Иными словами, на тебя объявлена охота.
Ночь на Лонсдейл-сквер была холодной, темной и ясной. На площади дежурили двое полицейских. Когда он вышел из машины, они сделали вид, что не обращают на него внимания. Они патрулировали небольшой участок, шагов по сто от квартиры в ту и другую сторону, и даже в помещении ему было слышно, как они ходят. Под звук их шагов, раздававшихся в тишине, он почувствовал, что больше не понимает свою жизнь, не понимает, во что она может теперь превратиться, и второй раз за день ему пришло в голову, что у него, возможно, очень мало ее осталось впереди, так что понимать особенно и нечего. Полин уехала домой, Мэриан легла рано. Этот день надо было забыть. Этот день надо было запомнить. Он лег в постель около жены, она повернулась к нему, и они обнялись, скованно, как несчастливая пара, каковой они и были. Потом лежали по отдельности, каждый со своими мыслями в голове, и безуспешно пытались уснуть.
Шаги по мостовой. Зима. Взмахи черного крыла на каркасе для лазанья. Я извещаю неустрашимых мусульман всего мира, шуршики-пуршики, мо-мо-мо. Казнить их, где бы они их ни обнаружили. Шуршики-пуршики, хей-бомбуршики, кричики-крячики, переворачики, тренчики-бренчики, мо-мо-мо.
I. Фауст наоборот
Когда он был маленьким, отец рассказывал ему на ночь великие легенды Востока, рассказывал снова и снова, переиначивал и переделывал на собственный лад сказки “Тысячи и одной ночи”, сочиненные Шехерезадой ради победы над смертью, ради того, чтобы доказать способность слова обуздать и одолеть даже кровожаднейшего из тиранов; и волшебные повести о животных из “Панчатантры”; и низвергавшиеся водопадом чудесные истории “Катхасаритсагары” – “Океана рек-повестей”, берущего исток в древности Кашмира, там же, куда уходил корнями его род; и легенды о могучих героях из “Хамзанаме” и “Похождений Хатима Таи” (об этом Хатиме был еще фильм, в котором к каноническому повествованию добавились новые увлекательные подробности, немало послужившие украшению вечерних отцовских рассказов). С младенчества купаясь в этих сказаниях, он выучил на всю жизнь два урока: первый – что всё в них неправда (ведь “в жизни” не бывает джиннов в бутылках, ковров-самолетов и волшебных ламп), но при всей неправдивости они открывают его чувствам и знанию такую правду, какой не открыли бы самые правдивые рассказы; и второй урок – что эти сказания принадлежат ему так же, как отцу и кому угодно вообще, и что все эти истории, радостные и мрачные, о божественном и о земном, он имеет полное право – такое же, какое имел отец, – как и когда заблагорассудится переделывать и пересочинять по-новому, предавать забвению и извлекать из небытия, смеяться и радоваться им, жить в них, ими и с ними, своею любовью вдыхать в них жизнь и взамен питать ими свою жизнь. Склонность рассказывать делает человека человеком, единственным на свете созданием, рассказывающим себе истории, чтобы понять, что он как создание собой представляет. Рассказывание принадлежит человеку по неотъемлемому праву рождения.
Его матери, Негин, тоже был что порассказать. В девичестве Негин Рушди звалась Зохрой Батт. Став женой Аниса, она поменяла не только фамилию, но и имя, заново себя для него вылепила, оставила в прошлом ту Зохру, о которой ему было неприятно думать, потому что она пылала когда-то любовью к другому мужчине. Он не знал, Зохрой или Негин называет себя мать в потаенной глубине души, потому что она никогда не рассказывала ему о мужчине из прошлого, и вообще перемывать косточки другим ей нравилось гораздо больше, чем делиться собственными секретами. Сплетницей она была непревзойденной, и, сидя у нее на кровати, навалясь, как ей нравилось, на ее вытянутые ноги, старший ребенок и единственный сын Негин жадно впитывал смачные, а часто и малопристойные соседские слухи – они заполоняли ее голову, подобно лесу исполинских семейных древ, нашептывающих каждое свое, переплетшихся ветвями, усыпанных сочными запретными плодами-сплетнями. Ему очень скоро стало понятно, что чужие тайны тоже принадлежат ему, ибо стоит матери поделиться с ним чужой тайной, та становится достоянием не только ее, говорившей, но и его, выслушавшего. Если что-то следовало сохранить в секрете, достаточно было сказать: Никому об этом не говори. Это правило нашло применение и в его взрослой жизни. Когда он вырос и сделался писателем, мать сказала ему: “Я больше не буду тебе ничего рассказывать, потому что ты вставляешь мои рассказы в книги, и от этого у меня неприятности”. Она говорила правду, и, возможно, ей следовало бы перестать, но она страдала неодолимой тягой к сплетням, и отказаться от них было бы ей не проще, чем отцу завязать со спиртным.
Из дома на холме – Виндзор-вилла, Уорден-роуд, Бомбей-зб – открывался вид на море и на полоску города между морем и холмом; и да, его отец был богат, но всю свою жизнь только и делал, что проматывал деньги, и умер банкротом, оставив семье неоплаченные долги и заначенную пачку рупий в верхнем левом ящике письменного стола – и больше ни пайса. Анис Ахмед Рушди (“Барристер, бакалавр Кембридж. у-нта” гордо сообщала медная табличка на стене у парадного входа Виндзор-виллы), единственный сын текстильного магната, унаследовал состояние отца, спустил его, остался без гроша и умер: за этой скупой канвой могла бы стоять счастливая жизнь, но его жизнь счастливой не была. Дети много чего за ним знали: что по утрам он бывал жизнерадостным, пока не побреется, а после того как лезвие “филишейв” завершит свое дело, становился раздражительным, – и поэтому старались не показываться ему на глаза; что, когда по выходным он возил их на пляж, по дороге туда он много смеялся и весело болтал, а на обратном пути только злился; когда он играл с их матерью в гольф в Уиллингдонском загородном клубе, ей, игравшей лучше, приходилось старательно проигрывать, потому что победить выходило себе дороже; что пьяным он отвратительно гримасничал, страшно искажал черты лица и очень их этим пугал, но никто, кроме них, этого никогда не видел, и никто их не понимал, когда они говорили, что отец “строит рожи”. Но пока дети были маленькими, они засыпали вечером под его рассказы и, если слышали за дверью родительскую перебранку, если слышали, как плачет мать, ничего не могли с этим поделать. Они залезали с головой под одеяло и смотрели сны.
В январе 1961 года Анис повез тринадцатилетнего сына в Лондон, и там они с неделю, пока не начались занятия в Рагби, жили в гостинце “Камберленд” неподалеку от Мраморной арки. Днем они ходили по магазинам, покупали предписанные школьными правилами предметы туалета: твидовые пиджаки, фланелевые брюки, рубашки “Ван Хьюзен” с полужесткими пристегивающимися воротничками, к которым полагались запонки, – эти воротнички больно впивались в горло и не давали дышать. Пили шоколадные молочные коктейли в Лайонс-Корнер-Хаусе на Ковентри-стрит, а потом шли в кинотеатр “Одеон” у Мраморной арки смотреть какой-нибудь “Сущий ад в школе Святого Триниана”[8], и он тоскливо думал, что у него в школе девушек не будет. Вечером в кафе “Кардома” на Эджвер-роуд отец приобретал навынос курицу-гриль и заставлял его тайком проносить ее в гостиницу под своим двубортным, синего габардина макинтошем. Ночью Анис напивался, перед самым рассветом грубо расталкивал перепуганного сына и обрушивал на него поток брани, настолько похабной, что сыну не верилось, что отец может знать такие слова. Потом они поехали в Рагби, купили кресло с красной обивкой и распрощались. Анис сфотографировал сына на фоне жилого корпуса в бело-голубой, цветов общежитского братства, полосатой шапочке и пропахшем курицей-гриль макинтоше, и если глаза сына на снимке полны тоски, то не потому, что его отдали учиться на чужбину. Просто он не мог дождаться, когда же наконец отец уедет и можно будет попытаться забыть грязную ночную ругань и беспричинные приступы отчаянной ярости. Ему хотелось вступить в будущее, оставив все плохое в прошлом, из чего, видимо, с неизбежностью следовало, что жизнь свою он постарается выстроить на максимально возможном удалении от отца, отгородясь от него океанами. Когда он окончил Кембриджский университет и сказал отцу, что собирается стать писателем, тот простонал: “И что я теперь скажу друзьям?”
Но девятнадцать лет спустя, на сороковой день рождения сына, Анис Рушди прислал ему собственноручно написанное письмо – и это был самый драгоценный читательский отзыв, равный которому никогда не получал и не получит ни один писатель. Отцу было семьдесят семь, и через пять месяцев он умер от множественной миеломы, рака костного мозга. Из письма явствовало, как внимательно он читал и как глубоко понимал книги сына, с каким нетерпением ждал выхода каждой следующей и как полнила его отеческая любовь, которую ему полжизни не удавалось выразить. Он успел порадоваться успеху “Детей полуночи” и “Стыда”, но книга, более прочих обязанная ему своим появлением на свет, его уже не застала. Быть может, это и к лучшему, потому что не застало его и порожденное книгой безумие; но если сын и был в чем-то абсолютно уверен, так это в том, что в битве вокруг “Шайтанских аятов” отец бы решительно и безоговорочно его поддержал. Если бы не отцовские мысли и не его вдохновляющий пример, роман, возможно, и не был бы написан. Тебя папа с мамой с панталыку сбили? Нет, какое там… Хотя, пожалуй что и сбили, но при этом позволили тебе сделаться именно той личностью, именно тем писателем, какими ты должен был стать.
Первым отцовским даром, подобным заключенному в герметичную капсулу посланию потомкам, даром, всю ценность которого он осознал лишь повзрослев, была фамилия. Зваться “Рушди” придумал Анис; его же отец носил неудобопроизносимое староделийское имя Ходжа Мухаммад Дин Халик Дехлави, оно идеально подходило традиционной закалки джентльмену, старательно таращившему глаза с единственного сохранившегося фотоснимка, удачливому фабриканту, баловавшемуся на досуге писательством, обитателю рассыпавшегося от времени особняка-хавели в славном старинном квартале Баллимаран, лабиринте кривых улочек в окрестностях рынка Чандни-Чоук, на одной из которых жил Мирза Галиб, великий поэт, писавший на фарси и урду. Мухаммад Дин Халик умер молодым, оставив сыну состояние (которое тот промотал) и имя, с каким непросто было бы жить в современном мире. Анис взял себе фамилию “Рушди” в честь Ибн Рушда, на Западе известного как Аверроэс, – он преклонялся перед арабским философом из Кордовы, достигшим в Севилье высокой должности судьи-кади, переводчиком и авторитетным комментатором сочинений Аристотеля. Только прожив с этой фамилией двадцать лет, сын Аниса понял: отец, большой знаток ислама, лишенный при этом даже начатков религиозности, ценил Ибн Рушда за то, что тот в свое время стоял на переднем крае рационалистической полемики с исламским буквализмом; а еще двадцать лет спустя битвой вокруг “Шайтанских аятов” та восьмисотлетней давности полемика срезонировала в двадцатом веке.
“Во всяком случае, – утешал он себя, когда у него над головой разразилась буря, – в эту битву я вступаю с правильным именем”. Отец из-за гроба протянул ему знамя, под которым он готов был сражаться, знамя Ибн Рушда, твердо стоявшего за разум, диалог, анализ и прогресс, за свободу философии и образования от оков богословия, за здравый смысл против слепой веры, бездумной покорности и интеллектуального застоя. Никому не хочется идти на войну, но коль скоро война сама пришла к твоему порогу – хорошо, если она праведная и ведется ради самого главного в жизни, и коль скоро ты решился драться – хорошо, если фамилия у тебя “Рушди” и отец укоренил тебя в традиции великого последователя Аристотеля – Аверроэса, Абуль Валида Мухаммада ибн Ахмада ибн Рушда.
Их с отцом голоса были очень похожи. Когда домой звонили отцовские друзья и он брал трубку, они начинали разговаривать с ним как с Анисом, а он, во избежание неловкости, торопился их остановить. Они с отцом были и внешне похожи, а когда в относительно благостные периоды отцовско-сыновних отношений они теплыми вечерами сиживали на веранде, вдыхая аромат цветущих бугенвиллей и яростно споря о мироустройстве, обоим было ясно: несмотря на множество разногласий, склад ума у них абсолютно одинаковый. И роднило их в первую очередь отсутствие веры.
Анис был безбожником. Американцев такое признание до сих пор шокирует, европейцы не видят в нем ничего экстраординарного, а в большей части остального мира его просто не поймут: есть места, где трудно даже просто сформулировать идею неверия. Но таким уж он был – безбожником, который многое знал и много размышлял о Боге. Его завораживали обстоятельства рождения ислама, единственной из мировых религий, возникшей в эпоху письменной истории и основанной не легендарным персонажем, чья жизнь была воссоздана и прославлена “евангелистами” через сотню и больше лет после его смерти, адаптирована для глобального восприятия гениальным проповедником апостолом Павлом, – ее основал реальный человек, чей жизненный путь относительно подробно задокументирован, социальное и имущественное положение на разных этапах биографии хорошо известно, человек, который жил во времена мощного общественного сдвига, из сироты вырос в преуспевающего купца с мистическими наклонностями, и однажды на горе Хира близ Мекки узрел архангела Джабраила, ногами стоящего на земле, а головой достающего до облаков, который велел ему “читать” и таким образом постепенно создать книгу, которая так и назовется Коран, то есть “Чтение вслух”.
От отца к сыну передалось убеждение, что обстоятельства рождения ислама интересны и увлекательны постольку, поскольку событие это было историческим и на него, соответственно, повлияли условия того времени, современные ему события и течения мысли; что единственно возможный подход к этой теме – поместить ее в исторический контекст, попытаться уяснить, каким образом под воздействием исторических реалий оформилась великая идея; что можно признавать реальность мистика Мухаммада – точно так же, как можно признавать, что Жанна д'Арк действительно слышала руководившие ею голоса, а откровения святого Иоанна Богослова были его “подлинным” душевным опытом, – и при этом не обязательно верить, будто всякий, кто оказался бы в тот день рядом с Пророком на горе Хира, вместе с ним увидел бы архангела. Если рассматривать ниспосланное Пророку откровение как событие субъективное, целиком относящееся к его внутренней жизни, а не к объективной реальности, то и полученный через это откровение текст, наравне с любым другим текстом, открыт изучению критическими, литературоведческими, историческими, психологическими, лингвистическими и социологическими методами. Короче говоря, этот текст следует считать человеческим произведением, подобно всякому человеческому произведению несовершенным и не свободным от ошибок. По знаменитому определению американского литературного критика Рэндалла Джаррелла, роман – это “длинное прозаическое произведение, в котором что-то не так”. Анису, как он полагал, было понятно, что не так с Кораном: в него местами закралась путаница.
Как гласит предание, спустившись с горы, Мухаммад начал произносить отрывки текста – сам он, видимо, был неграмотным, – и тот из ближайших сподвижников, кто оказывался поблизости, записывал его изречения на всем, что попадалось под руку (на пергаменте, камне, коже, бумаге и даже, говорят, на костях). Записи складывали в сундук в доме Пророка; когда же он умер, сподвижники собрались, чтобы определить порядок, в каком должно быть изложено откровение; результатом их трудов и стал канонический текст Корана. Для того чтобы признать этот текст “безупречным”, читатель должен верить, что: а) архангел, передавая слово Божье, ни разу не ошибся, в чем больших сомнений не возникает, поскольку архангелам, как принято считать, ошибаться несвойственно; б) Пророк, или, как он сам себя называет, Посланник, слово в слово запомнил сказанное архангелом; в) сподвижники, на протяжении двадцати трех лет записывая откровения, всякий раз поспешно, также не наделали ошибок; и, наконец, г) когда они собрались, чтобы придать тексту окончательный вид, коллективная память не подвела их в том, что касается последовательности изложения.
Пункты а), б) и в) Анис Рушди оспаривать не пытался. А вот согласиться с пунктом г) ему было труднее: всякий, кто читал Коран, легко заметит в нескольких главах, или сурах, явную непоследовательность повествования, когда развитие некоей темы вдруг прерывается, а потом она ни с того ни с сего всплывает в одной из следующих сур, в которой до того момента говорилось совсем о другом. Анис долго вынашивал замысел разобраться со всеми нестыковками и таким образом получить более стройный и удобочитаемый текст. Следует заметить, что замысла своего он ни от кого не скрывал и часто обсуждал его за ужином с приятелями. Ему и в голову не приходило, что его предприятие может быть связано с риском, никакого предвкушения опасности у него не возникало. Видимо, времена тогда были другие и увлечение подобными идеями еще не грозило репрессиями, или просто Анис всецело доверял своему окружению, или был по недомыслию слишком наивен. Но детей своих он приучил самостоятельно искать ответы на интересующие их вопросы, не признавая запретных тем и не считаясь с табу. Приучил к тому, что всё на свете, в том числе и Священное Писание, можно подвергнуть исследованию и, если выйдет, улучшить.
Замысла своего он так и не воплотил. Когда он умер, задуманного текста в его бумагах не было. Последние годы прошли у Аниса под знаком алкоголя и деловых неудач, почти не оставлявших времени и желания впрягаться в углубленные коранические штудии. Но пусть даже планы исправления Корана были всего лишь абстрактной мечтой или же пустым, замешенным на виски бахвальством, они так или иначе оставили след в душе его сына. Вторым великим даром Аниса его детям был бесстрашный скептицизм, сочетавшийся с почти полным отсутствием религиозности, что, впрочем, не мешало соблюдать отдельные формальные предписания культа. В семье Рушди не ели “мяса свиньи”, на обеденном столе было не встретить ни запрещенных “обитателей суши и моря, поедающих мертвечину”, ни карри с креветками, как его готовят в Гоа. Изредка члены семьи отправлялись в мечеть и, как положено, преклоняли колени. Один-два раза в год они постились во время Рамазана – так, а не Рамаданом, называют этот месяц индийские мусульмане, говорящие не на арабском, а на урду. Однажды совсем ненадолго в доме завелся мавлави, ученый-богослов, уменьшенная копия Хо Ши Мина – Негин наняла его обучать безбожных детей начаткам веры. Но когда безбожные дети взбунтовались и принялись так немилосердно изводить мавлави, что тот сокрушенно пожаловался родителям на непочтительное отношение их отпрысков к великим святыням, Анис с Негин только посмеялись и встали на сторону детей. Мавлави в результате исчез навсегда, на прощание осыпав глухими проклятиями нечестивцев, чье религиозное образование на этом и прекратилось. Безбожные дети росли законченными безбожниками, что никого, во всяком случае на Виндзор-вилле, не смущало.
Первым, что он со всей ясностью осознал, едва в своем габардиновом макинтоше и бело-голубой шапочке общежития Брэдли-Хаус распрощался с отцом и окунулся с головой в английскую жизнь, было то, что за ним числится грех чужеродности. До того момента он и не подозревал, что может для кого-то оказаться Другим. Школа Рагби преподала ему урок, которого он с тех пор никогда не забывал и который заключался в том, что всегда найдется кто-нибудь, кто тебя невзлюбит, для этих людей ты будешь чужаком навроде маленьких зеленых человечков или внегалактической мыслящей слизи, и пытаться влиять на их отношение к себе совершенно бессмысленно. Потом он прошел урок отчуждения еще раз, уже при гораздо более драматичных обстоятельствах.
В английской закрытой школе начала 1960-x, быстро обнаружил он, три вещи засчитывались за грубую ошибку, причем совершивший две ошибки из трех мог рассчитывать на прощение. Предосудительным являлось: быть иностранцем, быть умным, посредственно играть во всякие игры. Умные иностранцы прекрасно чувствовали себя в Рагби, если при этом виртуозно орудовали крикетной битой или, например, походили на его однокашника Зия Махмуда, который настолько преуспел в картах, что стал одним из сильнейших в мире игроков в бридж. Мальчикам, не блещущим в спорте, надлежало приложить все усилия, дабы не оказаться слишком умными и, по возможности, слишком уж иностранцами, то есть не допустить третьей, грубейшей ошибки.
Он же – умный неспортивный иностранец – был трижды виноват. По этой причине годы учебы выдались у него довольно безрадостными, хотя науки он постигал весьма споро и из Рагби вышел с твердым ощущением, что ему дали превосходное образование, и с той благодарной памятью о выдающихся учителях, которую, если повезет, мы проносим через всю свою жизнь. П. Дж. Льюис привил ему столь пылкую любовь к французскому языку, что за один семестр он выбился из последних в первые ученики; благодаря мудрому попечительству историков Дж. Б. Хоуп-Симпсона и Дж. У. Хила он получил стипендию для обучения истории в бывшей альма-матер отца, кембриджском Кингз-колледже, где он с некоторой разницей во времени познакомился с Э. М. Форстером и открыл для себя секс. (Несколько, возможно, менее ценной заслугой Хоуп-Симпсона стало то, что именно благодаря ему он прочел “Властелина колец”, поразившего его сознание подобно болезни, от которой он так никогда и не сумел исцелиться.) Престарелый преподаватель английской словесности Джеффри Хелливелл на следующий день после той самой фетвы, сочувственно покачивая головой, с дурашливым недоумением в голосе вопрошал с британских телеэкранов: “И кто бы мог подумать, что этот милый, скромный мальчик угодит в такую ужасную переделку?”
Никто не заставлял его ехать учиться в Англию. Негин идея отправить единственного сына за моря-океаны не нравилась никогда. Анис предложил ему этот вариант в ряду прочих и посоветовал сдать общий вступительный экзамен, но даже после того как он не без блеска экзамен выдержал и обеспечил себе зачисление в Рагби, решение ехать или остаться было всецело предоставлено его выбору. Годы спустя он сам дивился решению, которое принял в тринадцать лет – мальчишкой, прочно привязанным к родному городу, с кучей друзей, отлично успевающим в школе (если не считать отдельных проблем с языком маратхи), обожаемым родителями. Почему мальчишка предпочел расстаться со всем этим и отправиться в неизвестность на другой конец света, прочь от всех, кто его любит? Виновата ли в его выборе литература (он, бесспорно, был большим книгочеем)? Если да, то вина, быть может, лежит на горячо им любимых Дживсе и Берти или на лорде Эмсворде и его жирной свинье по кличке Императрица[9]. Или все дело в двусмысленном обаянии мира, созданного Агатой Кристи, манившего его, даже несмотря на то, что мисс Марпл избрала местом жительства первую в Англии по числу убийств деревню, роковую Сэнт-Мэри-Мид? А ведь кроме того были “Ласточки и амазонки” Артура Рэнсома, серия книжек про то, как дети путешествуют на лодках по Озерному краю, а еще гораздо более зловредные похождения “Слепого Сыча” Билли Бантера, жирдяя из выдуманной Фрэнком Ричардсом[10] закрытой школы Грейфрайерз, где вместе с Билли учился как минимум один индиец, Хуррей Джамсет Рам Сингх, “смуглый набоб Бханипура”, изъяснявшийся на причудливо высокопарном, синтаксически вывернутом английском (“вывернутость его, – как выразился бы смуглый набоб, – достигала размеров ужасающих”). Иными словами, объяснялось ли его решение ребяческим стремлением в воображаемую Англию, существующую только на страницах книг? Или же оно указывало на то, что под внешностью “милого, скромного мальчика” скрывалось существо на редкость авантюрного склада, которому хватило сообразительности шагнуть в темноту именно потому, что там ждала неизвестность, – скрывался юноша, интуитивно предчувствовавший в себе способность в зрелые годы выживать и даже благоденствовать везде, куда ни заведут его скитания по миру, юноша, который с чрезвычайной легкостью и без всякой жалости последовал за далекой мечтой, отрекся от порядком, конечно, наскучившего очарования “родного дома”, почти без сожалений расстался с безутешной матерью и опечаленными сестрами? Доля правды есть и в том, и в другом объяснении. Так или иначе, но он сделал решительный шаг на развилке времени, выбрал западное направление и тем самым отсек для себя возможность превратиться в того, кем бы он вырос, оставшись дома.
В кирпичную Докторскую стенку – она названа так в честь великого директора школы доктора Арнольда[11] – на краю идеально ровного игрового поля вделана памятная доска розового гранита с восславляющей бунт надписью: “Да напоминает сей знак о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, который элегантно пренебрег футбольными правилами, первым взял мяч в руки и побежал с ним вперед, положив тем самым начало игре в регби”. Но и рассказ про Уэбба Эллиса был скорее апокрифическим, и бунтарский дух в Рагби не поощрялся. Там, где получали образование сыновья биржевиков и юрисконсультов, “элегантного пренебрежения правилами” в учебной программе не значилось. Школьные правила запрещали держать руки в карманах и “носиться по коридорам”. При этом вполне допускались годковщина – когда младший ученик был вынужден за так прислуживать старшему – и воспитательные побои. Телесные наказания мог назначить не только директор школы, но и староста из числа учеников. В первом семестре его старостой был некий Р. Э. К. Уильямсон, подвесивший стек на всеобщее обозрение над дверью своего кабинета. Стек украшали насечки – по одной на каждый урок, преподанный Уильямсоном однокашникам.
“Милого, скромного мальчика” ни разу не били. Он быстро усвоил школьные правила и тщательнейшим образом их соблюдал. Он выучил местный сленг, на котором вечерняя молитва в дортуаре называлась словом диц (от латинского dicere – “говорить”), туалет – топос (от греческого τορος— “место”), а прочие, не имеющие отношения к школе и занятые в основном на производстве цемента жители Рагби высокомерно именовались плебсом. Роковых трех ошибок ему так никогда не простили, и тем не менее он вполне в школе освоился. В старших классах его наградили Королевской медалью за сочинение о наполеоновском министре иностранных дел, колченогом цинике и развратном вольнодумце Талейране, которого он отчаянно защищал. Он занял пост секретаря в школьном дискуссионном клубе и красноречиво выступал в пользу годковщины, запрещенной вскоре после того, как он окончил школу. Как выходец из консервативной индийской семьи он был чужд всякого радикализма, но очень скоро узнал, что такое расизм. Не раз и не два, возвратившись в свою крошечную комнату, он обнаруживал, что кто-то порвал его сочинение и осыпал его красное кресло обрывками. Однажды ему на стене написали: ЧЕРНОТА ВАЛИ ДОМОЙ. Он стискивал зубы, сглатывал обиду и продолжал трудиться. О том, что представляла из себя школа, он рассказал родителям, только после того, как ее окончил (а когда рассказал, родители были потрясены, сколько боли он так долго носил в себе). Мать тяжело переживала разлуку, а отец платил огромные деньги за его учебу, поэтому, убеждал он себя, жаловаться им было бы неправильно. Таким образом, письма домой стали первыми его художественными произведениями, рисующими школьную идиллию – сплошь погожие деньки, коротаемые на крикетной площадке. На самом же деле в крикет он играл плохо, а зимы в Рагби были чрезвычайно холодными, вдвое мучительными для уроженца тропиков, который никогда до того не спал под тяжелым одеялом и с трудом засыпал, придавленный его массой. Если он одеяло сбрасывал, его до костей пробирал холод, так что приходилось привыкать, и он привык. Едва вечером тушили свет, школьники дружно давали выход позывам юной плоти, отчего металлические кровати раскачивались, их удары по протянутым вдоль стен трубам отопления наполняли темный простор дортуара музыкой неизреченной страсти. В этом занятии, как и во всех прочих, он старался не отставать от товарищей, присоединялся к ним. Повторим еще раз: по природному своему складу он не был бунтарем. В те далекие дни “Роллинг стоунз” нравились ему больше “Битлз”, но после того как один из наиболее дружелюбно к нему расположенных соседей по общежитию, обстоятельный во всем, пухлый и розовощекий Ричард Ширер заставил его сесть и от начала до конца прослушать пластинку The freewheelin' Bob Dylan, он превратился в горячего почитателя Дилана; и тем не менее в душе он был конформистом.
Что не помешало ему взбунтоваться сразу по приезде в Рагби. Администрация школы настаивала, чтобы все ученики вступили в Объединенный кадетский корпус, по средам с ног до головы обряжались в хаки и предавались военным забавам в грязи. Ничего хорошего он в этих забавах не видел – точнее, воспринимал их как разновидность пытки – и на первой же неделе учебы отправился к старшему воспитателю, доктору Джорджу Дейзли, похожему на классический тип добродушного сумасшедшего ученого, обладателю лучезарной невеселой улыбки, чтобы заявить о нежелании становиться кадетом. Доктор Дейзли сначала напрягся, потом лучезарно улыбнулся и напомнил с минимумом ледяных ноток в голосе, что членство в корпусе обязательно для всех учеников. Мальчик из Бомбея проявил внезапное упрямство и, гордо подняв голову, выдал: “Сэр, поколение моих родителей совсем недавно сражалось за независимость от Британской империи, и по этой причине я не считаю для себя возможным вступать в ее вооруженные силы”. Неожиданный взрыв антиколониальных чувств обезоружил доктора Дейзли и вынудил его сдаться. “Ладно, – сказал он, – можете вместо военных занятий читать у себя в комнате”. Перед тем как распрощаться с юным принципиальным отказником, Дейзли указал ему на висящий на стене портрет. “Это майор Уильям Ходсон, – сказал он. – Ходсон из Ходсоновского кавалерийского полка. В годы учебы он жил в Брэдли-Хаусе”. Уильям Ходсон был британским офицером, который после подавления восстания сипаев 1857 года (в Рагби это историческое событие называли Индийским мятежом) пленил последнего правителя из династии Великих Моголов, поэта Бахадур-шаха II, и убил троих его сыновей – раздев догола, расстрелял, забрал себе все драгоценности, а тела бросил в дорожной пыли у ворот Дели, которые с тех пор зовутся Клуни Дарваза — Кровавые ворота. Узнав, что Ходсон тоже жил в Брэдли-Хаусе, юный индийский бунтарь преисполнился еще большей гордостью за свой отказ вступать в армию, где некогда служил палач могольских принцев. Не слишком уверенно доктор Дейзли высказал ошибочную, по всей видимости, догадку, будто Ходсон был одним из прототипов Флэшмена, грозы младшеклассников из романа Томаса Хьюза “Школьные годы Тома Брауна”, действие которого происходит в Рагби. На лужайке напротив школьной библиотеки стоял памятник Хьюзу, а в Брэдли-Хаусе выдающийся выпускник, проведший годы учения в стенах этого общежития, слыл прообразом самого злостного мучителя слабых во всей английской литературе, и это считалось в порядке вещей.
Из школы человек выносит не только те уроки, какие она стремится ему преподать.
Следующие четыре года он проводил среды за чтением взятых в городской библиотеке научно-фантастических романов в желтых обложках, под радиоконцерты по заявкам, поглощая сэндвичи с салатом и вареным яйцом, жаренную во фритюре картошку и кока-колу. Он стал специалистом по золотому веку научной фантастики, жадно впитывая в себя шедевры: сборник Айзека Азимова “Я, робот”, где сформулированы Три закона роботехники, эпопею Зенны Хендерсон “Паломничество”, невероятные фантазии Лайона Спрэг де Кампа, и прежде всего навеки западающий в душу рассказ Артура Кларка “Девять миллиардов имен Бога”, в котором мир тихо и без шума приходит к концу после того, как буддистские монахи с помощью компьютера перечислили все Божественные имена. (Бог завораживал его, как и отца, при том что к религии он был, в сущности, безразличен.) И пусть его одержимость фантастикой, которая длилась четыре с половиной года и подпитывалась закусками из школьного буфета, трудно поставить в один ряд с величайшими в истории революциями, но зрелище усталых, в грязи и ссадинах однокашников, плетущихся с военных игрищ, всякий раз напоминало ему, что иногда очень даже полезно бывает отстоять свои права.
Что касается Бога: последние робкие ростки веры заглохли в его душе под действием острого отвращения, которое внушал ему архитектурный облик школьной капеллы. Много лет спустя, проездом оказавшись в Рагби, он с изумлением обнаружил, что неоготическое творение Герберта Баттерфилда[12] на самом деле невероятно красиво. В школьные годы оно казалось ему уродливым и в свете самозабвенного увлечения научной фантастикой больше всего напоминало замерший на стартовой площадке кирпичный космический корабль. Как-то, сидя на уроке латыни и глядя на капеллу в окно, он задумался: “И какой же Бог согласится поселиться в таком безобразном жилище?” Ответ явился мгновенно: разумеется, ни один уважающий себя Бог там жить не станет – и вообще, разумеется, Бога нет, и даже такого, которому нравилась бы плохая архитектура. К концу урока он сделался несгибаемым атеистом и в подтверждение этого на перемене решительно отправился в буфет и приобрел бутерброд с ветчиной. В тот день мясо свиньи впервые коснулось его нёба, но Всевышний не поразил его за это молнией, и тем самым подтвердилось давнишнее его подозрение: там, наверху, нет никакого метателя молний.
В капелле он репетировал с остальными учениками хор “Аллилуйя”, когда в Рагби готовили полную постановку “Мессии” с привлечением профессиональных солистов. Он посещал обязательные для учеников утрени и вечерни – все знали, что в Бомбее он учился в Соборной школе, и ему поэтому нечем было оправдать нежелание бормотать христианские молитвы, да и церковные песнопения ему нравились, музыкой своей возвышенно волновали сердце. Нравились, конечно, не все; так, например, ему нужды не было поднимать взор на крест, где Божий сын страдал, зато, когда случалось исполнять вокруг ночная мгла и дом мой далеко ⁄ веди ж меня к нему, мучимый одиночеством мальчик бывал тронут до глубины души. Ему нравилось петь “Придите к Младенцу” на латыни – она каким-то образом притупляла религиозность звучания: venite, venite in Bethleliem[13]. “Пребудь co мной” он любил за хоровое исполнение стотысячной толпой на стадионе “Уэмбли” перед финалом футбольного Кубка Англии, а, как он называл его про себя, “географический гимн” “День, данный Тобою, Господь, склонился к закату” пробуждал в нем умильную тоску по дому: Прощаясь с нами на ночь, дневное светило, ⁄ под небо Запада [Запада он менял на Индии\ несет зарю. В смысле словесных средств неверие явно проигрывало вере, но музыка неверия с какого-то момента на равных тягалась с религиозными песнопениями, а по мере того как он взрослел и золотой век рок-н-ролла лил ему в уши все эти свои I-can’t-get-no, hard-rain’s-a-gonna-fall, try-tosee-it-my-way, и da doo ron ron[14], церковные гимны становились ему всё безразличнее. Но и тогда в школьной капелле Рагби оставались магниты, не отпускавшие сердце неверующего книгочея, – это были мемориальные доски в честь Мэтью Арнольда с его бьющимися во тьме первозданными силами[15], и Руперта Брука, убитого комариным укусом в сражении как раз с такой силой и лежащего средь поля на чужбине, которая стала навеки Англией[16]; и, конечно же, камень в память о Льюисе Кэрролле, на чьем черно-белом мраморе кружат Тенниеловы[17] силуэты… постойте, постойте… – да, ну разумеется! – они кружат в кадрили. “Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс, – напевал он про себя. – Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс”[18]. Это был его личный гимн во славу собственного “я”.
Перед самым выпуском из Рагби он совершил чудовищный поступок. Всем тамошним без пяти минут выпускникам разрешалось устроить “академическую распродажу”, за скромные деньги пристроить по младшим соученикам свои старые письменные столы, настольные лампы и прочий скопившийся за годы учения хлам. Он повесил на дверь своей комнаты перечень выставленных на аукцион предметов и стал ждать. Все его добро было основательно попользованным, за исключением красного кресла, которое отец купил абсолютно новым. Побывав у единственного владельца, оно для академической распродажи было вещью высококачественной и желанной, поэтому за него пошла серьезная торговля. Активнее других цену набавляли двое: один из его лакеев-младшеклассников, некий П. Э. Ф. Рид-Герберт, он же Бред Герберт, щуплый очкарик, смотревший на него чуть ли не как на высшее существо, и парень постарше, выходец с населенной сплошь миллионерами Бишопс-авеню в Северном Лондоне, по имени Джон Таллон, который, в принципе, мог позволить себе дать высокую цену.
Когда торговля забуксовала – больше, что-то около пяти фунтов, на тот момент предлагал Рид-Герберт, – у него и родилась нехорошая идея. Он подговорил Джона Таллона разом задрать цену, фунтов этак до восьми, пообещав не брать с него денег, если никто заявку не перебьет. После чего во время дица с серьезной миной сообщил Бреду Герберту: его богатый соперник Таллон – это известно наверняка – готов дать и больше, не исключено даже целых двадцать фунтов. Убедившись, что прием сработал, что Бред Герберт сразу поник, а лицо у него вытянулось, он закинул удочку:
“Ну, если б ты, например, вот прямо сразу согласился, скажем, на десятку, я бы закрыл торги, сказал бы, мол, кресло продано”. Бред Герберт напрягся: “Рушди, это ж дорого”. – “А ты подумай, – сказал Рушди великодушно, – пока молиться будешь”.
Когда диц закончился, Бред Герберт был уже на крючке. Бессовестный Рушди одобрительно улыбнулся: “Единственно верное решение, Рид-Герберт”. Он и глазом не моргнув заставил школьника заплатить вдвое против предложенной тем цены. Красное кресло обрело нового владельца. Вот что значит к месту помолиться.
Красное кресло было продано в 1965 году. Девять с половиной лет спустя, в октябре 1974-го, в дни предвыборной кампании он включил телевизор и ухватил самый конец выступления кандидата от крайне правого, расистского, фашистского, оголтело антииммигрантского Британского национального фронта. Титры на экране сообщали, что кандидата зовут Энтони Рид-Герберт. “Бред Герберт! – воскликнул он, пронзенный ужасной догадкой. – Боже мой, я породил нациста! ” В голове у него мгновенно сложилась стройная картинка: Бред Герберт, которого раскрутил на деньги коварный черножопый безбожник, через все свое изъязвленное отрочество к еще более изъязвленной зрелости пронес нежно лелеемую ненависть и сделался политиком-расистом, дабы отыграться на всех черножопых вне зависимости от того, пытаются те или не пытаются впарить кому-нибудь свое красное кресло. (Но точно ли это был то самый Бред Герберт? А вдруг их на свете двое? Нет, наверняка это и есть малютка П. Э. Ф., вряд ли кто еще.) На парламентских выборах 1977 года в избирательном округе Восточного Лестера за Бреда Герберта проголосовали 6 процентов пришедших на участки, 2967 человек. В августе 1977-го он баллотировался на довыборах в округе Ледивуд Бирмингема и показал третий результат, опередив кандидата от Либеральной партии. После этого, к счастью, на общенациональной политической сцене он больше замечен не был.
Меа culpa, думал продавец красного кресла. Меа maxima culpa[19]. Правдивое повествование о его школьных годах немыслимо без изрядной доли одиночества и, чуть меньшей, – тоски. Но столь же неизбежно на его образ ложится пятно потаенного неизгладимого преступления.
Во второй свой день в Кембридже он отправился на собрание первокурсников в столовой Кингз-колледжа, где впервые лицезрел великолепный, достойный гения Брунеллески купол, венчавший главу Ноэля Аннана. Ректор колледжа лорд Аннан, не человек, а раскатистый ренессансный собор, предстал пред ним, сверкая лысиной и ледяным взором. “Вас привели сюда три причины, – провозглашал полногубый ректор, – и причины эти следующие: интеллект, интеллект и еще раз интеллект!” Один за другим упруго выпрямились три пальца, по пальцу на каждую названную причину. Это был не единственный афоризм в запасе у ректора. “Самые важные познания вы вынесете не из лекционных аудиторий, не из библиотек и не из общения с научными руководителями, – с выражением вещал он, – а из поздних ночных посиделок, в ходе которых вы будете взаимно обогащать друг друга”.
Из дома в университет он уехал в самый разгар войны, бессмысленного индо-пакистанского конфликта, разразившегося в сентябре 1965 года. Яблоком раздора в очередной раз послужил Кашмир, за него пять недель шли бои, унесшие жизни без малого семи тысяч индийских солдат. В результате Индии достались семьсот квадратных миль пакистанской территории, а Пакистану – двести индийской. (В “Детях полуночи” именно во время этой войны погибла под бомбами почти вся семья Салима Синая.) В Лондоне он несколько дней прожил у дальних родственников в комнате без окон. Дозвониться до отца с матерью не получалось, а телеграммы из дома шли, как ему сказали, по три недели. Так и не дождавшись вестей от родных, он сел в поезд до Кембриджа и постарался заставить себя надеяться на лучшее. В Маркет-Хостел, общежитие первокурсников Королевского колледжа, он водворился с нелегким сердцем и неприятным предчувствием, что университетские годы выдадутся такими же безотрадными, как и проведенные в Рагби. Он умолял отца не посылать его в Кембридж, хотя был уже туда зачислен. Ему не хотелось, говорил он отцу, снова ехать в Англию, не хотелось провести еще несколько лет жизни в окружении ледяных неприветливых рыб. Ведь можно же – правда? – окончить университет на родине, среди более теплокровных существ. Но Анис, сам выпускник Кингз-колледжа, настоял на своем. И мало того, потом отец попытался заставить его сменить специализацию, поскольку считал, что глупо было бы угрохать три года на изучение истории. Он велел сыну – под угрозой, что иначе не станет платить за обучение, – попросить о переводе на экономический.
Придавленный тройным страхом – перед недружественной английской молодежью, экономической наукой и войной, – в первый свой день в Кингз-колледже он не нашел в себе сил подняться с постели. Он физически ощущал, что тело его отяжелело, будто сама сила земного притяжения стремилась удержать его в кровати. За день он не открыл нескольким визитерам, стучавшимся в дверь его комнаты, обставленной более или менее в духе скандинавского модерна. (В тот год у “Битлз” вышла пластинка Rubber Soul, и он целыми днями мурлыкал себе под нос Norwegian Wood.) Ближе к вечеру, однако, уж больно настойчивый стук заставил его встать. За дверью, сияя широченной итонской улыбкой и блистая рупертбруковским соломенным чубом, высился бесконечно приветливый “Ян Пилкингтон-Микса – я, знаете ли, наполовину поляк”, гостеприимный ангел, отворивший ему врата в будущее и на волне шумного дружелюбия увлекший его к новой жизнь.
Ян Пилкингтон-Микса, идеальный образчик выпускника английской привилегированной школы, на вид был неотличим от тварей, отравлявших ему жизнь в Рагби, но при этом показал себя милейшим молодым человеком, посланным в знак того, что отныне все будет складываться по-другому. По-другому оно все и сложилось; Кембридж исцелил большинство полученных в Рагби ран и открыл ему, что существуют разные Англии, в том числе и симпатичные, такие, где можно жить не хуже чем дома.
Так он избавился от первого тяготившего его бремени. Что касается угрозы со стороны экономической науки, то ее отвел от него другой ангел-привратник – заведующий учебной частью доктор Джон Броадбент, безграничного обаяния преподаватель английской литературы, который легко мог бы послужить (но не послужил) прообразом доктора Говарда Кэрка, сверхобщительного и нестрогого в вопросах морали героя романа Малкольма Брэдбери “Историческая личность”. Когда он с унылым видом сообщил доктору Броадбенту, что отец требует от него сменить специализацию, тот спросил: “А вам-то самому чего хочется?” Разумеется, заниматься экономикой ему не хотелось; он хотел изучать историю, и для этой цели ему была даже выделена стипендия. “Я все улажу”, – сказал доктор Броадбент и написал Анису Рушди письмо, в котором вежливо, но предельно четко объяснил: с точки зрения администрации, Салман не обладает достаточной подготовкой, чтобы приступить к изучению экономических дисциплин, и в случае, если он продолжит настаивать на своем, ему разумнее будет покинуть университет. Больше о занятиях экономикой Анис Рушди не заикался.
Третье бремя тоже вскоре спало у него с плеч. Война в Индостане закончилась, никто из тех, кто был ему дорог, не пострадал. И у него началась университетская жизнь.
Складывалась она вполне обычно: он завел друзей, потерял девственность, научился загадочной игре со спичками, которой забавлялись герои “Прошлым летом в Мариенбаде”, в день смерти Ивлина Во сыграл печальную партию в крокет с Э. М. Форстером[20], мало-помалу понял значение слова “Вьетнам”, был избран в члены “Рампы”[21], скромно примкнул к блистательному созвездию посвященных – Клайву Джеймсу, Робу Бакману, Джермейн Грир, смотрел, как на сцене крошечного клуба на улице Петти-Кьюри, в зале под штабом хунвейбинов, где торговали цитатниками председателя Мао, Джермейн исполняет свой коронный “Стриптиз монашки”, выдирается, выкручивается из рясы и остается в итоге в полном снаряжении аквалангиста. Еще он курил траву, видел, как приятель из комнаты напротив не пережил плохого кислотного трипа, а другой приятель окончательно спятил от наркотиков, через третьего приятеля познакомился с Капитаном Бифхартом[22] и участниками “Велвет андеграунд” – этот третий приятель умер вскоре после окончания университета; радовался моде на мини-юбки и полупрозрачные блузки; пописывал в студенческую газету “Универ” – недолго, пока редакция не отказалась от его услуг; играл в пьесах Брехта, Ионеско и Бена Джонсона; в компании будущего арт-критика лондонской “Таймс” без приглашения пробрался на Майский бал Тринити-колледжа, чтобы послушать, как Франсуаза Арди[23] споет Tons les gar gons et les filles, гимн мучительному ожиданию все не приходящей любви.
В послеуниверситетские годы он частенько рассказывал о своем кембриджском счастье, договорившись с самим собой не вспоминать, как часами плакал от невыносимого одиночества у себя в комнате, при том что прямо за окном блистала красотой капелла Кингз-колледжа (дело было в последний университетский год, когда он жил на первом этаже в крыле “S” главного здания колледжа, где из его комнаты открывался идеальный “роскошный вид”: готическая капелла, лужайка, река с лодками-плоскодонками). В тот последний год он возвратился в Кембридж после каникул в глубоком унынии. Заканчивалось лето 1967 года, Лето любви, когда те, кто отправлялся в Сан-Франциско, непременно должны были украсить волосы цветами. А он все лето проторчал в Лондоне и за все лето так никого и не полюбил. При этом, по чистой случайности, он очутился, как тогда говорили, “там, где все происходило”, – поселился в комнатке над самой модной в те дни точкой, бутиком “Бабуля путешествует”, который расположился на том конце Кингз-роуд, что ближе к Краю Света[24]. Жена Джона Леннона, Синтия, носила платья от “Бабули”.
Мик Джаггер, по слухам, тоже, бывало, надевал эти платья. Кембриджскому студенту и здесь приходилось учиться. Он перестал говорить “потрясный” и “клевый”: в “Бабуле” умеренную степень одобрения принято было выражать словом “красота”, а сочтя нечто действительно прекрасным, говорили “неплохо” Он привык много и глубокомысленно кивать головой. Индийское происхождение помогало ему сходить за своего среди модной публики. “До Индии, чувак, – говорили ему, – далеко”. – “Да уж”, – кивал он. “Махариши, чувак, – говорили ему, – это красиво”. – “Рави Шанкар, чувак”, – парировал он. Этими именами обычно исчерпывался запас известных собеседникам индийцев, и дальше они лишь кивали с блаженным выражением лица, повторяя: “Как ты прав, чувак, как ты прав”.
Еще один, более мудреный, урок преподала ему хозяйка бутика, неземное создание, сидевшее в стильно затемненном, пропахшем пачулевым маслом и наполненном звуками ситара помещении, в лиловом свете которого он не сразу рассмотрел какие-то неподвижные тени. Возможно, это были вешалки с одеждой, возможно, одежда эта продавалась. Он об этом не спрашивал. “Бабуля” нагоняла на него страх. Но однажды он собрался с духом, спустился вниз по лестнице и представился девушке: Привет, я живу над вами, меня зовут Салман. Девушка подошла к нему поближе – так, что он увидел, сколько презрения отражается у нее на лице. Потом она замедленно, очень светски пожала плечами и сказала: “Нам с тобой не о чем говорить, чувак”.
Взад-вперед по Кингз-роуд со смехом разгуливали отборнейшие, возмутительно раздетые красавицы в сопровождении столь же возмутительно расфуфыренных и тоже смеющихся мужчин в сюртуках со стоячим воротником, рубашках с рюшем, бархатных брюках клеш и ботинках из поддельной змеиной кожи. Казалось, он единственный в мире не знает, что значит быть счастливым.
В Кембридж он приехал с ощущением, что вот ему уже стукнуло двадцать, а жизнь тем временем проходит мимо. (Тоску последнего курса изведал не он один. Даже вечно жизнерадостный Ян Пилкингтон-Микса впал в глубокую депрессию, из которой, впрочем, скоро выбрался и объявил, что решил стать кинорежиссером и сразу после университета ехать на юг Франции, “потому что, – объяснил он легкомысленно, – там, наверно, нужны режиссеры”.) Как и в Рагби, спасение он нашел в учебе. Наш разум вынужден одно из двух избрать: ⁄ жизнь совершенную или усердный труд, писал Пейте, и раз уж совершенной жизни было не видать как своих ушей, он взялся за труд.
То был год, когда он узнал о существовании шайтанских аятов. Тем, кто собирался в конце года держать экзамен на степень бакалавра с отличием, следовало выбрать три из множества предлагаемых колледжем исторических “спецкурсов”. Он решил сосредоточиться на индийской истории периода борьбы с колониализмом, начиная с восстания сипаев 1857 года и заканчивая провозглашением независимого государства в августе 1947-го; на совершенно потрясающем столетии существования Соединенных Штатов, с 1776-го по 1877 год, с Декларации независимости до окончания затеянной после Гражданской войны Реконструкции; третий спецкурс, читавшийся в тот год впервые, назывался “Мухаммад, экспансия ислама и ранний халифат”. В 1967 году не многих кембриджских студентов-историков интересовал Пророк, настолько не многих, что заявивший этот курс преподаватель отменил лекции и отказался вести тех нескольких человек, которые на него записались, – им было предложено выбрать какую-нибудь еще из предложенных тем. Все они на это согласились, и только он один проявил свое вечное упрямство. Раз курс заявлен, его нельзя отменить, если нашелся хотя бы один слушатель, – таково правило. Сын своего отца, он был безбожником, которого страшно интересовали боги и пророки. К тому же он в некотором роде имел отношение к давно и прочно укоренившейся в Южной
Азии исламской культуре, был наследником богатейшей художественной, литературной и архитектурной традиции моголов и их предшественников. Он твердо вознамерился изучить заявленную в курсе тему. Для этого от него требовалось всего ничего – найти преподавателя, который согласился бы руководить его штудиями.
В то время в Кингз-колледже преподавали три выдающихся историка: Кристофер Моррис, специалист по политической мысли эпохи Тюдоров, церковной истории и философии Просвещения, больше всех из них печатался и имел самую солидную репутацию; Джон Солтмарш, обладатель буйной седой гривы и роскошных бакенбардов, ходил по университету в сандалиях на босу ногу и с торчащими из-под брюк кальсонами, слыл великим чудаком и был непревзойденным знатоком истории колледжа, его капеллы и, шире, всего региона – его частенько видели шагающим с рюкзаком за плечами по проселкам и тропам в окрестностях Кембриджа. Оба они, Моррис и Солтмарш, учились в свое время у основоположника экономической истории сэра Джона Клэпхема, и оба считали медиевиста Артура Хибберта самым блестящим ученым из троицы историков Кингз-колледжа, гением, который, как рассказывают, сдавая студентом выпускной экзамен по истории, выбрал вопросы, которые знал хуже всего, иначе ему было не уложиться во время, отведенное для ответов. Уладить вопрос с проблемным спецкурсом попросили именно Хибберта, и он с готовностью согласился. “Я не специалист в этой области, – сказал он скромно, – но кое-что знаю. Так что, если вам так угодно, я могу быть вашим научным руководителем”.
Упрямый студент с благодарностью принял благородное предложение профессора, стоя у него в кабинете с бокалом шерри в руках. Таково было начало необычного сюжета. Специальный курс, посвященный Мухаммаду, распространению ислама и раннему халифату, был заявлен один-единственный раз, в 1967/68 учебном году, когда на него и записался настойчивый индиец; на следующий год из-за отсутствия интереса к курсу его в программе не заявляли. А для того единственного студента спецкурс воплотил в жизнь отцовскую мечту: биография Пророка и рождение ислама изучались в нем как исторические события, анализировались взвешенно, должным образом. То есть так, как если бы спецкурс задумывался специально для него.
В самом начале совместной работы Артур Хибберт дал ему совет, который он запомнил на всю жизнь. “Никогда не пишите историю, – сказал Хибберт, – пока не услышите, как говорят ее герои”. Он многие годы размышлял над словами профессора и в конце концов решил, что они полностью применимы и к художественной литературе. Не услышав, как разговаривают люди, невозможно их в достаточной мере понять, а значит, невозможно – непозволительно – о них рассказывать. Из того, как человек говорит, короткими ли рублеными фразами или длинными цветистыми периодами, очень многое становится о нем ясно: место рождения, социальный статус семьи, особенности темперамента – спокоен он или вспыльчив, отзывчив или бесчувствен, любит сквернословить или тщательно следит за своей речью, вежлив или груб; а через темперамент раскрывается его подлинная природа – мыслитель он или практик, прямодушен или лжив и – да-да! – хорош или плох. Ему хватило бы, если бы он получил от Артура Хибберта одно лишь это знание. Но он получил гораздо больше, открыл для себя целый мир. Мир, где зарождалась одна из мировых религий.
Они были кочевниками и только начинали переходить к оседлости. Города у них появились совсем недавно. Мекка была основана всего несколько поколений назад. Ясриб, позднее переименованный в Медину, представлял собой несколько кочевых лагерей, раскинувшихся вокруг оазиса и обнесенных снаружи слабым подобием городской стены. Жить в городе им было неуютно, у многих оседлая жизнь вызывала недовольство.
Кочевое общество было консервативным, в нем действовало множество запретов, коллективное благо ценилось выше личной свободы, зато всякому в таком обществе находилось место. Мир кочевников был царством матриархата. Любой, даже сирота, мог укрыться под сенью большой семьи, никто не чувствовал себя ненужным и одиноким. Оседлость меняла привычный порядок вещей. Матриархат сменялся патриархатом, семьи становились меньше. День ото дня в городе появлялось все больше неустроенного люда, который вел себя все беспокойнее. Но Мекка тем временем процветала на радость правившим ею старейшинам. Наследование с недавних пор стало происходить по мужской линии, и это тоже нравилось стоящим у власти семьям.
У ворот города стояли святилища трех богинь, ал-Лат, Манат и ал-Уззы. Божества эти были крылатыми, наподобие величественных птиц. Или ангелов. Каждый раз когда торговые караваны, благодаря которым в город текли богатства, отправлялись в дальние странствия или, наоборот, возвращались домой, они останавливались у святилищ и совершали жертвоприношения. Или, выражаясь в современных нам понятиях, платили пошлину. Святилища контролировались богатейшими семействами Мекки, которые богатели во многом за счет этих “жертвоприношений”. Крылатые богини были средоточием хозяйственной жизни недавно основанного города, нарождавшейся городской цивилизации.
В центре Мекки, в здании, называвшемся Кааба, то есть Куб, стояли изваяния нескольких сотен божеств. Одно из них, далеко не самое почитаемое, изображало божество по имении ал-Лах, означающем бог, точно так же как имя ал-Лат означает богиня. Среди прочих божеств ал-Лах выделялся тем, что не имел сколько-нибудь определенной сферы ответственности, не был богом дождя, богатства, войны или любви, а считался, этак неопределенно, просто богом всего на свете. Возможно, отсутствием специализации и объяснялась его сравнительно небольшая популярность. Когда верующие приносили жертву, у них обычно бывала на то конкретная причина: болезнь ребенка, тревога за успех коммерческого предприятия, засуха, ссора, любовь. Поэтому чаще они обращались к богам с четко обозначенной специализацией, а не к разностороннему, не очень понятному божеству. Но со временем ал-Лаху предстояло превзойти славой всех языческих божеств.
Человеком, который извлек ал-Лаха из полунеизвестности и стал его Пророком, который сделал его равным, или, во всяком случае, равноценным, ветхозаветному Сущему Богу и Богу-Троице Нового Завета, был Мухаммад ибн Абдаллах из рода Бану-Хашим (в годы его детства переживавшего упадок), сирота, выросший в доме своего дяди Абу Талиба. Подростком он начал сопровождать Абу Талиба в его путешествиях по торговым делам. Вместе с дядей он бывал в Сирии, где почти наверняка встречался с христианами, приверженцами секты несториан, и слушал их рассказы, в которых многие места из Ветхого и Нового Заветов были приспособлены к привычным рассказчикам условиям. Так, например, по несторианской версии, Иисус Христос родился под пальмой в оазисе. В Коране, который передал Мухаммаду архангел Джабраил, одна из сур названа именем Майрам, то есть Марии, и в ней говорится, что Иисус явился на свет именно в оазисе, под пальмой.
Мухаммад ибн Абдаллах слыл добродетельным человеком и умелым купцом. Когда ему исполнилось двадцать пять, стать его женой изъявила желание Хадиджа, женщина богаче и старше его. Следующие пятнадцать лет он успешно торговал и наслаждался семейным счастьем. При этом Мухаммад испытывал необходимость иногда побыть наедине с собой. На протяжении многих лет он время от времени восходил на гору Хира и по несколько недель жил там отшельником. Ему было сорок, когда ангел Джабраил нарушил его уединение и велел “читать”. Естественно, сначала он решил, что сошел с ума, и бежал от видения. Однако жена и ближайшие друзья убедили Мухаммада вернуться на гору и на всякий случай послушать, что ангел скажет: вдруг действительно к нему через вестника хотел обратиться сам Бог.
Большая часть событий, последовавших за превращением купца в Посланника Божьего, по праву достойна восхищения; преследования в Мекке, заставившие его бежать в Медину, вызывают сочувствие, а то, как быстро он сделался в Ясрибе авторитетным законодателем, мудрым правителем и искусным полководцем, – внушает уважение. Интересно наблюдать, как непосредственно влияли на содержание откровения мир, которому даровался Коран, и обстоятельства жизни Посланника. Так, когда многие мусульмане пали на поле боя, ангел повелел братьям погибших брать в жены вдов, дабы осиротевшие женщины не порывали с исламом, выходя замуж за иноверцев. Едва пошла молва, будто Аиша, любимая жена Пророка, потерявшись в пустыне, согрешила с неким Сафваном ибн Марваном, как ангел Господень поспешил сообщить от имени Бога, что юная добродетельная особа ничего такого не делала. При более общем взгляде заметно: содержащаяся в Коране система ценностей по сути своей полностью созвучна отмиравшим в те годы законам жизни арабов-кочевников, законам матриархального общества, которое покровительствовало своим членам и не бросало на произвол судьбы сирот – сирот вроде самого Мухаммада, который, добившись уважения и богатства, должен был бы войти в число правителей города, но его в их круг не допускали, поскольку за ним не стояло влиятельной семьи.
Потрясающий парадокс: консервативная в основе своей богословская система, с сочувствием обращенная к уходящему в прошлое укладу, неожиданно оказалась революционной – самыми горячими ее приверженцами стала рассерженная беднота, вытесненная с ростом городов на обочину жизни. Именно поэтому, возможно, правители Мекки посчитали ислам опасным для себя и принялись так ожесточенно преследовать мусульман; и поэтому же, возможно – всего лишь допустим такую вероятность, – попытались нейтрализовать основателя ислама, предложив ему заманчивую сделку.
В большинстве основных сборников хадисов, преданий о жизни Пророка – в тех из них, что составлены ибн Исхаком, аль-Вакиди, ибн Саадом, аль-Бухари и ат-Табари, – фигурирует эпизод, получивший позднее известность как “случай с шайтанскими аятами”. Как-то раз Пророк спустился с горы и прочитал суру (53-ю) под названием “Ан-Наджм”, то есть “Звезда”. В ней, среди прочих, говорилось: “Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат – третью, иную? Они – величественные птицы, и помощь их весьма нам желанна”. Какое-то время спустя – через несколько дней? недель? лет? – он снова побывал на горе и, спустившись, поведал растерянно сподвижникам, что в прошлый раз был обманут: в образе архангела ему тогда явился Дьявол, поэтому переданные в тот раз аяты надо немедленно выкинуть из Корана, поскольку исходят они не от Бога, а от Шайтана. Теперь же ангел принес ему от Бога новые слова, которыми надлежит заменить в священной книге шайтанские аяты: “Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат – третью, иную? Они – только имена, которыми вы сами назвали, – вы и родители ваши. Неужели у вас – мужчины, а у Него – женщины? Это тогда – разделение обидное!”[25] Шайтанову проделку выкинули из Корана, но вопросы остались: почему Мухаммад поначалу принял первое, “ложное” откровение за подлинное? И что происходило в Мекке в период между двумя откровениями, шайтанским и ангельским?
Вот что нам об этом известно: Мухаммад хотел, чтобы его признали жители Мекки. “Он искал, – пишет ибн Исхак, – путей привлечь их на свою сторону”. Весть о том, что он назвал трех крылатых богинь божествами, понравилась народу и быстро распространилась по городу. “Они были очень довольны, – продолжает ибн Исхак, – что он так отозвался об их богах, и радовались, восклицая: “Мухаммад прекрасные слова говорит про наших богов”. Как повествует АльБухари, “Пророк… простерся ниц, произнося “Ан-Наджм”, и вместе с ним пали ниц все мусульмане, все язычники, все джинны и все люди, сколько их было на Земле”.
Но почему же в таком случае впоследствии Пророк взял свои слова обратно? Ряд западных историков (в их числе шотландский арабист Монтгомери Уотт и француз-марксист Максим Родинсон) предлагают политическое объяснение интересующего нас эпизода. Святилища крылатых божеств, говорят они, служили источником дохода городской правящей верхушки, в которую Мухаммад не был допущен – как он сам считал, несправедливо. Так что, возможно, ему предложили “сделку” на таких приблизительно условиях: если Мухаммад, или архангел Джабраил, или Аллах позволит последователям ислама почитать трех птицекрылых богинь – разумеется, не наравне с Аллахом, а как духовных существ низшего порядка, как тех же, например, ангелов (кому бы помешало, если бы к ангелам, уже предусмотренным исламским богословием, добавились еще три, любимые горожанами и зарабатывающие городу деньги?), – то преследования мусульман прекратятся, а Мухаммад войдет в число правителей Мекки. Не исключено, что Мухаммад в какой-то момент поддался искушению.
Что же было дальше? Градоправители передумали, рассудив между собой, что заигрыванием с многобожием Мухаммад дискредитировал себя в глазах последователей? Или мусульмане отказались принять откровение о трех богинях? Или сам Мухаммад решил, что негоже изменять идее, уступив соблазну популярности? Никто не знает этого наверняка. Недосказанное в письменных памятниках остается только додумывать. Но ведь в Коране прямо говорится: через искушения прошли все пророки. “И не посылали Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо”, – сказано в 22-й суре. И если случай с шайтанскими аятами был таким искушением для Мухаммада, то он, между прочим, с честью вышел из положения: признал, что подвергся соблазну, и решительно этот соблазн поборол. Ат-Табари приводит такие слова Пророка: “Я соделал зло против Бога и вложил в уста Ему речи, коих Он не произносил”. Исламский монотеизм прошел испытание огнем, и с тех пор его уже не могли поколебать никакие преследования, изгнания и войны, а совсем немного времени спустя Пророк одолел всех своих врагов и новая религия неукротимым пламенем разнеслась по миру.
“Неужели у вас – мужчины, а у Него – женщины? Это тогда – разделение обидное!”
Смысл “подлинных”, ангельских или божественных, аятов очевиден: именно женскость крылатых богинь принижала их и делала самозванками, доказывала невозможность признания этих “величественных птиц” такими же детьми Божьими, какими считались ангелы. Бывает так, что при рождении великой идеи многое становится понятным о ее будущем; то, как она входит в мир, позволяет провидеть, что ждет ее на этапе зрелости. Что до идеи, о который ведется речь, то уже в ее младенчестве женскость исключала всякую претензию на величие.
Интересный сюжет, думал он, читая обо всем этом в книжках. В ту пору он уже мечтал стать писателем и на всякий случай припрятывал интересные сюжеты в закрома памяти. Настоящее понимание того, насколько этот сюжет интересен, пришло к нему через двадцать лет.
JE SUIS MARXISTE, TENDANCE GROUCHO[26], писали на стенах Парижа той революционной весной. Через несколько недель после парижских evenements[27] мая 1968 года и за несколько дней до выпускной церемонии какой-то пожелавший остаться неизвестным остроумец, возможно даже из лагеря марксистов-граучианцев, в отсутствие хозяина привнес новизну в декор его буржуазной комнаты в элитарном общежитии, изведя на это чуть ли не ведро мясной подливы с луком, каковой щедро вымазал стены и мебель, а также, разумеется, проигрыватель и одежду. Следуя исстари укоренившейся традиции честности и справедливости, которой так гордятся в Кембридже, администрация Кингз-колледжа немедленно возложила всю вину на него одного и, проигнорировав все возражения, поставила в известность, что диплом ему вручат только после того, как он возместит ущерб. Так в первый, но, увы, далеко не в последний раз его облыжно обвинили в разбрасывании дерьма.
Он за все заплатил, но из духа противоречия на выпускную церемонию явился в коричневых ботинках. Его мгновенно выдернули из рядов уместно-черноботиночных однокашников и велели пойти сменить обувь. Таинственным образом люди в коричневых ботинках были обречены на печать неуместно одетых, и этот приговор также обжалованию не подлежал. Он и в этот раз уступил, сбегал переобуться и успел в последний момент вернуться в строй. Когда наконец пришла его очередь, он должен был взять за мизинец университетского служителя и чинно проследовать за ним к подножию монументального трона вице-канцлера[28]. Преклонив колена у ног начальственного старца, он в жесте мольбы, лодочкой сложив ладони, воздел над головой руки и на латыни нижайше попросил вручить ему диплом, который – мысль об этом все время крутилась у него в голове – он заслужил тремя годами усердных трудов, а родители оплатили солидной суммой. Руки ему посоветовали держать повыше, чтобы вице-президенту не пришлось слишком низко нагибаться, а то он, не ровен час, мог навернуться со своего массивного трона прямо на спину выпускнику.
Каждый раз, вспоминая об этих событиях, он ужасался собственной покорности, но выбор у него тогда был небольшой. Он мог, конечно, не платить за перемазанную мясной подливой комнату, мог не переобуваться, не вставать на колени перед вице-канцлером. Но он предпочел смириться и спокойно получить свой диплом. Память о том смирении добавила ему упрямства, из-за нее он стал менее охотно идти на компромиссы и мириться с любой несправедливостью, большой или малой. Несправедливость с тех пор прочно ассоциировалась у него с подливой – грязно-бурой, комковатой, густой жижей, омерзительно, до слез воняющей луком. Нечестно – это когда тебя заставляют сломя голову мчаться к себе в комнату, чтобы сменить объявленные вне закона коричневые ботинки, когда приходится коленопреклоненно на мертвом языке вымаливать нечто, что и так тебе по праву принадлежит.
Много лет спустя он рассказал обо всем этом на актовой церемонии в Бард-колледже. “Сегодня я хочу поделиться с вами мудростью, почерпнутой мною из притч о Неизвестном Подливном Вандале, Табуированной Обуви и Шатком-Валком Вице-канцлере, – говорил он погожим днем в Анандейле-на-Гудзоне, штат Нью-Йорк, выпускникам 1996 года. – Первое: если когда-нибудь вас обвинят в тяжком злоупотреблении подливой – а вас в нем как пить дать обвинят, – при том что подливу вы употребляли исключительно по назначению, не берите вину на себя. Второе: те, кто гонит вас за неправильные ботинки, не стоят того, чтобы с ними считаться. И третье: ни перед кем не опускайтесь на колени, умейте постоять за свои права”. Выпускники 1996 года – кто-то босиком, кто-то с цветами в волосах – подходили за дипломами весело и непринужденно, от избытка чувств пританцовывали, потрясали в воздухе кулаками. Как же это здорово, думал он. Происходящее близко не походило на кембриджскую церемониальность и сильно от этого выигрывало.
Родители к нему на выпуск не приехали. Отец сказал, что ему не по карману авиабилеты. Это было неправдой.
В его поколении были романисты – Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, – чья писательская карьера стартовала стремительно: едва, так сказать, вылупившись из яйца, они величественными птицами взмыли к небесам. А надежды его ранней юности не оправдались. Какое-то время он жил на чердаке в доме на Акфолд-роуд, что неподалеку от Уондсворт-Бридж-роуд, в том же доме поселились его сестра Самин и трое кембриджских приятелей. Убрав приставную лестницу и закрыв лаз в потолке, он подолгу просиживал в защищенном стропилами мирке и делал вид, будто пишет. Что именно, он и сам не очень понимал. Ничего даже отдаленно похожего на книгу у него не складывалось, душевная сумятица тех дней – он объяснил ее впоследствии растерянностью, неумением понять, что он собой представляет теперь, распрощавшись с родным Бомбеем, – дурно сказывалась на его характере: он часто бывал неоправданно резок, затевал споры из-за ерунды. Ему большого труда стоило скрывать изводившую его неотступную тревогу. За что бы он ни брался, все получалось из рук вон плохо. От тщеты сидения на чердаке он спасался в экспериментальных театральных труппах “Сайдуок” и “Затч”, ставивших спектакли на сцене театра “Овал-Хаус” в Кеннингтоне. В длинном черном платье и блондинистом парике, не сбривая усов, он играл ведущую рубрики “Советы мужчинам” в пьесе Дасти Хьюза, такого же, как он сам, выпускника Кембриджа. Еще он участвовал в британской постановке агитпроповского антивоенного мюзикла “Вьет-рок”, первоначально поставленного в Нью-Йорке труппой театра “Ла МаМа”. И спектакли эти были не то чтобы эпохальными, и, что гораздо неприятнее, денег у него не оставалось ни гроша. Через год после окончания Кембриджа он жил на социальное пособие. “И что я теперь скажу друзьям?” – воскликнул Анис Рушди, когда сын объявил о намерении стать писателем; стоя в очереди за пособием, он начал осознавать, что не так уж и не прав был отец. Дом на Акфолд-роуд повидал немало юношеских невзгод. Сестра Самин пережила короткий несчастливый роман с его университетским приятелем Стивеном Брэндоном и, когда роману пришел конец, съехала из дома и вернулась на родину. Вместо нее поселилась девушка по имени Фиона Арден; как-то ночью он обнаружил ее в полубессознательном состоянии на полу у подножия лестницы – она выпила целый пузырек снотворного. Фиона вцепилась ему в запястье и не отпускала, пока они вместе ехали на “скорой” в больницу, где ей спасли жизнь, сделав промывание желудка. После этого приключения он оставил свой чердак и долго болтался по коллективно арендуемым квартирам в Челси и Эрлз-Корте. О Фионе он сорок лет ничего не слыхал, а тут узнал, что она, оказывается, баронесса, заседает в палате лордов и пользуется авторитетом в мире бизнеса. Юность частенько бывала нескладной и убогой, молодые люди вдребезги разбивались в мучительных поисках себя, но случалось и так, что вслед за мучительной полосой жизнь менялась к лучшему.
Вскоре после того как он съехал, дом на Акфолд-роуд сгорел – его поджег какой-то соседский придурок.
Дасти Хьюз устроился сочинять рекламные тексты в агентство “Дж. Уолтер Томпсон”. Как-то вдруг оказалось, что он получает приличные деньги и делает рекламу шампуней, в которой снимаются роскошные блондинки. “Это как раз для тебя работа, – сказал ему Дасти. – Совсем простая”. Сидя как на экзамене в офисе “Дж. Уолтер Томпсон”, он сделал “тестовое задание”: написал тексты для рекламы шоколада “Афтер-эйт” и для джингла на мелодию Чака Берри No Particular Place to Go, агитирующего радиослушателей пристегиваться в автомобиле, а потом попытался меньше чем в ста словах, как того требовали экзаменаторы, объяснить гостю с Марса, что такое хлеб и как сделать хороший тост. На работу его не приняли: с точки зрения рекламного гиганта “Дж. Уолтер Томпсон”, у него напрочь отсутствовали литературные задатки. В конце концов его взяли в агентство поменьше и поскромнее – в “Шарп Макманус”, обосновавшееся на Олбемарл-стрит. Так началась его трудовая биография. В первый день он получил задание сочинить для журнала скидочных купонов рекламу сигар – их по случаю Рождества продавали упакованными в елочные хлопушки. Ему ничего не приходило в голову. Кончилось тем, что любезный “креативный директор” Оливер Нокс, впоследствии автор нескольких понравившихся публике романов, шепнул ему на ухо: “Пять терпких штучек от “Плейере”, чтобы не прохлопать даром Рождество”. Вот это да, подумал он, чувствуя себя полным дураком.
В агентстве в одном с ним кабинете сидела невероятная красавица-брюнетка Фэй Ковентри, у которой тогда разворачивался роман с директором издательства “Джонатан Кейп”[29]Томом Машлером. По понедельникам она рассказывала ему, как провела очередные выходные в занятной компании “Арнольда” (Уэскера)[30], “Гарольда” (Пинтера) и “Джона” (Фаулза)… Как же чудесны были ее рассказы, как же прекрасна жизнь этих людей! Зависть и обида, отчаяние и неукротимое желание быть на них похожим по очереди владели сердцем юного копирайтера. Вот он, казалось ему, литературный мир – такой близкий и такой ужасающе далекий. Когда Фэй из агентства уволилась, сделавшись сначала женой Машлера, а потом уважаемым ресторанным критиком, у него чуть ли не на душе полегчало: литературный мир, которым она его дразнила, снова отодвинулся на безопасное расстояние.
Университет он окончил в 1968 году, “Дети полуночи” вышли в свет в апреле 1981-го. Почти тринадцать лет понадобилось ему, чтобы по-настоящему начать. За эти годы он выдал неимоверное количество словесного мусора. Под это определение подпадает, например, роман “Западня для пира”, который мог выйти неплохим, если бы он сообразил, как правильней эту вещь писать. В романе, действие которого разворачивалось в стране, похожей на Пакистан, рассказывалась история святого человека, по-персидски пира, поставленного тремя заговорщиками – военачальником, политиком и капиталистом – во главе переворота, с тем чтобы после победы он занял место номинального лидера, тогда как реальная власть досталась бы им троим. Но пир оказался умнее и решительнее поставивших на него игроков – те слишком поздно поняли, что выпустили на волю неуправляемое чудовище. Писалось это задолго до того, как аятолла Хомейни подмял под себя революцию, которую должен был лишь номинально возглавить. Если бы он не пытался оригинальничать и написал нормальный политический триллер, из романа могло бы еще что-то получиться; но вместо этого он облек повествование в неудобопонятную форму потока сознания нескольких персонажей. Роман никому не понравился. О публикации и речи не шло. Книга получилась мертворожденной.
Но это был еще не предел. Когда Би-би-си понадобился новый сценарист, он послал на объявленный телевизионщиками конкурс пьесу. Она представляла собой диалог двух разбойников, распятых вместе с Христом – пока великий человек еще не взошел на Голгофу, они беседуют в духе бек-кетовских бродяг Диди и Того. Называлась пьеса (ну разумеется) “Перекрестные помехи”. Она была до невозможности глупой и на конкурсе не победила. После пьесы он написал еще один текст романного объема, недопинчоновскую чушь под названием “Антагонист”, настолько слабую, что он никому ее не показал. На жизнь он зарабатывал рекламой. Называть себя прозаиком не дерзал. Он был копирайтером, который, как все на свете копирайтеры, мечтал стать “настоящим” писателем. И вполне отдавал себе отчет, насколько он пока не настоящий.
Откровенный безбожник парадоксальным образом не оставлял попыток написать про божественное. С верой он давно расстался, но тема религии никуда не делась, по-прежнему упорно подстегивала его воображение. Его ум сформировали метафоры и сам строй религиозных учений (христианского и индуистского в не меньшей мере, чем исламского), их сосредоточенность на главных вопросах бытия – Откуда мы пришли в этот мир? Придя в этот мир, как нам следует жить? – была близка и понятна ему даже при том, что его мысли не требовалось ни одобрения со стороны божественного арбитра, ни, тем более, ограничений и толкований, исходящих от земного священства. Его первый опубликованный роман “Гримус” увидел свет в издательстве “Виктор Голланц” трудами Лиз Колдер, которая тогда еще не ушла в “Джонатан Кейп”. В основе романа лежала мистическая поэма “Мантик аль-Таир”, или “Беседа птиц”, созданная в одиннадцатом веке мусульманским Джоном Баньяном1, суфием Фаридом ад-Дин Аттаром, родившимся на территории нынешнего Ирана в городе Нишапур четыре года спустя после смерти самого прославленного сына этого города, поэта Омара Хайяма. Поэма – этот “Путь паломника” по-исламски – рассказывает о путешествии тридцати птиц под предводительством удода к горе Каф, обиталищу их бога Симурга. Преодолев семь долин страданий и откровений, они достигают наконец вершины горы и не находят там никакого бога, но узнают, что два слога – “си” и “мург”, – составляющие имя “Симург”, означают “тридцать птиц”. Пройдя через страдания, они сами стали тем богом, к которому стремились.
“Гримус” – анаграмма “Симурга”. В научно-фантазийной переделке Аттаровой притчи индеец, без затей названный
1 Джон Баньян (1628–1688), – протестантский проповедник, автор мистической аллегории “Путь паломника”, важнейшего произведения английской религиозной литературы. Взлетающим Орлом, разыскивает таинственный Телячий остров – Каф-айленд. Отзывы на роман были прохладными, а местами даже чуть ли не издевательскими – такой прием чрезвычайно расстроил автора. Дабы не поддаться отчаянию, он в спешном порядке сочинил небольшую сатирическую повесть, в которой карьера премьер-министра Индии Индиры Ганди развивается не на политической сцене, а в мире бомбейской киноиндустрии. (Отдаленным ориентиром при этом служил роман “Наша банда”, сатира Филипа Рота на Ричарда Никсона.) Книжка получилась вульгарной – в одном ее эпизоде, например, кинозвезда Индира увеличивает пенис покойному отцу – и потому сразу же после написания отправилась в корзину. Дальше катиться было некуда.
Шестая долина на пути тридцати птиц из поэмы Аттара была краем потерянности – в том краю птицы решили, будто ничего не знают и не понимают, и впали в тоску и уныние. Седьмой долиной была долина смерти. В середине 1970-х молодой копирайтер и несостоявшийся романист ощущал себя тридцать первой отчаявшейся птицей.
Работа в рекламе слывет занятием тупиковым и бесперспективным, но ему оно пошло скорее на пользу. Из агентства “Шарп Макманус” он перешел в контору покрупнее, в рекламную компанию “Огилви энд Мазер”, основанную Дэвидом Огилви, автором знаменитого изречения “Потребители товаров не какие-то там дебилы, а ваши жены”. Изредка по ходу работы случались мелкие конфликты, как, например, в тот раз, когда одна американская авиакомпания запретила ему использовать в своей рекламе чернокожих стюардесс, при том что их много было в штате компании. “А что, если о вашем запрете узнают в профсоюзе?” – поинтересовался он у представителя авиакомпании. “Но вы ведь, надеюсь, туда не сообщите?” – ответил тот. В другой раз он отказался делать рекламу говяжьей солонины компании “Кэмпбелл”, потому что она производилась в ЮАР, а Африканский национальный конгресс тогда как раз призвал бойкотировать южноафриканские товары. Его за это чуть не уволили, но заказчик на его изгнании настаивать не стал, и место осталось за ним. В 1970-е в мире рекламы вольнодумцами и чудаками не разбрасывались, с работы первыми гнали не их, а самоотверженных трудяг, изо всех сил цеплявшихся за рабочие места. Если ты всем своим видом показывал, что работа тебе не так уж нужна, вечно опаздывал и устраивал себе длинные и пьяные обеденные перерывы, тебя повышали в должности, тебе то и дело прибавляли зарплату, а небожители с благосклонной улыбкой взирали на твою созидательную экстравагантность – во всяком случае, пока от тебя был хоть какой-то толк.
Работал он по большей части с людьми, которые ценили и всячески поддерживали его, с талантливыми людьми, для которых, как и для него самого, реклама была площадкой для старта к чему-то большему либо просто служила источником легкого заработка. Он придумал рекламный ролик для скотча-невидимки, где достоинства незаметной клейкой ленты демонстрировал Джон Клиз (“Как видите, ее не видно – в отличие от обычной ленты, которая, как вы видите, видна”), и для краски для седых волос “Нежная забота” компании “Клэрол”, снятый Николасом Роугом, прославленным режиссером фильмов “Представление” и “А теперь не смотри”. В 1974 г°Ду, в эпоху введенной из-за шахтерских забастовок трехдневной рабочей недели с ежедневными отключениями электричества и паническим хаосом в студиях озвучания и дубляжа на Уордор-стрит, он без малого полгода подряд делал для “Дейли миррор” по три рекламных ролика в неделю, и, несмотря на тяжелое время, все они до одного появлялись в эфире. После этого его не пугала и работа в кино. Реклама, кроме того, проложила ему путь в Америку – его отправили в путешествие по стране, чтобы потом написать рекламные брошюры для компании “Ю-Эс трэвел сёрвис”, выходившие под общим слоганом “Великое американское приключение” и с фотоиллюстрациями легендарного Эллиота Эрвитта. В аэропорту Сан-Франциско, куда он прилетел усатым и изрядно обросшим, на видном месте висело огромное объявление: НЕСКОЛЬКО ЛИШНИХ МИНУТ НА ТАМОЖНЕ – НЕ БОЛЬШАЯ ЦЕНА ЗА ТО, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАРАЗЫ. Неправдоподобно классической наружности реднек одобрительно прочел этот текст, а затем, уже с совсем другим выражением лица и явно не видя в своем поведении внутреннего противоречия, посмотрел на волосатого чужестранца – выглядел тот, следует признать, крайне подозрительно и явно прямиком из аэропорта направлялся в Хайт-Эшбери, мировую “контркультурную” столицу секса, наркотиков и рок-н-ролла, – посмотрел на него и сказал: “Жаль мне тебя, дружище, – даже если у тебя с собой ничего, эти что-нибудь да найдут”. Но все обошлось, наркотиков молодому сочинителю рекламных текстов не подкинули и позволили вступить в пределы волшебного королевства. Когда он наконец допутешествовал до Нью-Йорка, ему в первый же вечер пришлось облачиться в самую курьезную из возможных униформ, в костюм и галстук, и все ради того, чтобы друзья отвели его выпить в бар “Окно в мир” на крыше Всемирного торгового центра. Оттуда он впервые увидел запечатлевшуюся на всю жизнь картину – могучие здания, словно говорящие хором: Мы здесь навсегда.
Сам же он болезненно переживал зыбкость своего положения. Жизнь с Клариссой складывалась у него счастливо, и это счастье худо-бедно сдерживало бушевавшую в душе бурю; любой другой молодой человек на его месте утешался бы еще и успехами в профессиональной деятельности. Но неустроенность внутренней жизни, постоянные неудачи в стремлении стать нормальным публикующимся прозаиком не давали ему покоя, занимали все его мысли. Он решил не обращать внимания на чужие критические суждения о своем творчестве и вместо этого постарался самостоятельно с ним разобраться. К этому времени он уже начинал догадываться: с писательством у него не складывается ровно потому, что что-то не складывается с осознанием собственного “я”. Он толком не понимал, кто он такой, и потому никак не становился тем писателем, каким должен был бы стать. Но постепенно у литератора-неудачника складывалось более-менее внятное представление о своей человеческой сути.
Он был эмигрантом, жизнь занесла его совсем не туда, откуда вынесла. Эмиграция оборвала корни, которыми его личность держалась за родную почву. До того как это произошло, он жил в хорошо ему известном месте среди хорошо его знавших людей, следовал обычаям и традициям, знакомым и понятным ему и его окружению, разговаривал на родном языке с людьми, для которых этот язык такой же родной. Место, окружение, культура и язык – из четырех его корней были оборваны три. Он потерял свой любимый Бомбей; на старости лет родители без долгих разговоров продали дом его детства и из каких-то непостижимых для него соображений перебрались в Пакистан, в Карачи. Там родителям жить не нравилось, и это естественно. В сравнении с Бомбеем, Карачи – что Дулут[31] в сравнении с Нью-Йорком. Их объяснения казались ему абсолютно надуманными. Как мусульмане, они якобы ощущали себя в Индии все большими чужаками. Они-де хотели выдать дочерей замуж за добропорядочных мусульман. У него это не укладывалось в голове. Прожив всю жизнь в счастливой безрелигиозности, родители теперь оправдывали свой выбор религиозными соображениями. Он их доводам не верил. Если отец с матерью скоропалительно продали дом, к которому прикипели душой, и навсегда оставили город, который любили, тому, не сомневался он, должно найтись реалистическое объяснение – вроде проблем с бизнесом или налоговых неприятностей. Что-то тут было нечисто, что-то они от него скрывали. Время от времени он высказывал свои сомнения родителям, но те уходили от разговора. Он так и не разгадал их тайны; отец с матерью умерли, так и не признавшись, что у них имелась потаенная причина для переезда. В Карачи по сравнению с Бомбеем набожности у них не прибавилось, так что любые апелляции к исламу звучали в их устах неуместно и неправдоподобно.
Ему было тревожно от неумения понять, почему так поменялся облик его жизни. Доходило до того, что она казалась ему лишенной смысла и даже абсурдной. Он был уроженцем Бомбея, живущим в Лондоне среди англичан, однако часто при этом ощущал проклятие двойной бесприютности. Единственный из его корней, языковой, счастливо уцелел, но со временем он все отчетливее понимал, сколь дорого обошлась ему потеря остальных трех и в сколь глубокое замешательство он приходил от своего тогдашнего “я”. В век тотальной эмиграции на долю миллионов сорванных с насиженных мест “я” выпадали колоссальные испытания – бездомность, голод, безработица, болезни, гонения, одиночество и страх. Ему повезло гораздо больше других, но одно суровое испытание – испытание поиском нового своего “я” – выпало и на его долю. Личность эмигранта неизбежно превращается из однородной в многосоставную, тяготеющую не к одному месту на Земле, а к нескольким одновременно, скорее многоликую, чем цельную, умеющую вписаться в разные жизненные уклады и сбитую с толку сильнее, чем средняя оседлая личность. Остается ли у такой личности возможность, вместо того чтобы болтаться неукорененной, завести себе сразу несколько корней? Не мучиться их отсутствием, а извлекать выгоду из их избытка? Для этого корни должны быть одной или более-менее равной мощности, между тем его связь с Индией пугающе истончилась. Ему необходимо было восстановить в прежнем объеме индийскую составляющую своего “я”, которой иначе он мог лишиться навсегда. Ведь для человеческого “я” равно важны и отправная точка, и пройденный из нее путь.
Дабы осмыслить свой путь, он должен был вернуться к отправной точке и оттуда вдумчиво его повторить.
На этом-то этапе раздумий он и вспомнил про Салима Синая. Этот прото-Салим из Западного Лондона был второстепенным персонажем признанного никуда не годным и заброшенного “Антагониста”. Он сконструировал его из дорогих сердцу деталей: Салимом персонаж звался в память об однокласснике по бомбейской школе Салиме Мерчанте (и по созвучию с “Салманом”), а фамилия “Синай” восходила к имени жившего в одиннадцатом веке мусульманского ученого-энциклопедиста Ибн Сины (Авиценны), точно так же как фамилия “Рушди” – к имени “Ибн Рушда”. В “Антагонисте” Салим был проходным персонажем, и никто бы не заметил, прошествуй он по своей Лэдброук-Гроув прямиком в небытие, если бы не одно “но”: Салим появился на свет в полночь с 14-го на 15 августа 1947 года, в “полночь свободы”, с которой началась история Индии, освободившейся от британского господства. Все шло к тому, что этот самый бомбейский полуночный Салим заслуживает отдельной книги.
Сам он родился за полтора месяца до провозглашения независимости от Британской империи. Его отец шутил: “Вот завелся у нас Салман, и через полтора месяца англичане дали деру”. В этом смысле Салим смотрелся еще большим героем – англичане бежали в самый момент его рождения.
Создатель Салима появился на свет в “Родильном доме доктора Широдкара” – гинеколога В. Н. Широдкара, именем которого названа операция, проводимая беременным при приистмико-цервикальной недостаточности. Этого доктора он оживит под другим именем на страницах своей новой книги. Район Вестфилд-истейт, что над Уорден-роуд (переименованной теперь в Бхулабхай-Десай-роуд[32]), с домами, выкупленными у покидавших Индию англичан и носившими названия королевских резиденций – вилла “Гламз”, вилла “Сандринхем”, вилла “Балморал” и родная его Виндзор-вилла, – возродится в этой книге под именем “Месволд-истейт”, а Виндзор-вилла станет в ней виллой “Букингем”. Соборная школа для мальчиков, основанная “попечительством Англо-шотландского образовательного общества”, появится в романе под настоящим своим названием, большие и малые впечатления детской жизни – отхваченный дверью кончик пальца, смерть товарища прямо во время уроков, Тони Брент, поющий The Clouds Will Soon Roll By, джазовые “джем-сейшены” по утрам в воскресенье в районе Колаба, “дело Нанавати”, нашумевшая история о том, как высокопоставленный военный моряк убил любовника жены, а ее ранил из пистолета, но не смертельно – войдут в книгу, преображенные фантазией сочинителя. Врата памяти отворились, и в них ринулось прошлое. Оставалось сесть и писать.
Сначала он подумывал писать немудреный роман о детстве, но слишком уж многое вытекало из обстоятельств рождения протагониста. Коль скоро нововоображенный Салим Синай и новорожденная нация оказались близнецами, то и рассказ приходилось вести о них обоих. На страницы книги вторглась история, всеохватная и глубоко личная, созидательная и разрушительная, – и он понял, что произведению потребуется совсем иной масштаб. Великая задача исторической науки – осознать, каким образом под действием неких колоссальных сил формируются отдельные человеческие личности, общности, народы и сословия, которые, в свою очередь, обладают способностью временами менять вектор приложения этих сил; ту же задачу должна была решать книга, написанная им, историком по образованию. Его охватил творческий азарт. Он нашел точку, где пересекались личное и всеобщее, и решил выстроить на этом перекрестке свою книгу. Политика и частная жизнь не могли в ней существовать вне зависимости одна от другой. Это только в старину для Джейн Остин, писавшей в самый разгар Наполеоновских войн, естественно было ни разу о них не упомянуть и видеть главное назначение британских военных в том, чтобы носить мундиры и украшать своим присутствием рауты. Не могла эта книга и быть написанной хладнокровным, в духе Форстера, языком. Ведь в Индии не холодно, а жарко. Жаркая, перенаселенная, сумбурная и шумная страна требовала соразмерного ей языка, и он попытался такой язык найти.
Он отдавал себе отчет, сколь необъятен его замысел, понимал, что ставит на карту последнее в ситуации, когда шансы на проигрыш гораздо выше, чем на победу. Именно так, ловил он себя на мысли, все и должно быть. У него оставалась одна, последняя попытка воплотить в жизнь мечту, и глупо было бы потратить ее на сочинение острожной, благопристойной, проходной вещицы. Нет, он проделает невероятной смелости художественный эксперимент, и плодом его станет роман… Как же его назвать? “Синай”? Нет, так нельзя, а то все решат, что в нем повествуется о Ближневосточном конфликте или о Десяти заповедях. “Полночное дитя”? Но ребенок-то будет не один, сколько их появилось на свет в тот полночный час – несколько сотен? тысяча? или, что было бы совсем прекрасно, тысяча и один? То есть получается “Полночные дети”? Снова нет, название тоскливое и отдает ночным шабашем педофилов… “Дети полуночи”! Да, вот оно!
Его аванс за “Гримуса” составил внушительные 750 фунтов, с учетом проданных во Францию и Израиль прав на перевод выходило 825. Располагая означенной суммой на банковском счете, он набрал побольше воздуха в легкие и высказал Клариссе такую идею: он бросает работу в “Огилви”, они отправляются в Индию и живут там, покуда хватает денег, путешествуют с минимальными тратами, погружаются в неисчерпаемую индийскую реальность, он вдоволь пьет из рога изобилия, а потом возвращается и садится писать. “Хорошо”, – не задумываясь ответила она. Он обожал это ее безрассудство, которое в свое время подвигло Клариссу броситься к нему в объятья, дав отставку одобренному матерью мистеру Льюорти из городишка Уэстерхем, графство Кент. Да, они шли ва-банк. И она его в этом поддержала, так же как поддерживала до сих пор. Во время своей индийской одиссеи они останавливались в ночлежках, сутки и более подряд проводили в автобусах, где им на ноги тошнило кур, спорили с аборигенами Кхаджурахо, которые считали скульптурные изображения тантрического секса в их знаменитом храмовом комплексе непотребными и предназначенными лишь для туристов, заново познавали Бомбей и Дели, гостили у старинных друзей его семьи, а однажды и в доме у исключительно негостеприимного дядюшки и его еще более негостеприимной новой жены, перешедшей в ислам австралийки, – от этого дядюшки, делавшего все, лишь бы они поскорее убрались вон, он много лет спустя получил письмо с требованием денег. Он побывал в приюте для вдов в Бенаресе, посетил в Амритсаре парк Джаллианвала-Багх, где в 1919 году учинил бойню генерал Дайер[33]; а потом, по горло сытый Индией, поехал в Англию писать книгу.
Прошло пять лет: они с Клариссой были женаты, у них родился сын Зафар, роман был окончен и даже издан. На одной из встреч, где он читал отрывки из книги, индийская женщина встала и сказала: “Спасибо вам, мистер Рушди, за то, что вы рассказали про мою жизнь”. У него комок подступил к горлу. На следующей встрече к нему обратилась другая индийская женщина: “Мистер Рушди, я прочитала ваш роман “Дети полуночи”. Он очень длинный, но это не страшно, я все равно дочитала его до конца. И теперь хочу вас спросить: а что вы, по большому счету, хотели им сказать?” Журналист из Гоа посетовал: “Вам повезло, вы быстрее дописали”, – и показал машинопись своего романа про мальчика, родившегося в Гоа в ту же полночь, что и Салим Синай. В “Нью-Йорк таймс бук ревью” написали, что в романе “целый континент обрел, похоже, свой голос”, на что множество литературных голосов Южной Азии на несметном числе языков отозвались эхом: “Да неужели?” И еще случилось много всего такого, о чем он и мечтать не смел: пришли премии, первые места в списках бестселлеров и, вообще говоря, популярность. Индия сердечно приняла его книгу и признала своим писателем, вернула себе точно так же, как он надеялся вернуть себе эту страну – лучшей награды не могло присудить ни одно жюри ни одной премии. Опустившись до самого дна, он все-таки отыскал волшебную дверь, выход к сияющим вершинам. Он снова окажется на этом дне после провозглашенной Хомейни фетвы, но и тогда найдет в себе силы не сдаться, ни в чем не изменить своему “я”.
После Индии он вернулся к работе копирайтера, выговорив себе сначала у “Огилви”, а потом и у другого агентства, “Эйер Баркер Хегеманн”, двух-трехдневную рабочую неделю, что оставляло ему четыре или пять дней для написания книги, будущих “Детей полуночи”. Когда роман был опубликован, он решил, что пришло время окончательно расстаться с этой весьма доходной работой. У него на тот момент был маленький ребенок, а уход из рекламного бизнеса сулил немалые денежные затруднения, но для творчества настоятельно требовалась свобода. Он посоветовался с Клариссой. “Нам придется приготовиться к бедности”, – сказал он ей. “Хорошо, – уверенно ответила она. – Разумеется, увольняйся”. Совершенно неожиданный для них обоих коммерческий успех “Детей полуночи” явился наградой их общей решимости – решимости шагнуть в неизвестность, не цепляться за гарантированный службой доход.
Когда он заявил боссу о желании уйти из агентства, тот решил, что у него требуют прибавки. “Да нет, дело в том, что я хочу попробовать заняться исключительно литературой”, – объяснил он боссу. А, сказал босс, то есть вы хотите, чтобы вам сразу много прибавили. “Нет же, я не торговаться с вами пришел. Просто, как положено, за месяц предупреждаю вас, что увольняюсь. Ровно через тридцать дней я больше на работу не выйду”. Ну-у, протянул босс, боюсь, столько мы точно вам платить не сможем.
Тридцать один день спустя, летом 1981 года, уже ничто не отрывало его от писательства, которому он отныне целиком себя посвятил. Когда он в последний раз вышел за порог рекламного агентства, его прямо-таки опьянило чувство свободы. Он отбросил рекламную шелуху, как ненужную больше кожу, хотя и продолжал втайне гордиться самым известным своим слоганом “Такие неполезные – с ума сойти!”, придуманным для производителя пирожных с кремом. Когда в том же году за “Детей полуночи” ему присудили Букеровскую премию, первая поздравительная телеграмма – в те времена одна из разновидностей посланий, которыми люди обменивались между собой, называлась “телеграмма” – была от того последнего, не сразу понявшего его босса. “Примите поздравления, – говорилось в ней. – Здорово, что наградили одного из нас”.
На подходе к Стейшнерз-Холл, где должна была состояться Букеровская церемония, им с Клариссой повстречалась неугомонная Кармен Каллил, австралийка ливанского происхождения, основательница феминистского издательства “Вираго”. “Салман, лапушка, – воскликнула она, – ты обязательно победишь!” Он сразу решил, что Кармен его сглазила и теперь ему премии уж точно не видать. Шорт-лист в тот год был выдающимся: Дорис Лессинг, Мюриэл Спарк, Иэн Макьюэн… Ему ли с ними тягаться! Кроме того, на премию претендовал Д.М. Томас с романом “Белый отель”, признанным многими критиками настоящим шедевром. (Это было еще до обвинений в многочисленных заимствованиях из “Бабьего Яра” Анатолия Кузнецова, повредивших репутации книги в глазах некоторой части публики.) Нет, сказал он Клариссе, ты даже не надейся.
Много лет спустя одна из членов тогдашнего букеровского жюри, блестящий автор и ведущая телепрограмм об искусстве Джоан Бейкуэлл, рассказала ему, как боялась, что председательствовавший в жюри Малкольм Брэдбери станет всеми правдами и неправдами проталкивать “Белый отель”. Перед финальным голосованием она частным образом встретилась с двумя другими экспертами, литературным критиком Гермионой Ли и профессором Принстонского университета Сэмом Хайнсом, и все трое пообещали друг другу не уступать давлению и отдать свой голос за “Детей полуночи”. В результате Брэдбери и пятый член жюри Брайан Олдисс проголосовали за “Белый отель”, а роман “Дети полуночи” победил с минимальным перевесом: три голоса против двух.
Д. М. Томас на церемонии награждения не присутствовал, а его редактор Виктория Петри-Хей очень нервничала оттого, что ей, возможно, придется принимать за него премию, и потому пила один бокал за другим. Когда он после награждения снова столкнулся с ней, она, уже в основательном подпитии, призналась, что только рада, что все обошлось и ее не заставили зачитывать благодарственную речь Томаса. Достав из сумочки конверт с текстом речи, она рассеянно помахивала им в воздухе: “И что мне теперь с этим делать, ума не приложу”. – “А вы мне отдайте, – сказал он, в расчете сыграть жестокую шутку. – Чтобы не потерялся”. Виктория была так пьяна, что безропотно послушалась. Следующие полчаса он проходил с текстом благодарственной речи Д. М. Томаса в кармане. Но в конце концов в нем заговорила совесть, он разыскал совсем к тому времени расклеившуюся редакторшу и вернул нераспечатанный конверт. “Постарайтесь не потерять”, – сказал он ей.
Показывая своему редактору Лиз Колдер красивый, переплетенный в кожу наградной экземпляр “Детей полуночи”, он раскрыл его на том месте, где помещался экслибрис с надписью ЛАУРЕАТ. Она, не в силах сдержать радость, плеснула на экслибрис шампанским – так сказать, “окрестила” книжку. Видя, как расплываются от шампанского буквы, он в ужасе вскричал: “Что вы наделали!” Через пару дней учредители премии прислали новенький чистый экслибрис, но он уже не хотел расставаться с первым, прошедшим победное крещение. И заменять его на новый не стал.
Так у него начались годы благополучия.
Ему выпало семь благополучных лет – далеко не всем писателям выпадает столько, – и потом в тяжелые времена он вспоминал эти годы с неизменной благодарностью. Через два года после “Детей полуночи” он опубликовал роман “Стыд”, вторую часть диптиха, посвященного миру, выходцем из которого он был. Эта вторая книга задумывалась как прямая противоположность первой: действие в ней происходит в основном не в Индии, а в Пакистане, она короче, сюжет закручен крепче, повествование ведется не от первого лица, а от третьего, и в центре его попеременно оказываются разные персонажи, а не один антигерой-рассказчик. В отличие от первой, вторая книга писалась без любви; в его восприятии Пакистан был прежде всего до смешного свирепой страной. Страной, где горстка жуликов правила беспомощным большинством, где продажные политиканы и беспринципные генералы то выступали заодно, а то гнали и казнили друг друга, страной, отдаленно повторяющей Рим эпохи цезарей, в котором буйные тираны спали с родными сестрами, возводили своих коней в сенаторское достоинство и музицировали, глядя на подожженную столицу. Но что бы ни творилось в дворцовых стенах, какое бы кровавое безумие за ними ни происходило, от этого в жизни простых римлян – равно как простых пакистанцев – абсолютно ничего не менялось. Дворец всегда оставался дворцом. Правящая верхушка власть из своих рук не выпускала.
Переехать в Пакистан было со стороны родителей большой ошибкой, нелепым недоразумением, из-за которого он лишился родного дома. И сам Пакистан казался ему историческим недоразумением, недостаточно продуманной страной, основанной наложной презумпции, будто религия способна связать воедино народы – пенджабцев, синдхов, бенгальцев, белуджей и пуштунов, – которых искони разделяли и география, и история, страной, явившейся на свет птицей-уродом, “разделенной тысячью миль на два крыла, у которой вместо тулова – клин чужой и враждебной земли (злее врага не сыскать!) и нет перемычки меж крыльями, разве только Аллах соединяет их”[34], птицей, потерявшей в скором времени свое восточное крыло[35]. Что есть взмах одного крыла? Пакистан – таков ответ на эту вариацию знаменитого дзенского коана. В “Стыде”, его пакистанском романе (за книгой закрепилось слишком уж упрощенное определение: на самом деле и в “Детях полуночи” Пакистана хватало, и Индия в “Стыде” вполне себе фигурировала), юмор был чернее, политиканы – кровавее и потешнее, как если бы, объяснял он сам себе, жестокие перипетии “Двенадцати цезарей” или какой-нибудь шекспировской трагедии взялись представлять фигляры, высокой трагедии недостойные, как если бы “Короля Лира” разыграли цирковые клоуны, скрестив трагедию с балаганом. Роман он написал на удивление быстро: если работа над “Детьми полуночи” заняла у него пять лет, то со “Стыдом” он управился за полтора года. Книгу практически повсеместно встретил радушный прием. В Пакистане она, как и следовало ожидать, была запрещена личным указом диктатора Зия-уль-Хака, который легко узнавался в персонаже по имени Реза Хайдар. Несмотря на запрет, в Пакистан попало немало экземпляров романа, в том числе, как рассказывали ему пакистанские друзья, по каналам дипломатической почты – работники посольств жадно прочитывали книгу и отдавали читать пакистанцам.
Несколько лет спустя он совершенно случайно узнал, что в Иране “Стыд” даже удостоился премии. Роман без ведома автора был опубликован в переводе на фарси, и это санкционированное властями пиратское издание признали затем лучшей переводной книгой года. Мало того что автора никто не удосужился наградить – ему даже не сообщили о присуждении премии. Но интереснее другое: если верить доходившим из Ирана рассказам, когда пятью годами позже увидели свет “Шайтанские аяты”, немногочисленные иранские торговцы англоязычной литературой решили, что новая книга писателя, чья предыдущая вещь снискала высочайшее одобрение муллократов, будет неплохо расходиться; поэтому они закупили изрядное количество экземпляров первого, вышедшего в сентябре 1988 года, издания “Шайтанских аятов” и преспокойно, не вызывая ничьего неудовольствия, целых шесть месяцев торговали ими вплоть до провозглашения фетвы в сентябре 1989-го. Он не знал наверняка, правдивы ли эти рассказы, но ему хотелось им верить: они подтверждали, что направленное против книги негодование не возникло в низах, а насаждалось сверху.
Но пока, в середине восьмидесятых, ни о какой фетве и близко речи не шло. Тем временем успех, которым пользовались его книги, оказал благотворное воздействие на его нрав: постоянное внутреннее напряжение спало, он стал веселее, покладистей, проще в общении с людьми. Но и в эти благостные времена старшие собратья-писатели почему-то все как один предупреждали его: все хорошее когда-нибудь да кончается. Энгус Уилсон незадолго до своего семидесятилетия пригласил его на ланч в клуб “Атенеум”; слушая ностальгические воспоминания мэтра о “тех днях, когда я был модным писателем”, он понимал: создатель “Англосаксонских поз” и “Стариков в зоопарке” ненавязчиво напоминает о непостоянстве удачи, о том, что вчерашний задиристый юнец назавтра запросто превращается в печального, всеми забытого пенсионера.
В связи с выходом американского издания “Детей полуночи” он поехал в Соединенные Штаты, где снялся у известного фотографа Джил Крементц и познакомился с ее мужем Куртом Воннегутом; новые знакомые пригласили его провести выходные у них в гостях в прибрежной деревушке Сагапонак на Лонг-Айленде. “Писательство – это у вас всерьез?” – ни с того ни с сего спросил Воннегут, когда они сидели вдвоем на солнцепеке и пили пиво. Услышав утвердительный ответ, автор “Бойни номер пять” сказал: “В таком случае приготовьтесь: придет день, когда вам нечего будет писать, а писать все равно придется”.
По дороге в Сагапонак он просматривал подборку рецензий, которую прислали ему из выпустившего роман издательства “Альфред Нопф”. Анита Десай[36] поместила удивительно теплый отзыв о нем в газете “Вашингтон пост”; если роман ей понравился, думал он, то, может быть, я и впрямь написал что-то стоящее. Положительной была и рецензия в “Чикаго трибюн”, подписанная Нельсоном Олгреном… “Человек с золотой рукой”, “Прогулка по дикой стороне”… Неужели тот самый Нельсон Олгрен? Любовник Симоны де Бовуар и приятель Хемингуэя? Это прямо какое-то благословение из золотого прошлого англоязычной литературы. Нельсон Олгрен, не верил он своим глазам, а я-то думал, его нет в живых. В Сагапонак он явился раньше, чем рассчитывали хозяева. Чета Воннегутов как раз собиралась навестить только что приехавшего из города друга и соседа… Нельсона Олгрена. Они оценили невероятное совпадение. “Что ж, – сказал Курт, – раз он написал рецензию на вашу книжку, значит, и повидаться с вами не откажется. Пойду позвоню ему, предупрежу, что вы идете с нами”. Он исчез в доме, но очень скоро снова появился на пороге с изменившимся, посеревшим лицом. “Нельсон Олгрен только что умер”, – проговорил Воннегут. Прежде чем случился сердечный приступ, Олгрен все приготовил для приема гостей. Гости, пришедшие первыми, обнаружили его мертвым на ковре в гостиной. Рецензия на “Детей полуночи” была последним написанным им текстом.
Нельсон Олгрен. А я-то думал, его нет в живых. Смерть Олгрена повергла Воннегута в мрачное расположение духа. Его гость тоже задумался о том, что каждый из нас рано или поздно в не ведомый никому миг так же растянется на ковре.
Успех “Детей полуночи” у американской критики явился неожиданностью для издателей. Автор романа приехал в Нью-Йорк за свой счет просто потому, что ему хотелось присутствовать при выходе книги в свет; никаких интервью с ним запланировано не было и не последовало даже после появления положительных отзывов в прессе. Книжка вышла небольшим тиражом, потом последовали небольшая допечатка и издание в бумажной обложке, тоже не очень массовое. Зато ему повезло пожать руку самому легендарному Альфреду А. Нопфу, пожилому элегантному джентльмену в дорогом пальто и черном берете, которого он встретил у входа в редакцию в доме 201 по Восточной 50-й улице. Кроме того, он познакомился со своим американским редактором, долговязым Робертом Готлибом, личностью тоже вполне легендарной. Боб Готлиб привел его к себе в кабинет, украшенный гирляндами разноцветных флажков и поздравительными открытками к пятидесятилетию. Они успели уже поговорить о том о сем, когда Готлиб вдруг сказал: “Теперь, когда я понял, что вы мне нравитесь, признаюсь: я не ожидал, что так будет”. Собеседник был неприятно поражен. “Почему? – Он с трудом подбирал слова. – Вам не понравилась моя книга? Я хотел сказать, если вы издали мой роман…” Боб покачал головой. “Ваш роман ни при чем, – сказал он. – Недавно я прочел по-настоящему великую книгу одного по-настоящему великого писателя и, прочитав, понял, что мусульмане мне нравиться не могут”. Это заявление ошарашило его еще больше. “И что же это за великая книга? – спросил он у Готлиба. – И как зовут этого великого писателя?” – “Книга называется “Среди верующих”, ее написал В. С. Найпол”. – “Непременно эту книгу прочту”, – сказал он главному редактору издательства “Альфред Нопф”.
Боб Готлиб, по всей видимости, искренне не понимал, что его слова могли ранить собеседника, и, надо отдать ему должное, оказал исключительно радушный прием писателю, который не должен был бы ему понравиться. Готлиб не раз приглашал его ужинать к себе домой в Тёртл-Бэй, один из самых аристократических районов Манхэттена, где по соседству с ним жили Курт Воннегут, Стивен Сонд-хайм[37] и Кэтрин Хепберн. (Актриса, которой к тому времени было уже хорошо за семьдесят, как-то после обильного снегопада с лопатой в руках постучалась к Готлибу в дверь и предложила почистить крышу его дома.) Будучи одним из попечителей труппы Джорджа Баланчина “Нью-Йоркский балет”, Боб Готлиб пригласил молодого индийского писателя на спектакль – индиец однажды видел в лондонской постановке Мориса Бежара Сюзанн Фарелл, главную любовь в жизни Баланчина, к тому времени порвавшую с русским хореографом. “Я беру вас с собой при условии, – сказал Боб, – что вы забудете о существовании Бежара и признаете Баланчина богом”.
Радушен он был и в качестве редактора. После того как в 1987 году Готлиб, расставшись с издательством “Альфред Нопф”, сменил Уильяма Шона на посту главного редактора журнала “Нью-Йоркер”, августейшее издание открыло наконец двери для автора “Детей полуночи”. В эпоху Уильяма Шона эти двери были для него накрепко заперты, поэтому Салман, в отличие от многих, не стал оплакивать окончание его правления, длившегося пятьдесят три года. Боб Готлиб публиковал в “Нью-Йоркере” его прозу и публицистику, показал себя блестящим, вдумчивым и неравнодушным редактором при работе над его большим эссе “Из Канзаса” (1992), посвященном “Волшебнику страны Оз”, одному из прекраснейших и сильнейших в мировом кинематографе гимнов дружбе, – с подачи Готтлиба Салман особо подчеркнул эту мысль.
После провозглашения фетвы он виделся с Готтлибом лишь однажды. Лиз Колдер и Кармен Каллил вместе праздновали свои дни рождения в клубе “Граучо” в Сохо, и у него выдалась возможность ненадолго там показаться. Когда он поздоровался с Бобом, тот сказал с напором: “Я всегда тебя защищаю, Салман. Объясняю всем, что, если бы ты знал, что из-за твоей книги погибнут люди, ты ни за что бы не стал ее писать”. Он медленно досчитал про себя до десяти. Бить пожилого редактора было бы неправильно – лучше извиниться и отойти. Он сделал какой-то бессмысленный поклон и развернулся на каблуках. С той встречи они больше не обмолвились ни словом. Он чувствовал себя очень обязанным Бобу Готлибу, но у него не шла из головы та его последняя фраза. При этом он не сомневался: точно так же как при первой встрече Готлиб не заметил эффекта, произведенного его высказыванием о книге Найпола, так не видел ничего странного и в словах, произнесенных при последней их встрече. Боб свято верил, что они остаются друзьями.
В 1984 году его брак распался. Они были вместе четырнадцать лет и сами не заметили, как отдалились друг от друга. Кларисса мечтала поселиться за городом, и как-то целое лето они искали жилище к западу от Лондона, пока он наконец не понял, что не выдержит деревенской жизни и попросту сойдет с ума. Он сказал Клариссе, что мыслит себя только в городе, и она ему уступила, но тема переезда не была окончательно закрыта. Они были очень молоды, когда полюбили друг друга, а теперь повзрослели и у каждого появились свои интересы. Так, она была равнодушна ко многому из того, чем он занимался в Лондоне, в частности к его участию в борьбе против расизма. Он довольно долго проработал волонтером в Кэмденской комиссии по межобщинным отношениям – общественной организации, занятой решением расовых вопросов. Эта работа многое для него значила, она позволила ему увидеть Лондон таким, каким он его до того почти не знал, – городом эмигрантов, чья жизнь протекает среди лишений и окружена предрассудками, городом видимым, но незримым, как он позже его назвал. Эмигрантский город существовал у всех на глазах, в Саутхолле, Уэмбли, Бриксто-не, в том же Кэмдене, но в те дни о его проблемах англичане вспоминали разве что во время кратких вспышек расовых волнений – им не хотелось замечать этот город, этот мир, признавать его реальность. Посвятив изрядную долю свободного времени проблемам межрасовых отношений, он использовал накопленный опыт в полемическом эссе “Новая империя в Британии”, в котором постарался дать картину возникновения нового слоя черно- и темнокожих британцев. С этим эссе он выступил в программе “Мнения” Четвертого общественного телеканала, но Клариссе, совершенно очевидно, дела не было до явленных им чудес красноречия.
Но главное испытание, которому подвергся их брак, было более интимного свойства. После Зафара им – Клариссе сильнее, чем ему, – хотелось завести еще детей, но ничего из этого не получалось: две подряд беременности закончились ранним выкидышем. Один выкидыш был у Клариссы еще до беременности Зафаром. Как потом выяснилось, причиной выкидышей была генетическая аномалия, простая хромосомная транслокация,
