Колдуй баба, колдуй дед. Невыдуманные истории о жизни и смерти
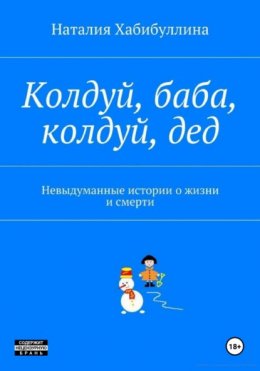
«В природе нет ни воздаяний, ни наказаний, а только последствия».
Роберт Ингерсолл.
Предисловие
Когда в течение двух лет ушла из жизни вся моя семья – мама, отец и сестра, я нет-нет да слышала за спиной сочувственный шепоток, что я – следующая.
Окружающие следили за мной с плохо скрываемым любопытством.
В их глазах одновременно читались страх и жалость, а вместе с тем нетерпение: ну? Сколько еще ждать?!
Когда все разумные, по их мнению, сроки вышли, я вновь стала объектом пересудов.
Но на этот раз к ним добавились косые взгляды. Почему все умерли, а я нет?
Уж не ведьма ли я? Не опасно ли общение со мной? Кто-то высказывал свои сомнения за глаза, другие заявляли прямо, что с моей семьей что-то не так.
И даже называли, что именно не так – родовое проклятье.
Ох уж это родовое проклятье!
Кому, как не ему легче приписать все беды и напасти. Мол, я-то сам ни при чем, это моя прабабка где-то, когда-то чего-то натворила, а я теперь за ее грехи расплачиваюсь.
Доля правды в этих словах, конечно, есть и нам действительно приходится иметь дело с последствиями действий (или бездействий) своих предков – выплачивать старые долги.
Но если под проклятьем понимать наследственное поведение, когда из поколения в поколение члены одного рода повторяют судьбу предшественников, наступают на одни и те же грабли, не извлекая уроков из прошлых ошибок, тут я, пожалуй, соглашусь.
На мой взгляд, ничего мистического в «родовом проклятье» нет.
Мужчины в таких семьях пьют, попадают за решетку, кончают с собой или гибнут по глупости. Часто все перечисленные беды вытекают одна из другой.
Женщины терпят мужей дебоширов – несут свой «тяжкий крест», который сами на себя же и взвалили, а когда терпеть уже невмоготу, разводятся или становятся вдовами.
Можно ли ждать прорыва от детей, не видевших иной модели поведения? Можно.
Но надо понимать, что многие из них неосознанно повторят путь родителей.
Свернуть с накатанной колеи трудно. Одного лишь желания мало, нужно серьезно покопаться в себе, своей семейной истории, вытащить на свет кучу мусора, хлама и прочих малоприятных вещей, а осмыслив все это, сделать то, чего в семье никто до тебя не делал – позволить себе быть собой, жить так, как ты хочешь – по-своему.
Мои предки никогда не жили своей жизнью
Тираны вечно совали нос в чужие дела и были всеми недовольны. Жертвы боялись кого-либо обидеть, расстроить, разочаровать. Старшие понукали младшими, родители – детьми, жены – мужьями. С чувствами и желаниями других никто не считался. Зачем? Проще запугать, надавить, а то и растоптать «вольнодумца», лишь бы не пошатнулся, не рухнул раз и навсегда заведенный устой: живи так, как жили деды и прадеды.
Но ведь можно жить по-другому, можно! Правда, решиться на это в здравом уме под силу не каждому. Это как выйти из «глаза» циклона. Внутри урагана всегда спокойно и тихо, но стоит покинуть мнимое убежище, как вмиг столкнешься со шквальным ветром.
Быть первым, шагнуть в неизвестное страшно. Кто знает, что там тебя ждет и ждет ли вообще что-либо. По-старому ты жить уже не можешь, а новых путей не знаешь, вот и ищешь гарантий, чтобы хоть кто-то тебя поддержал, подбодрил, сказал: «Иди, дружок, не бойся! Ты рожден под счастливой звездой!» Но никаких гарантий тут нет.
Способна ли магия помочь на этом пути?
Смотря, что под ней понимать. Замечали, когда все в жизни складывается гладко, мы ставим это в заслугу себе, а если дела идут из рук вон плохо, склонны винить других.
Тут же выясняется, что это «порча», «сглаз», что «на роду написано страдать и мучиться» – такова наша планида, и что спасти нас может только какой-нибудь магический ритуал. А между тем магия не снаружи, она внутри нас.
Свобода выбора, искреннее желание перемен, вера в себя – вот что открывает двери и ведет к исполнению любой, даже самой смелой мечты.
Ну а как же родовое проклятье? Оно существует? Можно ли его смягчить или избежать?
Чтобы выяснить это, мне пришлось погрузиться в свое прошлое, распутать сложный клубок внутрисемейных отношений, взглянуть на них по-новому. Так родилась эта книга.
Глава первая
Звонок
– Пришел с работы – звонок. Дуся умерла, – рассказывал дед бабушке на кухне.
Мне было шесть лет, и я вдруг ясно представила эту картину: душа старенькой тети Дуси вылетает облачком в окно и звенит в серебряный колокольчик – чтобы близкие услышали звон и сразу догадались, в чем дело.
Да, в детстве у меня было богатое воображение, но с тех пор чья-либо смерть представлялась мне только так – со звонком.
Правда, сама я этих колокольчиков тогда еще не слышала…
Чемодан
Тетя Дуся приходилась деду родственницей – теткой, родной сестрой отца. Было ей лет восемьдесят, может, больше. Очень набожная – за всю свою жизнь она ни разу не вышла замуж, носила черные платья до пят и жила при монастыре в Каменном Заделье.
Кроме деда родных у нее не было.
Дед, убежденный атеист и коммунист считал монашку тетю Дусю немного «тово», мол, не станет нормальный человек добровольно запирать себя в монастырской келье.
Поэтому когда старушка заболела и слегла, ухаживать за ней пришлось моей бабушке.
Умирать тетя Дуся приехала в Глазов, в крохотную комнатушку в коммуналке.
Каждое утро бабушка брала меня за руку, и мы с ней шли к тетке домой.
Обстановка в комнате старушки была под стать хозяйке – монашеская. Один угол занимал комод со скрипучей дверцей без зеркала. У окна стоял кухонный стол и стулья с прямыми высокими спинками, обитыми коричневым дерматином. В дальнем углу сиротливо приткнулась панцирная койка, на которой умирала тетя Дуся. Из-под койки выглядывал кусочек потертого чемодана с железными застежками и коваными уголками по краям.
У нас дома тоже был чемодан, кожаный, на молнии, принесенный однажды бабушкой.
– Берегите его! – сказала она. – Там мое «смертное».
– Ты что, скоро умрешь? – испугалась я.
– Все умрут, – просто ответила бабушка.
«Ну нет, уж я-то точно никогда не умру!», – запальчиво подумала я про себя, но вслух ничего не сказала.
Чемодан пылился в нашем доме много лет. Я ходила вокруг него кругами, сгорая от любопытства: что значит «смертное»? Может, там притаилась старуха с косой?
Откроешь чемодан, а она ка-ак прыгнет, ка-ак схватит за руку!
Или там яйцо с иглой внутри, где спрятана Кощеева смерть? Но ведь бабушка не Кощей. Она обычный человек, а значит, вещи у нее должны быть самые обычные.
Что люди берут с собой на тот свет? Белые тапочки? Саван?
Однажды я не утерпела, расстегнула молнию и заглянула внутрь.
В чемодане, сложенные аккуратной стопкой, лежали носовые платки, ночная рубаха, байковые рейтузы, ситцевый платок, какие старухи повязывают на голову, несколько вафельных полотенец и тапки – обычные домашние, синие. Ничего интересного.
Дышите – не дышите
О том, что все люди смертны, я впервые задумалась в пять лет.
Стоял тихий зимний вечер, мы с мамой возвращались откуда-то домой на автобусе. Я растирала варежкой заиндевевшее окно, и вдруг меня как молнией пронзило: а что будет, если мама умрет?
Ночью, лежа в кровати, я пыталась представить свою жизнь без родителей.
Кто будет водить нас с сестрой в детский сад, заваривать чай по утрам, платить за квартиру и высчитывать киловатты электричества, вписывая их в абонентскую книжечку?
Несмотря на малый возраст, вопросы домоводства чрезвычайно волновали меня.
Где брать деньги? Какие продукты покупать в магазине? Как чинить потекший кран, варить суп и солить огурцы на зиму? Раньше со всеми этими делами отлично справлялись мама и папа. Но что будет, когда их не станет?
Выскользнув из-под одеяла, я на цыпочках прокралась в родительскую спальню.
Что, если страшное уже произошло, и они умерли во сне?
Напряженно вслушиваясь в темноту, я пыталась уловить их дыхание.
По полу от балконной двери сильно дуло, и ноги мои моментально заледенели. Но я не могла уйти, не убедившись, что родители живы. Поскуливая и по-собачьи подгибая под себя то одну, то другую лапку, я стояла так долго, но подойти ближе не смела. Боялась.
Много лет спустя, теплым майским днем я снова окажусь в той спальне.
Так же буду стоять у кровати, чутко следя за тем, как мамина грудь слабо приподымается под одеялом. Дышит – значит, жива. И я уйду, поверив, что все будет хорошо. Но хорошо уже не будет. Вскоре после моего ухода это слабое дыхание прервется навсегда.
Но пока я ничего этого не знаю и усиленно напрягаю слух. Кажется, дышат…
С облегчением бегу в свою комнату, ныряю в постель.
Но ровно с той самой минуты страх потерять семью вполз в мою душу, как заразная болезнь, свернулся там змеиным клубком и затаился на долгие-долгие годы.
Есть ли жизнь на Марсе?
За обедом дед обронил, что много лет назад американские ученые запустили в космос беспилотную ракету «Пионер» – выяснить, есть ли жизнь на других планетах.
Запоздалое известие о запуске ракеты страшно будоражит меня.
Я пристаю к деду с расспросами: а когда «Пионер» вернется на Землю? А если правда инопланетяне существуют, какие они? Зеленые, с рожками?
Дед отмахивается:
– Да какая разница? Мы все равно об этом не узнаем.
– Это еще почему?
– Ракета будет летать в космосе лет сто, а может, двести.
Сто лет – целый век! Много это или мало? Загибаю пальцы. Положим, до ста лет ради такого случая я как-нибудь дотяну. Но дожить до двухсот – это вряд ли. А что если…
Придумала! Бабушка говорит, что умершие люди никуда не исчезают. После смерти они перебираются из своих домов на кладбище. Там, на кладбищах, у них целые подземные города. В обычные дни покойники тихо-мирно лежат в своих гробах или навещают друг дружку, а в поминки – Радоницу, Троицу, Ильин день ждут живых к себе в гости.
Родственники несут им в корзинках конфеты, яблоки, пироги. А если усопший при жизни любил покурить или выпить, захватывают с собой папирос и вина – опрокинуть рюмочку на могилку. Таковы в наших краях обычаи.
– Не ходить к родне на кладбище – грех! – наставляла бабушка. – Покойники не должны чувствовать себя одинокими. Иначе они рассердятся и сами к тебе придут.
Так вот, решила я, записку с исходом дела о зеленых человечках мне тоже принесут на кладбище! Пусть хоть в подземном царстве, но я узнаю, есть ли жизнь на Марсе.
Витаю в облаках
Я ни на минуту не могла представить себя мертвой «до конца».
Как это – вот я была, и вдруг меня нет. А куда же я денусь? Должна же я быть где-то. Не на земле, так пусть под землей. А еще лучше на небе! Так даже интересней. Летай себе, прыгай с облака на облако, кувыркайся. Хотя старикам, наверно, не больно-то охота кувыркаться, кости болят и в пояснице ломит.
Ну а вдруг ТАМ можно самому выбирать возраст, какой захочешь? Я бы выбрала такой, как сейчас. Не хочу быть старой, как тетя Дуся!
Всякий раз, когда мы с бабушкой ее навещаем, я украдкой разглядываю старухино лицо: ввалившиеся глаза, желтая пергаментная кожа – вся в морщинах, из-под черного платка торчит крючковатый нос. Настоящая Баба Яга. И зачем мы к ней только ходим?
Басурманка
В комнате тети Дуси всегда сумрачно. Пахнет кислыми щами, нестиранным тряпьем и старостью. Войдя, бабушка первым делом раздвигала шторы и распахивала форточку настежь. В комнату врывался морозный воздух – запах мокрого снега и прелой листвы. Тетя Дуся чуть заметно шевелилась на кровати и скрипучим голосом просила:
– Закрой, Люда. Холодно…
Но бабушка не обращала на эти просьбы никакого внимания. Засучив рукава, шла в ванную, набирала полное ведро воды, снимала с батареи засохшую тряпку и мыла пол.
Меняла простыни, варила на плитке куриный бульон, а после, приподняв тетю Дусю и обложив ее подушками, кормила с ложечки.
Старуха морщилась, плотно сжимала синие бескровные губы. В какой-то момент она замечала меня, и в глазах ее вспыхивала лютая злоба: опять она здесь!
Улучив момент, бабушка всовывала в рот старухе ложку, но та выплевывала бульон, с силой отталкивала тарелку и обрушивала на бабушку весь свой гнев:
– Басурманку! Привела! Ко мне! – хрипела тетя Дуся, тряся костлявым кулачком. – Веры! Не нашей! Нехристь! Убирайтесь вон отсюда! Обе!
Старуха сердито отворачивалась к стене, а бабушка от греха подальше усылала меня на кухню за стаканом воды. Вернувшись, я забиралась с ногами на подоконник, и, прижавшись лбом к прохладному стеклу, глотала слезы: за что она меня так? Что я ей сделала? Подумаешь, волосы черные и фамилия нерусская – папина. Что здесь такого?
Глупый Вовка
Бабушка легонько трогает меня за плечо:
– Брось, она старая и больная, сама не ведает, что творит.
– Ага, не тебя ведь обзывают! – огрызаюсь я и, соскочив с подоконника, обиженная выбегаю в коридор.
Там меня уже поджидает соседский мальчишка Вовка. Катая по полу игрушечный грузовик, и старательно тарахтя за него, он бубнит:
– Мамка сказала, что если вы с бабкой еще раз сюда припретесь, она скажет папке, чтоб он вас с лестницы спустил.
Из кухни появляется Вовкина мать, худая нервная женщина:
– И когда уже ваша старуха сдохнет, – шипит она, вытирая полотенцем чашку. – Место только занимает. Чего вы с ней возитесь, все равно комната нашей будет! Скорей бы уж…
– Сдохнет, сдохнет! – Вовка приплясывает рядом с матерью и показывает мне язык.
Мне вдруг становится невыносимо жаль тетю Дусю. Воображаю, каково ей жить одной в темной комнате, похожей на чулан с пауками, да еще с такими вредными соседями.
– Фашисты! – ору я, и, схватив с полу Вовкин грузовик, что есть силы грохаю его о стенку.
Грузовик разлетается на мелкие куски.
Я готова кинуться на глупого Вовку и его злюку-мать с кулаками, но на шум выскакивает бабушка и поспешно заталкивает меня в комнату.
Я слышу, как из коридора доносится Вовкин басовитый рев и вопли его матери:
– Психованная! Платить теперь будете!
Цветы растут сами
Когда тетя Дуся умерла, соседи позвонили деду и сухо велели прийти за вещами.
Обычный телефонный звонок – ничего особенного, но я упрямо продолжала верить в таинственные колокольчики «оттуда». Даже потом, через много лет, когда умирал кто-то близкий, я всегда узнавала этот звонок. Тревожный, резкий, беспощадный – не звонок, а набат. От него обрывалось сердце, и уходила в пятки душа. Хотелось спрятаться, убежать, заткнуть уши – нет, только не это! Не сегодня! Не сейчас!
Но бежать было некуда – телефон звонил и звонил. Я снимала трубку, и в который раз выслушивала то, что и так уже знала: «Ваша мама, отец, сестра…».
…На могиле тети Дуси поставили простой деревянный крест. Об этом просила сама покойная перед смертью. Еще просила не сажать цветов, сказала: все, что нужно, придет ко мне само. И верно – рябина, вишневые деревца и цветы росли на могиле сами – да так аккуратно, словно кто-то специально их посадил, ухаживал, поливал из лейки.
А сколько было дикой клубники – целые россыпи!
Со временем обида на тетю Дусю прошла. Вернее, одно мое «я» понимало, что дуться на старушку не стоит, но другое нет-нет да и царапнет острым коготком: а помнишь?…
Кольцо
Однажды, когда мне было уже лет семнадцать, мы с бабушкой и сестрами пришли на кладбище. Была Троица. Светило солнце, но ледяной ветер пронизывал насквозь.
Бабушка серпом срезала прошлогоднюю траву на могиле тети Дуси. Таня и Света сидели на облупленной скамье и уплетали пироги с грибами, запивая чаем из термоса.
Неожиданно в траве у вишневого деревца что-то блеснуло. Колечко!
Я быстро нагнулась и сунула его в карман. Отойдя в сторонку, разглядела находку получше. Это был перстень легкого желтого металла. Чьей-то умелой рукой на нем был выгравирован женский профиль: гордо вздернутый подбородок, густые волосы, туго стянутые узлом на затылке, крючковатый нос…Тетя Дуся!
Мы бывали на могиле тети Дуси не раз, и я могла поклясться: кольца здесь раньше не было. Откуда оно взялось? Ведь у старухи кроме нас никого – ни родни, ни подруг.
Забрать кольцо себе? Может, это такой запоздалый подарок от тети Дуси? Вдруг ее душа осознала, что была несправедлива ко мне и теперь таким образом просит у меня прощения. А если нет? Что, если кольцо – заговоренное и подброшено сюда с единственной целью – навредить «басурманке»? Зачем, мол, ходишь ко мне, не ходи.
Вот и бабушка говорила, что нельзя ничего брать с кладбища…
Я осторожно опустила колечко в траву. Там, под вишней оно лежит до сих пор.
И я до сих пор не знаю, правильно ли я тогда поступила…
Глава вторая
Гадкий утенок
Басурманка. В детстве я не очень-то понимала значение этого слова, но оно мне казалось ужасно обидным. Обиднее было услышать в свой адрес разве что презрительное: «татарка!» Так меня дразнили ребята во дворе.
В шесть лет родители впервые отправили меня в пионерский лагерь.
В нашем отряде я оказалась самой маленькой, и первое, что услышала, войдя в автобус:
– О, черножопых нам только не хватало! – мальчишки в красных галстуках враждебно пнули мой чемоданчик и загородили проход: «Негритосы поедут стоя!»
После вмешательства вожатых, местечко для меня все же нашлось, но всю дорогу до лагеря мальчишки обзывались и отвешивали мне подзатыльники.
Другие ребята молча отводили глаза, делая вид, что их это не касается.
Шел 1984 год. Чернявые дети, вроде меня, были тогда в диковинку. Рыжих в лагере – сколько угодно, русых, темненьких – всяких. Я же на их фоне гадкий утенок, изгой.
Меня не принимали в игры, прогоняли со спортивных площадок, кричали: «Черномазым здесь не место!» Про тычки и затрещины уж молчу. К концу смены я почти забыла свое имя. Иначе как «негрой», «черной» меня никто в лагере не называл.
Увы, на все просьбы забрать меня домой, мама уговаривала «потерпеть», а папа советовал давать обидчикам сдачи, мол, неужели моя дочь не способна постоять за себя?
Драться, к сожалению, я не умела, оставалось терпеть.
Однажды парни раздобыли где-то черную краску. Окуная в банку ладони и стараясь смазать меня по лицу, они хохотали: «Фу, от этой негры даже руки пачкаются!»
Было обидно до слез. А еще непонятно, почему пионеры, поющие у костра песни о дружбе народов, в жизни ведут себя не по-товарищески, а по-свински.
Наверно, мне просто не повезло, – так я себя утешала, – в нашем отряде собрались злые ребята, и цвет моих волос тут совершенно ни при чем.
Если бы! Насмешки преследовали меня еще долго – в школе, на улице – да везде.
На чужой каравай рот не разевай
Впрочем, после той поездки в пионерлагерь случилась одна забавная история. И, думаю, мой лагерный опыт сыграл в ней не последнюю роль. Как говорится, всякому терпению рано или поздно приходит конец, и иногда нужно уметь и ножкой топнуть.
Это был выпускной год в детском саду «Солнышко».
Шла подготовка к утреннику к годовщине Октября, где главными действующими лицами были два братских народа – русские и украинцы.
По сценарию мы разучивали народные песни, пляски и стихи. Что пели – не помню, а вот танец, в котором мне предстояло участвовать, был украинский.
Девочкам пошили национальные костюмы, поклеили красивые кокошники в виде веночков с лентами и назначили в партнеры гарных хлопцев.
Я хотела танцевать с Сашкой Шкляевым, но мне достался Владька Есюнин.
И что-то у нас с ним пошло не так, мы никак не могли попасть в ногу, сбивались с ритма, не поспевали за парами, мчащимися вприпрыжку впереди нас.
Но танцы – ладно.
Меня больше волновало другое – я претендовала на главную роль всея Руси.
В конце представления вместе с нашей воспитательницей Валентиной Николаевной, олицетворявшей советскую власть, к гостям должны были выйти с хлебом-солью «Россия» по правую от нее руку и «Украина» – ошую. Специально для этого случая повара даже испекли пирог с повидлом и каравай.
Роль «России» я получила легко, потому что могла заучивать большие тексты, а тут было стихотворение размером с тетрадный лист.
Но на генеральной репетиции комиссия из РОНО меня забраковала, мол, ну и что, что на девочке сарафан, наружность-то у нее не славянская, срочно ищите замену. А замены нет!
По замыслу важных теть «русская» девочка должна была быть на голову выше и желательно крупнее «украинки» – с русой косой до пояса и европейским лицом.
Под эти параметры более или менее подходила Наташка Третьякова. Но Наташка не влезала в мой сарафан, а когда увидела текст, который ей следовало выучить за ночь, подняла такой рев, что все кинулись ее утешать, мол, ладно, вместо сарафана сгодится обычное платье, а стихи за нее пусть прочтет Хабибуллина…
Ага, говорю, щас! Либо роль – моя, либо я вообще играть отказываюсь!
Тогда меня осторожно спросили, смогу ли я к утру выучить еще один – украинский стих? А чего, говорю, не смочь, давайте!
В общем, с караваем к гостям вышла я – в украинском костюме, с русским кокошником и абсолютно неславянской внешностью.
Но в целом быть белой вороной было не очень-то приятно.
Однажды мы с моим двоюродным братом Андрейкой (он тоже полу-татарин и тоже жгучий брюнет) решили обесцветить волосы перекисью водорода, наивно рассудив, что так сможем сойти за «своих».
Раздобыли в аптеке таблетки гидроперита, растолкли их в порошок, добавили аммиак, шампунь, тщательно размешали и вуаля – спасительная смесь готова.
Брат считал, что данная процедура придаст его волосам пепельный цвет, поэтому он сразу подставил под вонючую пасту всю шевелюру, а я из предосторожности помазала лишь виски, которые моментально порыжели. Голова брата и вовсе стала похожа на апельсин – такая же ярко-оранжевая. Сойти за блондина не удалось.
Позже Андрейка все-таки нашел выход из ситуации – записался в дзюдо. Но он жил в Свердловске, а у нас в городе таких секций еще не было. А школьный буллинг был.
Все мы немного татары
Помню то мучительное чувство, когда мы проходили по истории тему татаро-монгольского ига. Я была готова провалиться в тартарары, заболеть ангиной, уехать на край света, лишь бы не идти на ненавистный урок.
Татарские фамилии в нашем классе были только у двух учеников – у меня и у Пашки Касимова. Но у Пашки в классном журнале, напротив графы «национальность родителей» значилось: русские. А мой папа татарин. Мингарай. Впрочем, этим именем папу называли только коллеги по его работе. Для всех остальных он был просто Миша. Михаил.
Национальный вопрос никогда не волновал отца. Он не стыдился того, что татарин, хотя за всю свою жизнь так и не удосужился выучить татарский язык. В мечеть не ходил, мусульманские праздники не соблюдал. Любил женщин и выпить, ел свинину.
Обидные прозвища в детстве к нему тоже не прилипали. Папа был хулиганом, так что попробовал бы кто-то во дворе его задеть – мигом схлопотал бы по шее.
А вот папин старший брат Гриша рос мальчиком тихим, не драчливым.
Родители (мои бабушка с дедом) нарекли своего первенца Галимзяном, и ребята во дворе дразнили Гришку Голым или того хуже – Галей.
Парню это надоело, и в шестнадцать лет он заявил отцу, что носить дурацкое имя не желает. И если уж на то пошло, он вообще отказывается быть татарином.
Дома разразился страшный скандал. Дед клял сына-отступника последними словами, порол, как сидорову козу и грозился выгнать из дому.
Не помогло. Гриша все равно сделал по-своему, сменил не только имя, но и фамилию. Взял бабушкину девичью.
Как же мне это было знакомо! Я тоже хотела быть скромной неприметной Ивановой – как мама в девичестве. А так стоило учительнице завести речь о нашествии татаро-монголов, как одноклассники дружно поворачивали головы в мою сторону и ехидными улыбочками пригвождали меня к позорному столбу: вот, мол, все из-за твоих!
Ребят, вы серьезно?
Нет, умом я, конечно же, понимала, что за время татаро-монгольского ига, в пору этой суперконтинентальной неразберихи случалось всякое. Но я-то, лично я тут причем?!
В такие минуты я ощущала себя человеком второго сорта. И чтобы хоть как-то защититься от нападок, мстительно представляла, как пра-пра-прабабку моего особо вредного одноклассника Пельменя соблазняет тонкоусый сладкоглазый малай. И теперь в жилах удмурта Пельменя, почему-то мнящего себя истинно русским, тоже течет кровь Чингисхана, Батыя, Мамая… В моих-то точно течет, тут и к прабабке не ходи.
Правда, за столетия в ней столько всего намешалось, что, поди знай, кто там и с кем согрешил. Меня принимали за свою узбеки, цыгане, армяне. Уверяли, что я похожа на туркменку, даже на грузинку. «В Казани он татарин, в Алма-Ате казах» – это про меня.
Но вот беда: когда восточные собратья пытаются заговорить со мной на их родном языке, я теряюсь, потому что, как и мой отец, ничегошеньки из сказанного не понимаю, ну, может, только два-три слова, и то не факт. Хотя вроде и внешность и фамилия обязывают.
Пуля дура
Однажды моя татарская бабушка привезла нас с сестрой под Казань, в глухое село Алабердино, где русским духом даже и не пахло. Здесь, предвкушала баба Дуся, нас живо привадят к родному наречию. И что же? Язык мы с сестрой так и не выучили, зато в лексиконе местных жителей, особенно ребятни, появилась уйма русских словечек.
«Ох уж эти Хабибуллины! – ругались аксакалы. – Шайтан их подери!»
Да, кстати, о фамилии. Моего прапрадеда звали Хабибулла, что означает «любимый Аллахом», отсюда, видимо, и пошла фамилия, ведь если верить семейным архивам, то по папиной линии испокон веков все были Хабиевы, в том числе и прапрадед.
Но у Хабибуллы был сын Гайфулла, которого в 1943-м, будучи уже солидным отцом семейства забрали на войну. Было ему тогда за сорок. Наверно, как и любому бойцу, перед отправкой на фронт ему хотелось заручиться поддержкой Всевышнего, обмануть судьбу, оградить себя от вражеской пули. И в военкомате на вопрос: «ты чей?» прадед ответил: Хабибуллин. Однако звучная фамилия не помогла – пуля настигла его на самых подступах в Берлину, в польском городке Мысловице, накануне Дня Победы.
Долгое время в семье придерживались мифа, что прадед-стрелок подорвался на мине. Вероятно, потому, что правда казалась целомудренной татарской родне неприличной.
Хотя чего тут стыдиться? Ну да, пуля угодила прадеду в пах, и он скончался в военном госпитале от кровопотери 10 мая 1945 года. Но ведь пуля, как известно, дура.
Дома у прадеда остались жена, вернее, уже вдова, дочь Сания и сын, мой дед Шайхулла, которому в ту пору не было еще и семнадцати.
Формально дед тоже считался мусульманином, но, как и в случае с моим отцом, я не замечала, чтобы он придерживался традиций и обычаев своих предков.
Что до бабушкиных корней, то тут не обошлось без русского царя. По легенде четыре столетия назад при взятии Казани подданные Ивана Грозного изловили в толпе моих зазевавшихся пращуров и осенили животворящим крестом. Поставили, так сказать, на мусульманстве крест. С тех пор все татары в бабушкином роду крещеные – кряшены. Хотя по другой версии, они никогда и не исповедовали ислам, всегда были православными, носили русские имена – Андрион, Самойл, Марфа, Иван, Евдокия.
Верю – не верю
Моя мама внешне тоже вылитая татарка – смуглая, скуластая, кареглазая. Хотя, казалось бы, в их роду татар не было точно. Впрочем, как знать. Удмурты – лесные жители, язычники. Не в пример кочевникам, они безвылазно сидели в глухих, дремучих лесах, варили кумышку и тихонечко себе поколдовывали. Но и тут оказалось все не так просто.
Взять мою удмуртскую бабушку Люду. С одной стороны бабушка поклонялась языческим божествам и запросто обращалась к духам мертвых, с другой – верила в Бога, ходила в церковь и соблюдала все православные праздники, исподволь приучая к этому и внучку.
Представляете, какие меня раздирали противоречия! Ведь я же была юной пионеркой, которой не полагалось верить ни в Бога, ни в черта рогатого. Только в Ленина!
Ну и что мне оставалось делать при такой-то бабушке? А оставалось верить во все понемножку, но на всякий случай виду не подавать.
Ко всему загадочному меня тянуло с самого раннего детства.
Откуда взялась эта тяга, сказать не берусь. Мы с сестрой росли в очень светской, я бы даже сказала – советской семье. Мама с папой были людьми неверующими, атеистами, традиций, ни татарских, ни удмуртских не соблюдали, между собой и с нами, детьми, разговаривали исключительно на русском языке. Так что в глубине души я считала (и до сих пор считаю) себя вне каких-либо наций и вероисповеданий.
И если бы не мои бабушки – папина и мамина, между которыми шла негласная борьба за национальную принадлежность внучки, я бы вообще не забивала голову этими вещами.
Свои и чужие
Кажется, в противостоянии том значительный перевес был на стороне бабы Люды – просто в силу географии. Мы жили в одном городе, а первые четыре года моей жизни – в одной квартире. И даже после того, как бабушка с дедом переехали в соседний квартал, я много времени проводила у них дома, так что влияние бабы Люды на меня было велико.
Но баба Дуся тоже не сдавала своих позиций – она частенько приезжала к нам в гости или забирала любимую внучку на лето в Нижний Тагил. Мама рассказывала, как в пятилетнем возрасте я носилась по вагону и, заглядывая во все купе, громко объявляла, что я «таталка». Кто мог меня этому научить? Баба Дуся!
Временами зов крови – удмуртской, татарской и Бог знает какой еще, буквально разрывал меня на части. В голове был полный винегрет. Вера в загробную жизнь и силу молитв переплеталась там с обрядами вроде стучания по дереву и плевания через левое плечо.
Лешие и Домовые мирно уживались с великомучеником Николаем Чудотоворцем и святым целителем Пантелеймоном. Я постоянно ощущала рядом с собой присутствие каких-то невидимых сил. Кто или что это было, значения не имело – места хватало всем.
Ангелы рядом
Бабушка с дедом часто брали меня на кладбище.
Однажды даже потеряли в лабиринте могил. Ушли с поминок и лишь на полпути спохватились, что кого-то вроде бы не хватает. Бросились назад, а внучки и след простыл.
Где я была, что делала – то никому неведомо. Отыскалась и ладно. Айда домой.
Может, оттого, что все мне здесь было знакомо, кладбища меня никогда не пугали. Разумеется, днем. Отправиться туда ночью я не отважилась бы ни за какие коврижки.
Бабушка учила: не ухаживать за могилами – грех. Она не могла спокойно пройти мимо заброшенной – «ничейной» могилки. Непременно остановится, поправит памятник, накрошит птицам хлеба или насыплет конфет. Это называлось у нее «подать мертвым милостыньку».
Пока бабушка прибиралась, я любила побродить вдоль кладбищенских рядов, поглазеть на фотографии покойников, подсчитать в уме, сколько им было лет.
Заодно представить, как именно они ушли из жизни. Мне казалось ужасно несправедливым, что про это нигде не пишут. Интересно же знать, кто от чего умер!
Особенно притягивали меня детские надгробья. Недалеко от дедовой могилы была железная пирамидка со стеклянным кругляшом. В кругляшке – мутная черно-белая фотография мальчика. Табличка с именем. Саша Волков. Светлая челка, озорной взгляд.
Что с ним стало? Попал под машину? Утонул? Как так вышло, что ангелы, призванные оберегать простых смертных, прозевали пятилетнего мальчугана?
А в том, что у каждого человека есть ангел-хранитель, я не сомневалась.
Был такой ангел и у меня. Если бы не он, меня бы, наверно, не было на этом свете – ведь у моих родителей должен был родиться совсем другой ребенок.
Миша первый и Миша второй
У мамы был жених. Звали Мишей.
Мама заканчивала десятый класс, а ее любимый должен был со дня на день вернуться из армии. Но так вышло, что на танцах мама повстречала жгучего брюнета с кудрями до плеч и влюбилась в него без памяти.
По иронии судьбы звали кучерявого тоже Мишей.
Он работал бурильщиком в соседнем поселке нефтяников, а по выходным приезжал с друзьями в город на танцы Черноглазая Геля тоже приглянулась ему.
После танцев Миша провожал ее до дому, закармливал конфетами «Мишка на севере», и вскоре законный жених напрочь вылетел из прекрасной маминой головки.
Мама вспомнила о нем лишь однажды, когда вернувшись домой из школы, увидела на вешалке в сенях солдатскую фуражку. Сердце екнуло: как объяснить жениху, что она полюбила другого? Но объяснять ничего не пришлось, фуражка принадлежала кудрявому Мише, к тому времени уже отслужившему в рядах Советской армии.
Позже мама признавалась, что если бы тогда в сенях она столкнулась с тем, первым Мишей, то, возможно, ее выбор был бы иным. А тут решила: судьба!
Их роман развивался стремительно, и очень скоро Геля поняла, что беременна.
Она поспешила сообщить радостную новость ухажеру, но тот нахмурился:
– С чего бы это?
– Как с чего?! – оторопела Геля. – А то сам не догадываешься?
Дни шли. Патлатый бурильщик делал вид, что ничего особенного не произошло. Отшучивался, мол, да не паникуй ты раньше времени. Может, еще само рассосется.
О женитьбе и рождении ребенка – ни слова.
И тогда заплаканная мама побежала к сестре, выпускнице медучилища Нине.
– Нина, что делать? Этот гад не хочет ребенка!
Горькая пилюля
Геле было восемнадцать – за плечами только школа, ни профессии, ничего. Со свадьбой тоже непонятно, то ли будет она, то ли нет. А тут еще какой-то ребенок.
Нина молча вынула из аптечки пузырек с таблетками и протянула сестре:
– На! Выпьешь одну, все как рукой снимет. В другой раз будешь думать головой.
Мама проглотила горькую пилюлю, и к утру от зародившейся жизни не осталось и следа. Правда, вскоре Геля с удивлением снова обнаружила себя в интересном положении.
Но тут уж решительно приперла кавалера к стенке:
– Ты думаешь жениться или опять травить прикажете?
– Кого? – испугался Мишка.
– Кого! – передразнила Геля. – А ты думал в тот раз и впрямь само рассосалось?
– Да ладно тебе, – примирительно пробормотал мой будущий отец. – Я ж не против. Ну хочешь, давай распишемся. Только чур, первым пусть у нас будет мальчик.
Папа почему-то был уверен, что родится сын.
А родилась я.
Женюсь!
Как потом оказалось, у отца на жизнь были совсем другие планы.
Женитьба и рождение ребенка в них не входили.
Папа грезил путешествиями, мечтал объездить весь мир. Служба в Германии, Кавказ, Украина, Молдавия, Казахстан – он много где успел побывать, многое повидал и не собирался останавливаться на достигнутом.
Но когда в тот судьбоносный вечер Миша позвонил родне в Тагил, узнать, как ему быть и что делать, семейный совет единогласно постановил: женись!
Особенно настаивала на женитьбе моя бабушка.
Зная характер и наклонности младшего сына, она боялась, что рано или поздно тот угодит в тюрьму (к этому были все предпосылки – ножевой шрам на спине – след пьяной драки, веселые компании, вино, девушки легкого поведения).
«Пусть женится, будет под присмотром жены. Да и ребенок, надеюсь, его образумит», – рассудила баба Дуся. И хотя другие родственники не очень-то верили, что их непутевый Мишка остепенится, против брака не возражал никто.
Так в июле 1977 года мои родители стали мужем и женой.
Как человек увлекающийся, папа решил, что раз ему не суждено странствовать по белу свету, то он всего себя посвятит воспитанию детей. Вычитал в какой-то книжке, что младенцы в животе у матери уже все слышат и понимают, и стал по вечерам усаживать беременную маму в кресло перед собой и читать мне, еще не родившейся, сказки.
Мама крутила пальцем у виска, папа обижался, но читать сказки не переставал.
Дети подземелья
В девятом классе мне приснился кошмар.
Ночь. Наш двор. Я сижу на парапете возле кривого клена, где в детстве мы с друзьями строили из фанеры и досок «штабики». Передо мной две могилы. Судя по табличкам, в них похоронены сестры. На одной табличке дата: 1976, на другой – 1979 год.
Пока я всматривалась в цифры, по привычке вычисляя возраст, с холмика посыпались мелкие камушки. Я вздрогнула: кто здесь? Детский голосок ответил: я.
– Как тебя зовут?
– Оля…
– Ты старшая или младшая?
– Старшая.
Девочка выбралась из могилы и уселась рядышком со мной. Сказала:
– Хорошо, что ты решила узнать мое имя. Если бы ты промолчала, я бы спросила, сколько тебе лет, и ты бы тоже умерла.
Мы помолчали.
– Хочешь спуститься к нам? – предложила Оля. – Давай, смелей, не бойся!
Я заглянула вниз. Из могилы, улыбаясь, смотрело на меня чумазое личико еще одной девчушки в короткой маечке. Звали вторую девочку Аллой.
Мы спустились в подземелье, где было много-много темных залов, коридоров и лабиринтных ходов. Кроме двух сестер – Оли и Аллы в подземелье жили еще несколько детей от десяти до четырнадцати лет. Все они, как оказалось, тоже были мертвы.
Не делай этого
Внезапно мы очутились в парке имени Горького. Бегали по залитым солнцем аллеям, смеялись, катались на каруселях. Дул легкий ветерок, шумела листва, играла музыка.
Было так хорошо, что в какой-то момент мне захотелось броситься вниз головой с «чертового колеса», чтобы больше никогда не расставаться со своими новыми друзьями.
Оля строго тронула меня за рукав:
– Не делай этого. Ты и так сможешь приходить к нам, когда захочешь.
И добавила с грустью:
– Ты живая, и я тебе завидую. А нам отсюда не выбраться никогда.
Мне стало жаль ее, и я сказала:
– Страшно, когда дети умирают.
Оля кивнула.
– Сегодня к нам придет еще один мальчик…
Вечером мы действительно встречали его. Маленький мальчик сидел в углу, и, растирая слезы кулачком, смотрел куда-то вверх, просился домой.
– И вот так все плачут, когда приходят, – вздохнула Оля. – Но потом привыкают.
Мы подошли к новичку, стали его утешать. Малыш успокоился и вскоре уже играл вместе со всеми. Мне же пора было уходить. Дети вышли меня провожать, махали вслед руками: приходи к нам еще! Я обещала, что приду.
А утром, когда проснулась, у меня было стойкое ощущение, что во сне я виделась со своими нерожденными братьями и сестрами. И еще я знала наверняка: та девочка Оля – это она должна была родиться у мамы вместо меня.
В моем сновидении, до встречи у старого клена, у нее были все основания ненавидеть меня, желать мне смерти. Ведь получалось, что это я заняла ее место.
Наташка в рубашке
Мама чуть не потеряла ребенка во время родов.
Акушерки извлекли меня на свет едва живую – я родилась на две недели раньше срока и была жуткого синюшного цвета из-за того, что пуповина дважды обвилась вокруг моей шеи.
Тщедушный, полузадушенный младенец, каким я пришла в этот мир, не кричал и не подавал никаких признаков жизни. Врачи сделали всё возможное и невозможное, чтобы меня спасти, а после не скрывали своего удивления:
– Девчонка-то в рубашке родилась!
А я и правда родилась в рубашке – тоненькой прозрачной пленке, вроде целлофана.
Перед тем, как увезти маму в палату, акушерка успела шепнуть ей, что в таких «рубашечках» рождаются только очень счастливые люди и посоветовала ее сохранить.
Но мама в такие «глупости» не верила, а может, просто было не до того.
И осталась моя счастливая рубашечка в роддоме.
Жили мы тогда в деревянном доме на «Аэродроме» – так в народе называют Южный поселок, граничащий с городом. В свое время дед с бабушкой переехали сюда из деревни Иваново. Бабушка работала завхозом в общество слепых, дед устроился на военный завод, где вскоре после моего рождения, ему как участнику войны выделили двухкомнатную квартиру в городской новостройке. Туда мы и переехали вшестером, забрав из деревни тяжелобольную прабабку Матрену Степановну.
Именно с прабабушкой Мотей у меня связаны самые первые детские воспоминания.
Глава третья
Ежовые рукавицы
Прежде чем начать рассказ о прабабке Матрене, нелишне упомянуть, что почти все женщины в нашем роду обладали экстрасенсорными способностями. И чем глубже ведуньи уходили корнями вглубь веков, тем могущественнее была их колдовская сила.
Из поколения в поколение в семьях отца и мамы царил матриархат. Главой семьи всегда была женщина. Попробуй ее ослушаться, сказать или сделать что-то поперек – будет худо.
Неудивительно, что при таком раскладе мужчина в доме особо не ценился и права голоса не имел. Все и всегда за него решали мать и жена.
И что в таких случаях делал ущемленный в правах сын и муж?
Сидел и помалкивал в тряпочку. Либо, желая самоутвердиться, доказать себе и другим свою мужественность, погибал молодым в результате несчастного случая – тонул, разбивался на лошади, попадал под поезд. Или пускался во все тяжкие, находя утешение в доступных женщинах и вине. Самые разнесчастные накладывали на себя руки.
Если же кому-то удавалось переломить ситуацию, одержать над женщиной верх, то такой мужчина сам превращался в домашнего деспота и тирана, который никого не слушал и держал семью в ежовых рукавицах. Но подобное случалось редко. А уж чтобы члены семьи общались на равных, как партнеры или друзья, такого и вовсе никогда не бывало.
Месть Анны
Прапрабабку по маминой линии звали Анной.
Она была ведуньей, женщиной крутого нрава. Мужа похоронила рано, замуж больше не вышла, доживала свой век одна, вдали от взрослых детей – Петра, Матрены и Фени.
На старости лет, когда управляться по дому стало уже тяжело, Анна решила перебраться к сыну. Выбор матери был неслучаен. Петр в деревне считался человеком небедным, даже зажиточным, жил наособицу, имел свой дом, вел единоличное хозяйство, так что лишний рот вряд ли стал бы ему обузой.
Однако Петр забирать к себе мать не спешил.
То ли опасался, что властная Анна перехватит бразды правления и начнет наводить в доме свои порядки, то ли скупость его одолела, а может, имелась еще какая-то причина, но только между матерью и сыном будто черная кошка пробежала.
Петр дал матери от ворот поворот и отослал к своей сестре Моте.
Обиженная таким «теплым» приемом, Анна пригрозила сыну:
– Ужо помру я, Петька, наплачешься ты у меня!
А невестку предупредила:
– Видишь ту иконку в углу? Оттуда я Петра сорок дней пугать буду. А вы с ребятами меня не бойтесь, ничего я вам не сделаю.
Сказала и отдала Богу душу.
И вот с того самого дня, как Анна померла, Петр – человек, между прочим, здоровый и непьющий, не мог спокойно пройти мимо иконостаса – хватался за сердце, бледнел.
Но от расспросов жены уклонялся, мол, так, пустяки, померещилось.
А как-то ночью вышел во двор до ветру и не вернулся.
Ходили слухи, будто над Петькой подшутил кто-то из местных – подпер снаружи дверь уборной палкой. Правда это или нет, а только нашли Петра под утро бездыханного.
Старухи шушукались, что это душа Анны наказала спесивого сына – выманила ночью из дома и напугала до полусмерти.
Жених из Зазеркалья
Дочь Анны – мою прабабку Матрену иначе как ведьмакой в деревне тоже никто не называл. Она могла вправлять кости, останавливать кровь, лечить заговорами и травами.
Говорят, даже умела превращаться в животных, например, в свинью.
Вообще, как я понимаю, свинья или дикий кабан, считался воршудом нашего рода.
У удмуртов так называют дух-оберег, которым может быть кто угодно – медведь, волк, щука, лось или ворона, словом, любое живое существо.
Как и Анна, Мотя рано овдовела, осталась одна с тремя малыми детьми на руках.
Моя бабушка Люда, дочь Матрены, не раз упоминала в разговорах один странный случай, связанный с замужеством своей матери.
В ночь под Рождество юная Мотя вздумала погадать на жениха.
Заперлась в горнице, поставила перед собой огромное старое зеркало, зажгла свечи.
– Суженый, ряженый, покажись!
Зеркало изнутри заволокло дымкой, а когда туман рассеялся, Мотя увидала в зазеркалье мужской силуэт. Ладный, кучерявый – не жених, а загляденье.
Залюбовалась на него прабабка, а картинка в зеркале возьми да и сменись.
Пред ней предстала деревенская ночь, бревенчатый дом на окраине, кругом ни души, только два дюжих молодца в телогрейках со всей дури дубасят третьего, лежащего на земле. Раз сапогом по лицу, два – дубиной по голове, три – взяли за руки, за ноги и бросили бесчувственное тело в канаву.
На этом странное видение исчезло.
Через много лет к прабабке посватался парень по имени Яша. Матрена без труда узнала в нем своего суженого из Зазеркалья.
Молодые поженились, одного за другим родили троих детей.
И вроде бы все в их жизни складывалось неплохо, пока однажды убежденный коммунист и председатель колхоза Яков, которому к тому времени стукнуло 33 года, не решил прищучить местных кулаков – изъять излишки хлеба в пользу Советской власти.
Шел 1927 год. Раскулаченные богатеи затаили на ретивого коммуняку обиду. Подкараулили ночью у колхозного амбара и сильно избили. Нашли Яшу под утро в канаве с проломленным черепом. Когда его, полуживого, внесли в дом, прабабка ахнула – вспомнила изуродованного незнакомца из святочного видения.
После той драки Яша повредился умом и прожил совсем недолго.
Хоронили его в закрытом гробу – таким он был страшным и неузнаваемым.
Красивый мальчик
Дома у бабушки Люды хранился старинный бархатный фотоальбом. Среди старых черно-белых фотографий особо выделялся один портрет неизвестного мальчика.
В детстве я даже была в него чуть-чуть влюблена – в жизни не встречала более красивого, одухотворенного лица. Челочка на пробор, большие смеющиеся глаза, белозубая, как бы сейчас сказали «голливудская» улыбка.
– Ба, кто это? – тормошила я бабушку.
И вот какую историю она мне поведала.
Мальчик на снимке приходился нам каким-то дальним родственником. Звали его Коля.
Тот памятный снимок был сделан в Глазове в конце пятидесятых годов, незадолго до загадочного и трагического события, случившегося с Колей.
Летом двенадцатилетний Колька с друзьями отправился на луга за Чепцой.
Мальчишки благополучно миновали деревянный мост через реку, добрались до леса и принялись дурачиться – свистеть, лазать по деревьям, играть в казаков-разбойников.
Кто-то предложил подшутить над Колей (он был в компании самый младший). Его заманили в чащу, бросили там одного, а сами удрали. Спрятались в кустах неподалеку, ждут, скоро ли Колька дорогу назад отыщет. Час ждут, второй, а друга все нет.
Мальчишки испугались, а ну как Кольку медведь задрал или в трясину засосало?
Места за Чепцой глухие, болотистые. А тут еще туман с реки пополз. Кричали, звали товарища, но никто на зов не откликался. Тогда ребята помчались в город за подмогой.
Всю ночь взрослые с детьми прочесывали лес с факелами. Заглядывали под каждый кустик, под каждое деревце, осматривали подозрительные ямы и бочажки.
Но мальчик как в воду канул.
Заявили в милицию, искали с собаками, но эти поиски тоже успехом не увенчались.
А через неделю Коля объявился сам. Рыбаки на мосту рассказывали: он вышел к ним грязный, оборванный, с лихорадочно блестевшими глазами. Плакал и что-то неразборчиво бормотал про «дедушку до небес». Будто бы тот поймал его в лесу и не отпускал.
Сказав это, мальчишка потерял сознание и рухнул на мостовую.
Оборотень
Пришел Коля в себя только на третьи сутки.
Снова что-то мычал про старика – великана, умолял отпустить его домой к матери.
Колькина мать места себе не находила – сын никого не узнавал, часами сидел, забившись в угол, будто волчонок. Уставится остекленевшими глазами в одну точку и ни звука.
А то вдруг закроет лицо ладонями и захнычет жалобно:
– Дедушка, пусти-и.
Рехнулся парень! – решили дома.
Но самое страшное было в том, что Колька стал стремительно меняться внешне, превращаясь из красавца в урода. На лице и теле у него начала расти шерсть, выпали все зубы, а вместо них отросли желтые клыки. И сам он стал похож на волка-оборотня.
Лежал в постели и протяжно выл. А то бывало, соскочит на пол и вот мечется на четвереньках из угла в угол, стуча по половицам огрубевшими когтями, тревожно к чему-то прислушивается, принюхивается. Словом, что-то ужасное творилось с Колькой.
Все были напуганы: как это так, в наше время – и вдруг такие страсти.
Доктора бессильно разводили руками и советовали «оборотня» куда-нибудь увезти. Спрятать от людских глаз подальше, не будоражить город слухами.
А соседка-знахарка шепнула матери:
– Леший парня попутал, помрет он у тебя скоро.
Но Коля мучил себя и родителей еще долго.
Умер, когда ему исполнилось двадцать пять лет. Говорят, лежал в гробу весь черный, заросший грубым волосом, с застывшим звериным оскалом на лице.
И никому и в голову не могло прийти, что красивый юноша на портрете с траурной рамкой и косматое чудище в гробу – это один и тот же человек.
Кошка
Мне был год или около того, когда прабабушку Матрену разбил паралич.
Она бездвижно лежала на постели – седая, костлявая, с ввалившимися щеками, похожая на какую-то хищную птицу.
Временами прабабка скашивала не меня свой птичий глаз и звала слабым голосом:
– Ната, подойди, детка, к бабе.
Я не отзывалась, даже если находилась поблизости. Притворяясь глухой, продолжала пеленать куклу или с усердием катала по полу машинку. Слишком уж пугал меня вид бабы Моти. В то время больше всего на свете я боялась двух существ – прабабку и ее дьявольскую кошку Анфису, с шерстью угольного цвета и круглыми янтарными глазами.
Я росла нервным ребенком, плохо ела, беспокойно спала.
Вечернее укладывание в постель и вовсе превращалось для мамы в пытку.
Капризничая и брыкаясь, я сбрасывала одеяло на пол. Но стоило кошке запрыгнуть ко мне на грудь, как я мгновенно успокаивалась. Из чего мама сделала вывод, что Анфиса благотворно влияет на меня, как бы заменяя своим присутствием любящую няньку.
Не знаю как насчет кошачьей любви ко мне (во всяком случае, Анфиса никогда меня не царапала и не кусала), но затихала я совсем не поэтому.
Когда урчащий черный зверь вспрыгивал на кровать и, не мигая, вперивался в меня своими огромными горящими глазами, я умолкала только по одной причине – от страха.
Сон был единственным средством от страшного зверя улизнуть.
Защитница
Субботними вечерами по старой деревенской привычке дед с бабушкой поднимали прабабку с постели и под руки волокли в ванную – купать.
Из-за болезни старушка была так худа и слаба, что любое прикосновение причиняло ей невыносимую боль, вынуждая кричать не своим голосом.
Я же, думая, что взрослые бабу Мотю обижают, бросалась ее защищать. Вопила:
– Не бейте бабушку!
Это я хорошо помню. А вот момент прабабкиной смерти напрочь стерся из памяти.
Все, что мне запомнилось – это узкий красный гроб, стоящий на двух табуретках в подъезде и ряды зеленых почтовых ящиков над моей головой.
Я не воспринимала бабу Мотю мертвой, мне казалось, она просто утомилась и прилегла отдохнуть. Поспит немного и непременно встанет.
Когда много лет спустя мне в руки попался пожелтевший снимок, сделанный на кладбище в июле того далекого года, я не могла отделаться от мысли, что прабабка лежит в гробу с открытыми глазами. Конечно, этого не могло быть, покойным всегда закрывают глаза, но я готова поклясться: на фото запечатлен прабабкин взгляд, притом весьма осмысленный, устремленный в небо.
Сердце закололо
На поминках сын бабы Моти Виталий выпил лишку и вышел на балкон покурить.
Я увязалась следом. Не выпуская папиросу изо рта, дед Виталий подхватил меня под мышки и для пущего удобства поставил на балконные перила (а жили мы на девятом этаже!). Покурил, выбросил окурок и пошел спать. А я осталась стоять, где стояла.
Мама в это время мыла посуду на кухне. Она вспоминала, как внезапно ощутила сильное беспокойство в груди. У нее даже закололо сердце. Сама не понимая, что делает, она бросилась на балкон – и очень вовремя! Потому что я уже качнулась на своих нетвердых ножках в сторону бездны. Еще бы чуть-чуть и…
Но в самый последний миг мама успела схватить меня за распашонку и втянуть обратно. А после накинулась на храпящего деда Виталия – стала хлестать его по щекам, бить, колотить – с ней случился настоящий нервный припадок. И если бы не родственники, подоспевшие на выручку старику, мама точно отправила бы его вслед за прабабкой.
В дальнейшем историй, когда я могла погибнуть, но чудом оставалась жива, случалось немало. Словно одна какая-то неведомая сила пыталась мое земное существование прекратить, но другая сила, вероятно, даже более могущественная, всячески этому препятствовала. Думаю, выручал меня всё тот же ангел-хранитель. В минуты опасности он всегда появлялся рядом, подставляя мне свое надежное херувимское плечо.
В зоопарке
Мне четыре года. Мы с папой летим в отпуск к его двоюродному брату в Волгоград и попадаем в страшную грозу. Самолет швыряет в небе, как щепку.
Стюардессы не успевают менять бумажные пакеты пассажирам. Ночную мглу то и дело прорезают зигзаги молний. Одна бьет прямо в фюзеляж… В салоне паника.
Пилоты принимают решение об экстренной посадке в Куйбышеве.
Я же о свистопляске за бортом даже не подозреваю, сплю крепким сном. И все дальнейшие разговоры о том, что самолет чудом избежал катастрофы, меня не трогают.
Зато в Волгоградском зоопарке я умудряюсь пасть жертвой солнечного удара.
В городе духота. Ночью невозможно уснуть. От рассвета до заката в небе плавится огненный шар. А в тот день солнце, видимо, решило добить горожан окончательно.
Вдобавок мы с папой, не привыкшие к южному зною, забываем дома мою панамку.
В зоопарке я вдруг понимаю, что ужасно хочу пить, буквально умираю от жажды.
Пока папа бегает к автомату с газированной водой, я подхожу к клетке с белыми медведями. Мишки, разморенные жарой, ныряют с бортика в бассейн. Они плавают там, громко отфыркиваясь и поднимая тучу брызг. От бассейна веет свежестью и прохладой.
Вот бы очутиться на их месте! – думаю я. Дальше все плывет перед глазами.
Очнулась я уже дома. Папа говорил, что вернувшись с водой, он обнаружил меня у клетки без сознания. Вокруг уже собралась толпа. Бледную, как полотно девчушку пытались привести в чувство, откачать. Тщетно! Я ни на что не реагировала. Вызвали скорую…
Ничего этого я, конечно, не помню. Мне вообще казалось, обморок длился минуту-две, не дольше. Я была уверена, что из зоопарка мы с папой пошли любоваться горным водопадом, а до этого повстречали толпу цыган, которые вели на цепочке ручного медведя. Медведь смешно крутил мордой и плясал под маленькую концертную гармошку.
Отчетливо помню, как под вечер мы с папой вернулись домой, легли спать, а утром меня разбудили голоса в соседней комнате.
Открыв глаза, я увидела над собой встревоженное лицо отца.
Оказалось, без сознания я пробыла почти сутки. Папа уж было решил, что привезет домой мой хладный трупик, но, к счастью, все обошлось.
Сотрясение мозга
А сколько раз в детском саду и школе я разбивала голову, упав с качелей!
Однажды, катаясь на санках с горки, врезалась в дерево и заработала сотрясение мозга, от которого, впрочем, меня вылечила баба Люда – обычным ситом для просеивания муки.
Бабушка держала сито над моей макушкой и, легонько потряхивая, водила им из стороны в сторону. Это называлось у нее «править голову».
Врач скорой был несказанно удивлен таким методом лечения, но забирать меня в больницу нужным не счел – ребенка не тошнило, голова не кружилась, лишь лиловый «фонарь» под глазом красноречиво свидетельствовал о том, что произошло.
Потом я умудрилась отравиться арбузом, а чуть погодя засохшим белковым тортом. Коробка с недоеденным «Киевским» была убрана на самый верх буфета и забыта.
Спустя неделю я ее там нашла. Еще и младшую сестренку накормила. Правда, пожадничала, дала ей малюсенький кусочек, себе же отломила большой ломоть.
Так что в инфекционное отделение меня увезли на «скорой» одну, без Таньки.
Мультфильм на стене
В пять лет меня чуть не угробила свирепая ангина.
Проваливаясь в бреду в глубокий, пылающий огнем колодец, я слышала, как врач говорил отцу:
– Она сгорит. При такой температуре не выживают.
Мне было все равно. Сгорю, так сгорю.
С трудом разлепив глаза, я увидела, как в кромешной тьме на стене прямо передо мной приплясывает огромный воробей – будто там был экран, где показывали мультфильмы.
Рядом с воробьем стоял и подмигивал мне незнакомый рыжий дядька.
Он был в очках и желтой клетчатой рубашке. Возле дядьки я разглядела девочку моих лет. Лукаво улыбаясь, она протягивала к воробью руку. Птица прыгнула, и девичья рука переломилась пополам, как спичка.
Дядька беззвучно засмеялся. Секунда – и картинка исчезла.
И если до «мультфильма» мне даже думать о еде было противно, то тут до смерти захотелось пельменей – я знала, что родители настряпали их еще днем.
Приподнявшись на локтях, я переползла к дальнему концу дивана и выглянула в коридор. На кухне горел свет. На плите нетерпеливо бренчала крышка кастрюли, в которой бурлила вода. Аппетитно пахло уксусом и репчатым луком. Мама с папой о чем-то тихо переговаривались между собой за столом. Я сделала глубокий вдох и бодро прокричала:
– Ну дайте же мне наконец поесть!
После этого здоровье мое быстро пошло на поправку.
Глава 4
Кушать подано!
На свет я появилась совсем крошечной, и при любом удобном случае все пытались меня откормить. Но от груди при этом отняли рано – года в два, посчитав, что такой большой девочке уже негоже «просить титю». Хотя я была не против, а очень даже за, и никакие уговоры отказаться от молочной диеты не помогали.
Тогда маму кто-то подучил вымазать грудь сажей (некоторые еще мажут горчицей) и показать (а в случае с горчицей – дать попробовать) упрямице.
Домашние со смехом вспоминали, как увидев черную мамину грудь, я заплакала: «тити кака!» и больше уж к ней не притрагивалась. Но вот беда – у меня пропал аппетит.
А вот у мамы молоко не пропало. Она мучилась, не знала, куда его девать.
Пробовала сцеживать в бутылочку и давать отцу, но папа – человек, в общем-то, небрезгливый, не мог его пить, морщился и плевался, уверяя, что оно слишком сладкое.
Зато прабабка Матрена с удовольствием пила грудное молоко стаканами.
Любимым моим блюдом в детстве был хлеб с маслом и чай. Еще жареная картошка с молоком и картофельное пюре с котлетой. Ничем другим меня было не соблазнить.
Чтобы накормить «заморыша», родители пускались на разные хитрости. Папа брал игрушки и из окна ванной комнаты показывал фокусы. Пока я, открыв рот, наблюдала за происходящим, мама пичкала меня манной кашей. Уговаривала съесть ложечку за маму, за папу, за бабушку и дедушку и так далее, благо родственников у нас хватало.
Я бунтовала. Сидела за столом по два часа, размазывая кашу по тарелке.
На меня все жаловались. Воспитатели в садике и учителя в школе в один голос твердили, что я плохо ем. Взрослые усматривали в этом какую-то патологию и настаивали на том, чтобы участковый врач отправила меня в санаторий – «подлечить».
Кормили в санатории аж шесть раз в день, строго по расписанию. Ужин был в пять вечера, но почему-то именно после него у нас разыгрывался волчий аппетит. Мы всей палатой сушили сухари под матрасом и хрумкали их по ночам. Ржаные сухарики с солью – как же вкусно! А свечи, которые прописывал мне врач для аппетита, я спускала в унитаз.
Дунька-перепеч
Фирменное блюдо моего папы называлось дунька-перепеч.
Папа включал плитку, брал сырую картошку, нарезал кружочками и выкладывал на раскаленную конфорку. Сырая картошка шкворчала и в мгновение ока обугливалась.
Чад на кухне стоял – не продохнуть. Обжигаясь, папа смахивал готовых дунек в тарелку, густо посыпал солью и забрасывал на плитку очередную порцию.
Мы с Танькой могли съесть хоть тонну горелой картошки!
Но самым любимым блюдом в семье считались пельмени собственной лепки.
Кому пельмень с сюрпризом?
С утра пораньше родители шли на рынок выбирать мясо. Покупали свинину и говядину.
Папа вынимал из шкафа древнюю мясорубку, привинчивал к табуретке и крутил фарш. Красные и бело-розовые ломти с чавканьем исчезали в железной пасти. Аппетитно хрустела сырая луковица, за ней в мясорубку летели зачерствевшие куски ржаного хлеба.
Готовый фарш папа солил, перчил, перемешивал столовой ложкой, которую затем протягивал мне – облизать. Мм, вкус сырого фарша несравним ни с чем!
Мама запрещала мне есть сырое мясо, но для папы все запреты – тьфу! Подмигнет:
– Только маме не говори.
Ага, киваю. И со всех ног несусь к маме:
– Мамочка, а я не ела сырой фарш!
Глаза при этом честные-пречестные. И как она догадывалась, что я говорю неправду?
Пельмени лепим так: мама раскатывает на столе тонкое тесто, граненым стаканом штампует кружочки и складывает их стопочками. А мы втроем – папа, я и младшая сестра зачерпываем чайными ложками фарш из кастрюли. Хлоп его в серединку кружочка, кружочек пополам, края защипнуть – готово!
Самые аккуратные пельмешки выходят у папы – края ровненькие, начинка ниоткуда не торчит. У меня тоже вроде ничего, сносные. А у Таньки все пельмени с дырками, мокрые, неряшливые, вдобавок на пол шлепается ложка с фаршем.
– А ну марш отсюда! – сердится мама.
Танька только этого и ждет. Убежала смотреть мультики. Довольная!
На десятом противне мы с папой начинаем скучать, и чтобы как-то развлечься, решаем налепить пельменей с сюрпризом, в один кружок комочек теста закатаем, в другой – две копейки. Кому-то они попадутся на зуб? Обычно, все «сюрпризы» мне доставались.
Уже кипит кастрюля на плите, распространяя по дому запах лаврушки и душистого перца. Один за другим всплывают кверху брюхом пельмени. Толкаются, кувыркаются, бурлят.
Пока Танька в наказание моет грязную посуду, а мама на глазок разводит в блюдце уксус, папа вытаскивает последние противни на балкон – замораживаться.
Весь остаток дня нашими пельменями будут лакомиться синички. Выскочит папа утром за новой порцией, а половины уже и нет. Ну и ладно. Мы еще настряпаем.
Здесь был Петя
В детском саду воспитательница говорила нам:
– Ленинград – это город-герой, и люди, выжившие девятьсот дней без хлеба – герои. Вы им в подметки даже не годитесь. Маленькие свиньи! Особенно ты, Хабибуллина! Зачем ты опять молоко разлила? В Ленинграде бы тебя за это расстреляли!
И вот после такой пламенной речи я прихожу домой и слышу радостную новость от мамы: мы едем в Ленинград. Я прорыдала всю ночь. В шесть лет не больно-то охота погибнуть от рук героя с автоматом лишь за то, что ты терпеть не можешь молочные пенки.
В Ленинграде мы остановились у маминой двоюродной сестры тети Оли и ее мужа, бравого военного дяди Саши. Никто не мог понять, почему я отказываюсь завтракать, обедать и ужинать. На все просьбы «скушать хотя бы яблочко» я упрямо мотала головой и косилась на дядисашин пистолет, торчавший из кобуры.
Им ведь было невдомек, что я и вправду ем, как поросенок – весь стол в крошках.
К третьему дню вынужденной голодовки я уже едва держусь на ногах, и родственники силой тащат меня в столовую. Вхожу и мама дорогая, что я вижу!
Неужели это и есть те самые блокадники-ленинградцы? Повсюду валяются огрызки и объедки. Уборщицы тарелками вываливают остатки каши с курицей в мусорное ведро, а какие-то мальчишки пинают под столом булку. У меня гора падает с плеч – нормальные люди! И на радостях я наворчиваю две порции картофельного пюре с котлетой.
Что еще запомнилось в Ленинграде? Нева. Глядя в мутные бушующие волны, я гадала: если туда прыгнуть, сколько человек с набережной бросится меня спасать?
Словно прочитав мои мысли, мама покрепче взяла меня за руку.
Помню надпись, нацарапанную гвоздем в Екатерининском дворце: «Здесь был Петя из Глазова», и знаменитую обувную фабрику «Скороход». Мама купила папе белые фирменные кроссовки на липучках, увидев которые, я чуть не лопнула от зависти.
Дождалась, пока все уйдут из дома, и стала их примерять. Зачем взрослым сказочные башмаки-скороходы? Детям они нужней! Но кроссовки и не думали нести меня на край света со скоростью 300 км в час, а лишь тихонечко поскрипывали подошвами.
Так что в фабрике «Скороход» я разочаровалась. Решила – гады, брак подсунули!
Недостающий ингредиент
Было мне пять лет. Захотелось чаю.
Родителей дома нет. Не беда. Сто раз видела, как они это делают. Наливаешь в кружку воду из чайника, из другого чайничка – поменьше, льешь заварку и кладешь сахар.
Только с сахаром вышла загвоздка.
Кладу три ложки, пробую – не сладко. Кладу еще две, снова не то.
Что, думаю, за напасть? Всегда мне папа три ложки в чай накладывает. Может, сахар в магазине продали неправильный? Лизнула – сахар как сахар. Сладкий. А чай – нет.
На всякий случай бухнула еще пять ложек – не сладкий чай и все тут! Реву.
Вывалила в кружку всю сахарницу. Толку никакого.
Тут как раз родители с работы вернулись. Видят – дочь сидит на полу в слезах.
Рядом стоит кружка, до краев наполненная мокрым сахаром.
– Папа, – жалуюсь, – у меня чай заколдованный! – Вон, сколько в нем сахару, а не сладко.
– Эх, ты, дуреха! – смеется отец. – А размешивать кто за тебя будет?
Ах вот оно что! И как это я сразу не догадалась?
В другой раз решила испечь пирог к маминому приходу.
Делов-то! Берешь муку, сахар, яйца, месишь тесто. Как поднимется, ставишь его в печь. Мама печет эти пироги каждые выходные, невелика премудрость. Я так тоже могу!
Замесила. Жду. Час жду. Другой жду. Не поднимается тесто.
Наверно, яиц маловато. Или муки. Высыпала еще полпачки. Получилось густо. Налила воды. Теперь жидко слишком. Снова мешу. Весь стол и стены тестом заляпаны.
Тут и мама с работы пришла. Увидела кухню, ахнула.
– Мама, – кричу. – У нас мука, кажется, испортилась. Тесто не поднимается!
– А ты дрожжи-то добавляла? – спрашивает мама.
Дрожжи? Какие еще дрожжи? Я думала, их только в самогон кладут.
Самогонщики
Ребенком я наивно полагала, что самогон варят из сахара и дрожжей.
Оказалось, гнать его можно из чего угодно. Из картошки, риса, забродившего варенья, пшеничных зерен, свеклы. Даже из пищевых отходов – лишь бы бродило.
Мой папа гнал самогон из томатной пасты, сиропа и прокисших компотов. Баба Дуся промышляла подушечками «дунькина радость» – из них она варила зелье на продажу.
Папа тоже продавал самогон, но в отличие от бабушки, не прочь был и сам употребить хмельной домашний напиток.
Дома у нас стояла огромная бутыль с брагой, в которой плавали ягоды вперемешку с дохлыми мухами. К горлышку бутыли была привязана черная резиновая перчатка.
Когда брагу только ставили, перчатка безжизненно свешивалась набок, но по мере брожения раздувалась все больше и больше и, наконец, вставала торчком, растопырив жирные пальцы-сардельки. Мне она напоминала фашистскую плавучую мину.
В школе нас учили, что самогон – это зло.
Я была пионеркой и посему грозилась сдать отца в милицию – и как продавца, и как главного потребителя огненной воды. Папа, узнав о моих планах, пришел в бешенство:
– Во-он из дома! – орал он, размахивая ремнем, – Павлик Морозов!
Однажды ночью я все же проколола перчатку булавкой. «Бомба» бабахнула так, что даже в соседней комнате обои покрылись красными вонючими ошметками. После этого бутыль с брагой перенесли в чулан, именуемый «тещиной комнатой» – от греха подальше.
Первые годы папа варил подпольный напиток на плите – в двойной кастрюльке, накрытой железной тарелкой с водой.
Вода в тарелке быстро нагревалась, и нужно было постоянно доливать холодную. Да еще парами спирта разило так, что приходилось каждые полчаса мыть пол и брызгать освежителем воздуха, чтобы соседи не учуяли и не настучали «куда следует».
Как-то мама послала меня к соседке за солью. Дверь открыла перепуганная тетя Галя с тряпкой в руках, а в нос мне шибануло таким до боли знакомым запахом карамельки, что я сразу догадалась, что там булькает в кастрюльке на плите, но виду не подала.
Позже папа приволок откуда-то алюминиевую флягу с мощным кипятильником внутри. Из фляги тянулись резиновые шланги и торчали клубки разноцветных проводков.
Шланги подключили к водопроводу и стали гнать зеленого змия с утра до ночи.
Время от времени папа «снимал пробу» – наливал самогонку в ложку и поджигал.
В одну из ночей учудил, откинул крышку кипящего агрегата и сунул голову внутрь – проверить, как идет процесс. С физикой у папы были явные нелады. Горячим паром его отбросило в коридор, и обожгло так, что он лишь чудом не угодил на больничную койку.
Ходил потом весь забинтованный, как мумия, рассказывал, как было дело:
– Я туда, а оно ка-ак да-аст! Шарах – и ничего не помню!
Когда повязку сняли, кожа на папином лице была похожа на шкурку молодого картофеля – гладкая, нежно-розовая, без единой морщинки.
– Ну, хоть какая-то польза от твоей дурости! – подтрунивала над отцом мама.
Но сама «омолаживаться» таким способом не захотела.
Полина экстрасенс
Если папа гнал самогон в промышленных масштабах, снабжая и себя и других, то бабе Дусе с ее маломощной кастрюлькой за нуждами местных забулдыг было не угнаться – спрятанный первач частенько находил и выпивал дед.
Тогда бабушка решила деда закодировать.
Тот сначала был против, но потом из любопытства согласился.
Пригласили в дом Полину с кирпичного завода. Маленькая, полненькая, с сальными нечесаными волосами и опухшим лицом, Полина сама поддавала будь здоров.
Сколько ей было лет никто не знал, может, под сорок, а может, за шестьдесят. Зато все знали, что Полина экстрасенс и неплохо гадает на картах. «О, наш экстрасекс идет!» – завидев Полину, гоготали выпивохи у подъезда. Та лишь презрительно фыркала в ответ.
Полина часто бывала у бабушки в гостях, и лично у меня возникали сомнения в неординарных способностях чудаковатой тетки. Это, похоже, задевало ее самолюбие.
– Хочешь, фокус покажу? – спросила она однажды и протянула мне замурзанную колоду. – Загадай любую карту, но мне не говори, просто подержи в руках подольше.
Я смерила Полину насмешливым взглядом. Синие треники с лампасами, растянутая вязаная кофта, роговые очки с толстыми-претолстыми стеклами. Под левым глазом фонарь. И это экстрасенс?
– Да не смотри ты на меня так, карту загадывай, – смутилась Полина.
Я загадала десятку бубен.
Полина забрала колоду, деловито перетасовала и стала выкладывать на стол по одной карте рубашкой вверх, быстро проводя над каждой грязной пятерней.
– Эта! – Полина торжественно ткнула в карту пальцем.
Перевернули. Бубновая десятка! Но как?!
Полина гордо откинулась на стуле и усмехнулась беззубым ртом, мол, я же тебе говорила, а ты не веришь.
– Погоди, – выхватила я колоду. – Давай еще раз!
Чтобы никто не подглядел, я выбежала в коридор и загадала короля треф.
– Давай сюда! – небрежно махнула рукой Полина.
Перетасовала колоду. Поводила над ней ладонью и снова угадала карту.
Экстрасенша с лиловым бланшем определенно начинала мне нравиться. Но как она проделывает свой трюк?
– Я и сама толком не знаю, – честно призналась Полина. – Просто чувствую твою энергию на карте. У меня очень мощное биополе.
– А у меня? – заерзала я на стуле. – Какое у меня биополе?
Полина бросила на меня быстрый, оценивающий взгляд:
– Обычное, как у всех.
Ответ меня возмутил. Мне казалось, что уж мое-то юное биополе должно быть непременно больше, чем у алкоголички Полины.
Фокус-покус
В детстве я очень хотела иметь волшебную палочку, чтобы творить с ее помощью чудеса.
Однажды в «Детском мире» мне на глаза попался набор юного фокусника – большая коробка с изображением мальчика-факира в чалме. В руках юный волшебник держал заветную палочку… Вот что я попрошу у Деда Мороза на Новый год!
Кроме волшебной палочки в коробке оказалось много занятых вещиц вроде летающих карт, шкатулки с потайным дном, монетки-невидимки и черного мешочка, в недрах которого таинственным образом исчезали предметы.
Ко всему этому прилагалась брошюрка с подробным описанием фокусов.
Фокусы мы показывали вдвоем с папой во время праздничных застолий. Гости восхищались, но с легкостью разгадывали наши уловки. А так хотелось, чтобы у зрителей от удивления глаза повылезли на лоб! И папа придумал «магический» трюк.
Все рассаживались за столом, папе завязывали шарфом глаза и вручали карты. За минуту он умудрялся рассортировать всю колоду. Черную масть складывал в одну стопку, красную – в другую. Заинтригованные гости ахали – на сей раз без притворства и кидались проверять, плотно ли шарф прилегает к глазам. Самые недоверчивые просили повязать сверху платок и повторить трюк. Папа не возражал, вновь и вновь проделывая фокус без ошибок. Многие папины друзья тогда уверовали в его сверхспособности.
Им и в голову прийти не могло, что разгадка фокуса крылась во мне, маленькой ассистентке, которая скромно сидела за столом возле папы.
Мои глаза не были завязаны, и когда выпадали буби или червы, то есть карты красной масти, все, что от меня требовалось – незаметно наступить папе на ногу.
Если кто-то из гостей вдруг начинал подозревать между нами тайную связь и просил меня пересесть, я с невинным видом исполняла просьбу.
С этого момента включался план «Б». Теперь в случае выпадения красной масти нужно было чихнуть, хмыкнуть, кашлянуть, позвать собаку, словом, подать какой-то знак.
Как вы уже поняли – фокус при любом раскладе оканчивался благополучно.
Иногда мы с папой менялись местами – глаза завязывали мне, а не ему. На результатах это никак не сказывалось. Наше представление имело бешеный успех.
Так может, Полина тоже мошенничала? Но в бабушкином доме подсказывать ей было некому, и, тем не менее, задуманные мною карты она всегда угадывала верно. Загадка!
Даю установку!
Когда Полина пришла лечить деда от пьянки, он, сложив руки на коленях, чинно сидел за столом. Притихший, гладко выбритый, в чистой клетчатой рубахе, с аккуратно зачесанными назад седыми волосами, он украдкой следил, как та достает из сумки какие-то травки, пузырьки и потрепанную книжицу с заговорами.
– Не пил? – строго спросила Полина.
Дед отрицательно замотал головой.
– Смотри! Заговоры читаю две недели. Потом тебе о выпивке даже думать тошно будет.
Дед тоскливо шмыгнул носом и покосился на бабушку, но сочувствия в ее лице не нашел.
Неделю Полина исправно совершала свои пассы и нашептывала в пузырек с мутной жидкостью какую-то абракадабру. Дед настороженно принюхивался. Его терзали смутные догадки, что по истечении срока ему придется принять эту гадость внутрь.
А что, если бабушка с Полиной задумали его отравить и подмешали в зелье отраву?
После сеансов он бродил по дому задумчивый, подолгу стоял у окна, наблюдая, как мужики во дворе с азартом забивают «козла» и требуют от проигравшего налить «штрафную». Потом шел на кухню, жадно пил воду, тревожно к себе прислушивался.
Похоже, отсутствие тяги к алкоголю начинало беспокоить деда всерьез.
За три дня до окончания лечения случилось неизбежное. В тюке с грязным бельем дед отыскал припрятанную бабушкой четушку и с облегчением надрался.
Вечером, развалившись в кресле и пытаясь сфокусировать взгляд на собаке Белке, дед делился с ней соображениями по поводу бабушкиной антиалкогольной кампании.
– Бабка, ик, стерва, хотела меня отравить. Замуж, ик, за молодого намыл-лила-лилась. За мал-ладого! Ик-тишкину мать. Бабка! – развернулся дед в сторону кухни.
– Чего тебе? – бабушка появилась в дверях и, уперев руки в боки, скорбно затрясла головой. – И-и-эх, нажрался-таки, ирод! А я-то, дура, деньги Полине вперед уплатила…
– Бабка! Признавайся, ик, есть у тебя хахаль, тишкину мать?! – дед грозно сдвинул брови.
– Я тебе покажу хахаля! – рассердилась баба Дуся. – Я тебе сейчас такого хахаля покажу!
Она схватила с плиты чугунную сковородку и что есть силы огрела деда по голове.
– Ой! – испуганно прикрыла рот ладошкой. – Саша! – и медленно сползла по стеночке, прикрываясь сковородой, как щитом.
Но дед и не думал нападать. Дико вращая глазами, он вскочил и попятился к дивану:
– Ты что, бабка, а? Ты что? – бормотал он.
Скинув брюки и рубашку, дед нырнул под одеяло. Утром встал, как ни в чем не бывало, сделал вид, что ничего не помнит, но от бабушки старался держаться подальше.
– Звать Полину? – хмуро спросила та.
– Нет! – взвизгнул дед и помахал перед бабушкиным носом скрюченным пальцем. – Не надо! Хватит!
Глава пятая
Дар
Образ прабабки Матрены запечатлелся в моей памяти пугающим, отчасти даже каким-то чужеродным – будто уже тогда, в младенчестве я понимала: у нас с ней разные пути.
Вероятно, бабе Моте хотелось, чтобы ее правнучка пошла по «ведьминским» стопам.
Может, она чуяла во мне некую силу, и перед смертью хотела ее приумножить, передав часть своей. Говорят, без этого ведьмы и колдуны не могут отойти в мир иной.
Я же бессознательно такому «донорству» противилась.
Внутренний голос шептал: не подходи, не бери, ищи свое!
Но поскольку дар ведуньи веками передавался женщинам нашего рода, то кто-то должен был его принять. И сдается мне, прабабушка вручила мне его хитростью, через игрушку.
После этого я должна была либо продолжить магическую линию, начав оказывать влияние на судьбы окружающих меня людей, либо трансформировать полученную энергию в творчество и уже с его помощью воздействовать на других, что в каком-то роде тоже – магия. Хочется верить, что баба Мотя надеялась, что я изберу второй путь.
Сила творчества
Почему я в этом так уверена?
Говорят, что все мои прабабки-ведуньи росли творческими, тонко чувствующими детьми.
Они прекрасно пели, рисовали, писали стихи, играли на музыкальных инструментах (отголоски тех талантов и сегодня прорываются в их потомках). Но в деревенском обществе творческая одаренность детей считалась блажью, баловством и потому всерьез не воспринималась. Картинки, песни, сочинительство, много ли на этом добра наживешь?
Большая семья требовала больших трат, а значит, надежного источника дохода.
В деревнях ценились люди земли, физического труда, а не «какого-то там» искусства.
В итоге девочки, которым с детства внушалось, что творчеством не проживешь, что все это «придурь», пустое, зарывали свои таланты в землю и целиком отдавались домашним заботам. Выходили замуж, рожали детей и от зари до зари трудились на ферме и в поле.
Но божью искру, куда ее денешь? Не найдя себе должного применения, она тлеет в груди, чадит, отравляя ядом сердце и душу. Как же тут не озлобиться? Жжение-то внутри ого-го!
Вот и начинает такая женщина самоутверждаться, отыгрываться за свое творческое бессилие на домочадцах. И уж коли ругнется в сердцах, пожелает кому-то ни дна, ни покрышки, то неприятностей не избежать – так она освобождается от негатива.
И горе тому, кто в эту «грязную» струю попадет. В лучшем случае, отделается головной болью, в худшем может тяжело заболеть или даже погибнуть. Особенно, если находится не в лучшей форме, болен, ослаблен, чем-то расстроен или удручен. Ибо что-то мне подсказывает, что сильному, здоровому, уверенному в себе человеку никакая грязь, ни проклятья не страшны. Вот только много ли мы знаем таких безупречных людей?
Ведьмы тоже плачут
До того как стать «ведьмакой», моя прабабка Матрена перебивалась случайными заработками прачки, обстирывая чужих людей. Баба Люда работала агрономом в колхозе, хотя обе – и мать и дочь, хорошо рисовали, и, думаю, мечтали совсем об иной судьбе.
Похожая история приключилось и с моими родителями, и младшей сестрой.
У мамы был красивый голос, ее манила сцена, театральные подмостки. В школе учителя хвалили мамины способности к литературе, живописи, иностранным языкам.
Папа в юности недурно рисовал. Писал стихи. Пел под гитару. Играл в самодеятельном театральном кружке. К тому же был подающим большие надежды спортсменом.
Острой необходимости выживать, как их далеким предкам не было ни у мамы, ни у отца, но оба, поддавшись родительскому напору («живи так, как мы жили!»), отказались от своей мечты и вместо этого пошли на завод, выполнять скучную механическую работу.
Про сестру отдельный разговор. Вся ее жизнь, начиная с рождения, представляется мне цепочкой сплошных неудач. Да чего там – все началось еще до появления Тани на свет. Но об этом чуть позже. Пока же вернусь к самовыражению себя.
Я вижу это так: у тех, кто изменил себе, своему призванию, променял журавля на синицу, энергия, запертая внутри, начинает «закисать». Появляются обиды, зависть, гнев, которые с годами могут вылиться в какую-нибудь зависимость или уйти в болезни.
Думаю, не случайно прабабку Мотю и бабу Люду к концу жизни разбил паралич.
Подаренное здоровье
Дар, который я нежданно-негаданно получила от прабабки, до поры до времени никак себя не проявлял, а, может, просто воспринимался мною как должное.
Я не только с легкостью сочиняла стихи и хорошо рисовала, но и как баба Мотя могла «отводить» глаза и делиться с людьми своей силой.
Впервые я проделала это с одним юношей, в которого тайно была влюблена.
Мне тогда было 13, ему –18 лет. Как-то ребята во дворе проговорились, что у моего возлюбленного проблемы с почками, мол, из-за этой болезни его даже в армию не берут.
Это показалось мне ужасно несправедливым. Надо же, подумала я, такой молодой, а больной, и решила поделиться с ним своим здоровьем. Для хорошего человека не жалко! Тем более здоровья этого у меня было хоть отбавляй (так я тогда думала).
К своему решению я отнеслась ответственно. Даже совершила нечто вроде ритуала – представляла, как моя энергия плавно перетекает в тело юноши и излечивает его.
День или два после обряда я чувствовала легкое недомогание, но вскоре все прошло, и я снова была бодра и полна сил.
А спустя полгода мою пассию забрали в армию. Доктора нашли юношу абсолютно здоровым и признали годным к строевой службе. Мое ли вмешательство помогло или болезнь отступила сама по себе, неизвестно, но новость о чудесном исцелении очень обрадовала и вдохновила меня (не знаю, как насчет самого новобранца, допускаю, что ему-то как раз служить совсем не хотелось).
Еще раз частичку своего здоровья я отдала, когда училась в Нижнем Тагиле.
У меня была любимая учительница, которая большую часть учебного года проводила на больничном – у нее было слабое сердце.
Как и в случае с юношей, я нашла ее недуг несправедливым и решила помочь.
Снова устроила импровизированный сеанс с передачей энергии. Вот только на этот раз самочувствие мое ухудшилось мгновенно и весьма серьезно. Почти два месяца я мучилась от жесточайшего насморка. Сбить температуру не удавалось ни таблетками, ни порошками. Это был не грипп, не ОРЗ, а черт знает что! Я осунулась, ходила, бледная, почти зеленая. Чувствовала: странная болезнь как-то связана с откачкой энергии в пользу страждущих, и пора бы с этой благотворительностью уже завязывать.
Косвенно мои догадки подтверждались тем, что за все это время учительница-сердечница ни разу не взяла больничный лист, и в отличие от меня вид имела цветущий.
Я поняла – третьего такого раза мне не выдержать.
Пустое место
Но на этом мои эксперименты не закончились.
В то лето мы с парнями и девчонками любили пропадать на складе запчастей, где наш девятнадцатилетний приятель Димка подрабатывал в каникулы сторожем.
После обеда склад пустел и закрывался. Димке было скучно сидеть одному на дежурстве, и он частенько звал друзей составить ему компанию: выпить чаю, поболтать, посмотреть телевизор. Мы пробирались на склад через дыру в заборе и с восторгом носились по огромной территории, мимо железных ангаров. Глазели на технику, сеялки, веялки, трактора, забирались в кабины комбайнов, нажимали кнопки, крутили штурвал.
Кто-то предложил сыграть в прятки. Водить выпало Димке.
Играли мы с азартом, как в детстве. Каждый был заинтересован в том, чтобы как можно дольше не попадаться водящему на глаза. Но Димка каким-то шестым чувством угадывал, кто и где прячется и методично застукивал игроков.
Кажется, нас, не застуканных, осталось двое или трое, когда я решила поменять укрытие. Дождалась, пока Димка войдет в кирпичную сторожку, чтобы подняться по лестнице на второй этаж и сверху окинуть двор широким взглядом. Выскочила из-за угла и – бежать!
Вот только Димка вышел на балкон быстрее, чем я ожидала.
От неожиданности я, как вкопанная, замерла посередине двора. Игра для меня закончилась. Конечно же, он увидел меня! Не мог не увидеть. Ему оставалось только крикнуть «туки-туки», но Димка как воды в рот набрал.
Поведение его казалось странным. Он внимательно осматривал двор, шаря глазами по дальним закоулкам, постепенно сужая поле зрения до пятачка, где стояла я.
Стояла прямо перед ним, как на ладони!
Вот его взгляд уперся в меня. Я помахала Димке рукой, мол, сдаюсь! Но его глаза равнодушно скользнули по мне, как по пустому месту и продолжили сканировать двор.
Я не верила своему счастью. Не сводя с Димки глаз, я медленно, бочком, двинулась к железной цистерне. Димка по-прежнему никак на меня не реагировал, словно я была невидимкой. Пока он спускался по лестнице, я успела его опередить и «расколдовать» других игроков, которые все это время с замиранием сердца следили за происходящим.
Потом мы долго, с пристрастием допытывались у Димки, почему он не застукал меня.
Димка обижался, и казалось, искренне недоумевал, в чем его обвиняют.
Похоже, он и впрямь меня не видел.
Проверка на вшивость
«Отводить» чужие глаза мне доводилось и раньше.
Помню, в санатории имени Юрия Гагарина был выявлен случай педикулеза – обычное явление для школ и пионерских лагерей тех лет. Медики забили тревогу.
И хотя в нашем классе вшей не было ни у кого, в банный день всех девочек ждала санобработка. После душа мы должны были сполоснуть волосы слабым раствором уксуса.
Я не хотела пользоваться уксусом по двум причинам – во-первых, не вшивая, во-вторых, уксусная кислота придавала моим черным волосам зеленый оттенок.
Некоторые девочки тоже собирались отказаться от унизительной процедуры, но на выходе из душевой сидела медсестра, которая считала полотенца и, как собака, обнюхивала головы. Незаметно проскочить мимо нее не выйдет – живо завернет обратно.
Мы остались в моечном отделении вдвоем, я и еще одна девочка. Ирка плеснула на себя из уксусного ковшика и пошла вперед, я – за ней, даже не взглянув в сторону пахучей бадьи с раствором. На что надеялась – непонятно, но я верила: что-то да произойдет.
Медсестра быстро осмотрела Ирку и уже хотела взяться за меня, но тут выяснилось, что Ирка перепутала ножное и банное полотенца, бросила не в ту кучку.
Пока медсестра ее отчитывала, пока сверяла и заново пересчитывала свое тряпье, я воспользовалась заминкой и проскользнула в раздевалку незамеченной.
Кое-кто из девчонок хотел побежать и наябедничать медсестре, но, видимо, мой суровый взгляд был красноречивее всяких слов, и у ябед отпала всякая охота со мной связываться.
В поезде
Еще был случай, когда мы с мужем возвращались поездом из Крыма в Москву.
Ночью в наш вагон вошли украинские пограничники и начали проверку документов. Пограничников было трое, и проверяли они тщательно и дотошно, будили тех, кто спал, внимательно сличали фотографии с оригиналом. В соседнем отсеке одна верхняя полка пустовала, но смятое постельное белье указывало на то, что хозяин где-то рядом.
Парни в форме не успокоились, пока не отыскали «дезертира» в туалете.
И тут я вспомнила про случаи на складе и в бане. А не притвориться ли мне опять невидимкой? – подумала с озорством. Прокатит на этот раз или не прокатит?
Скрывать мне было нечего, бояться тоже, поэтому за результат я не переживала.
Андрей сверху знаками велел мне приготовить свой паспорт. Но я даже не стала его вынимать. Лежала на нижней полке и делала вид, что меня не существует в природе.
Пограничник вошел, проверил документы у мужа и его соседа. Взял паспорт пассажирки снизу, пробежался по нему глазами и развернулся ко мне. Он смотрел на меня полсекунды, может, меньше, после чего, не проронив ни слова, вышел и пошел дальше.
Я ликовала. Получилось! Ура!
Глава шестая
Травма
В детстве я мечтала о младшей сестренке или братике, чтобы вместе играть в прятки, догонялки, хали-хало. Увы, просьбы купить «лялечку» в магазине не помогали.
Мама не хотела больше детей. Так бы мне, наверно, и томиться в одиночестве дальше, но с отцом на заводе случилось несчастье. Из-за чьей-то халатности в папу брызнуло соляной кислотой, и он ослеп на один глаз.
Совпадение или нет, но много лет спустя я нашла в фотоальбоме бабы Дуси старую черно-белую фотографию, где папе полтора года. Снимок был разорван пополам, и линия разрыва приходилась точно на левый глаз малыша.
Папа переживал, что поврежденный глаз спасти не удастся, и он никогда больше не сможет им видеть. Но доктора уверяли: надежда вернуть зрение есть.
Глазные клиники, анализы, сложнейшие операции – на это ушел год.
Чуда не произошло, зрение не восстановилось.
Мама плакала, отец злился. В 27 лет тяжело смириться с внезапной инвалидностью.
Я же в силу возраста вообще не понимала, что произошло. В чем проблема? Внешне отец ни капли не изменился. Он носил искусно подобранную стеклянную вставку, и если не вглядываться, то было совсем незаметно, что глаз у него только один. Конечно, об отцовском увечье знали многие, слухи в маленьких городках разлетаются быстро, но я не помню, чтобы кто-то над ним насмехался или дразнил. Даже мои одноклассники, которые не упускали случая нелестно отозваться о чужих предках, и те помалкивали.
Изгой
В соседнем с нами дворе жил мальчик Денис, мой ровесник.
Почему-то ребята терпеть его не могли, считали изгоем, преследовали, обзывали, иногда даже поколачивали. У отца этого мальчика тоже не было глаза.
Как-то моя одноклассница Ленка мимоходом крикнула Денису что-то обидное.
Тот в долгу не остался, подобрал с земли горсть камней и швырнул в обидчицу.
– Ах ты! – разозлилась Ленка. – Ну я тебе покажу!
Она бросилась за ним вдогонку, но мальчишка со всех ног уже улепетывал домой.
– Психбольница номер пять, без трусов пошел гулять! – кричала Ленка ему вслед. – А папка твой вообще одноглазый! Циклоп!
И хотя слова эти предназначались не мне, меня словно током ударило. Как Ленке не стыдно так говорить! А если бы кто-то так отозвался о моем отце? Я схватила ее за руку:
– Замолчи! Ты что, забыла, ведь мой папа тоже…
Одноклассница смутилась, но быстро вывернулась из неловкой ситуации:
– Так твой папка другое дело, он хотя бы красивый.
Отец и вправду был мужчина хоть куда, он привык нравиться женщинам, быть в центре внимания. Но он так стеснялся своего мнимого уродства, так боялся, что мама от него уйдет, что чуть ли не силой настоял на втором ребенке, посчитав, что только в этом случае жена от него никуда не денется.
Так в нашей семье появилась Танька.
Три шестерки
– Ой, какая маленькая, как с ней играть? – протянула я разочарованно, мельком взглянув в роддоме на розовый сверток. И тут же потеряла к новорожденной всякий интерес.
Сестра родилась шестого числа, шестого месяца, в четыре часа утра.
– Хорошо, что не в шесть, – перекрестилась баба Люда. – Три шестерки – знак антихриста.
– Да это же день рождения Пушкина! – смеялась мама. – У нее вон и кудряшки такие же.
Мама хотела назвать новорожденную Мариной, в честь своей лучшей подруги, но я заупрямилась: Таня!
Вопреки бабушкиным прогнозам, Таня оказалась необычайно тихим младенцем.
Со мной, вспоминала мама, она глаз сомкнуть не могла: пеленка мокрая, я в крик, от груди отняли – ор на всю ивановскую. А Танька знай себе сопит в две дырочки в кроватке. Голодная молчит, животик заболит – ни звука, описается, обкакается, все молчком, даже не покряхтит для приличия. Никаких хлопот. Не ребенок, а золото. Всем бы так!
Случай в ванной
Мне три с половиной года, Таньке три месяца. Мама купает нас в ванной.
Выскочила буквально на минутку, проверить, как там каша на плите, а я осталась присматривать за сестренкой. И надо же такому случиться: едва за мамой захлопнулась дверь, как Танька поскользнулась на ровном месте и ушла с головой под воду.
Эта картина до сих пор стоит перед глазами: из крана с шумом льется вода, маленькая Танька судорожно цепляется ручонками за шланг от душа, а я с любопытством и страхом взираю на нее сверху: выберется – не выберется?
Танька барахталась молча, не сводя с меня испуганных глаз. В ее взгляде читалась такая мольба, такое отчаянье – ну что же ты смотришь, скорей помоги мне!
Но мне и в голову не приходило протянуть сестре руку или позвать на помощь маму. Вероятно, услышь я Танькин крик, это выбило бы меня из ступора, а так я лишь стояла столбом и заворожено глазела, как сестра погружается на дно.
Мне было страшно даже дотронуться до нее, а вдруг уже поздно и она утонула?
И только когда Танька начала пускать пузыри, во мне что-то щелкнуло: она живая! Ее еще можно спасти! И я крикнула маму.
Ох и влетело же мне! Перепуганная мама решила, что я нарочно хотела Таньку утопить – из ревности. Меня же больше занимал другой вопрос – почему сестра не издала в момент опасности ни звука? Не закричала, не заплакала. Даже не пикнула.
Может, она у нас немая?
Наша Таня громко плачет
Все изменилось в одночасье. Как-то ночью наша молчунья Татьяна разбудила всех громким ревом. Зажгли свет – ребенок мечется в горячке. Измерили температуру – сорок.
Папа побежал будить соседа инвалида дядю Женю, у него единственного на этаже имелся домашний телефон. Приехала скорая. «Зубки режутся, – пожала плечами докторша. – Если к утру температура не спадет, вызывайте участкового педиатра».
Скорая уехала. Но папа не стал дожидаться утра.
Где-то на улице Толстого у него жил знакомый врач по фамилии Марков. Невзирая на поздний час, отец решил идти за ним. Я увязалась следом. Приключение!
На улице темень и дождь, в подворотнях завывает ветер, а мы с отцом быстрым шагом идем куда-то дворами, переулками, утопая в грязи, перепрыгивая через огромные лужи.
С трудом отыскав нужный подъезд и квартиру, звоним в дверь. Щелкает замок.
На пороге стоит крупный человек в трусах и майке, щурясь от яркого света.
– Умоляю, скорее! Дочь умирает! – выдыхает отец.
Не задавая лишних вопросов, доктор Марков быстро одевается и выскакивает под дождь.
– Вы правильно сделали, что не стали ждать утра, – скажет он позже. – Еще полчаса и было бы поздно. У вашей дочери двустороннее воспаление легких.
Больница
Борьба за Танину жизнь продолжалась несколько месяцев.
Я видела сестру пару раз сквозь стекло больничной палаты – маленькое тщедушное тельце, опутанное паутиной капельниц, утыканное катетерами и иголками.
Мама вспоминала: от уколов на попе сестренки не осталось живого места. Уколы были такими болезненными, что Танькины ручки и ножки сводило судорогой.
А тяжелый недуг все не отступал. Пришлось делать переливание крови. Кровь у Тани была редкой первой группы, поэтому донором для нее стала мама.
Потом была реабилитация в Ижевской больнице. Порядки там царили поистине тюремные – никаких свиданий, игрушек, передач. Врачи не пускали к Тане даже маму.
Маленькая дикарка
Когда спустя полгода сестра вернулась домой, это был совсем другой ребенок. Она не узнавала родных, всех дичилась, вела себя, как затравленный лесной зверек. Начала красть еду, таскала со стола и распихивала по карманам конфеты, прятала под подушку хлеб. Утром, перед детским садом, папа намажет бутерброд маслом, подмигнет:
– Кому корочку?
– Мне курочку, мне! – канючит Танька.
Думает, отец предлагает ее любимую куриную гузку.
А вот пельмени Таня не любила, требовала котлет. Мы с мамой хитрили, распотрошим пельменную начинку, тесто в сторону, фарш – на тарелку и уверяем, что это и есть котлетки, только маленькие, для малышей. Таня верит, уплетает за милую душу.
Неуемный аппетит младшей сестры не раз спасал меня от ремня.
Маму раздражало, что я не доедаю сосиски и суп. Поэтому я украдкой сваливала остатки еды в Танькину тарелку и со спокойной совестью выскальзывала из-за стола. Так что вскоре из больничного заморыша Таня превратилась в пышечку с ямочками на щеках.
– Ну чистый ангелочек! – умилялась баба Люда.
Рано радовалась.
Все против одной
К трем годам, словно в компенсацию за тихое младенчество Таня превратилась в настоящего сорванца. Ее ни на секунду нельзя было оставить одну без присмотра.
Чуть отвернешься, то лоб себе расшибет, то залепит жвачкой глаза или наглотается аскорбинок. Выстригла челку под корень. Взялась стричь ногти на ногах огромными портняжными ножницами и только чудом не осталась без пальцев.
К Новому году мамина сестра тетя Нина прислала из Шевченко посылку с дефицитным шоколадом. Шоколадки в хрустящих нарядных обертках поставили в сервант возле хрустальных фужеров – в качестве украшения, предупредили: съедим в Новый год.
Праздник наступил. В полночь сунулись в сервант, развернули фольгу, а шоколада-то внутри нет! Хитрюга Танька слопала лакомство тайком, аккуратно заклеила пустые фантики и вернула их на место, авось никто о ее проделках не догадается.
В четыре года эта маленькая хулиганка вырвалась из рук и чуть не угодила под колеса автомобиля. В пять забралась на крышу детского клуба «Ровесник» и на пару с младшим двоюродным братцем Сашкой принялась пулять камнями в прохожих.
Хорошо, какой-то дядечка не поленился залезть на крышу и надрать уши озорникам, а то натворили бы бед.
За Танькой прочно закрепился ярлык дурного ребенка, который не умеет себя вести – ворует, врет, влипает в скверные истории, вечно все ломает, портит, теряет.
Бабушка Дуся отказывалась брать сестру на лето в Тагил. Другие родственники, узнав, что мы собираемся приехать в гости, заявляли без обиняков: только без Тани!
От нее шарахались, как от чумной, в любую минуту ожидая какой-нибудь пакости.
И Таня, чувствуя свою отверженность, незамедлительно им эту пакость устраивала.
Даже в те редкие минуты, когда сестра не хотела шалить, а старалась произвести приятное впечатление, она и то умудрялась напортачить – рвала новое платье, случайно зацепившись за гвоздь или разбивала любимую мамину вазу, нечаянно задев край стола.
А все, и я в том числе, думали, что Таня делает это нарочно – из вредности.
Однажды я решила пожаловаться на несносную сестрицу в пионерский журнал «Костер». На трех страницах расписала, какая Танька вредная и непослушная. Заодно упомянула, как та втихую от мамы слопала трехлитровую банку малинового варенья и кило конфет.
Перечитала написанное и… письмо порвала. Сестра все-таки! Жалко.
Таньке и так несладко жилось. Проведя полгода в казенных больничных стенах, по сути в изоляции, в том нежном возрасте, когда общение с семьей и матерью для ребенка жизненно необходимы, Таня одичала настолько, что наверстать упущенное уже не могла. Ей очень не хватало родительской ласки, заботы, любви, тепла. И она всеми способами пыталась заполучить их.
Обида
Рождение второго ребенка не улучшило отношений в семье. Наоборот, с маленькими детьми в двух комнатах стало тесновато. Родители ссорились. Бабушка без устали пилила маму за то, что та ее не послушалась – мало того, что не развелась с отцом, так еще и родила от него, от «калеки». Этого баба Люда простить дочери не могла.
В итоге мама как бы оказалась между двух огней, и не в силах противостоять родителям и мужу, начала срываться на детях. Чуть что не по ней, сразу в слезы и крик.
Отец, пытаясь самоутвердиться и снять напряжение, стал с удвоенным рвением бегать налево и выпивать. Из-за этого они с мамой постоянно скандалили, орали друг на друга, бывало, что отец и руку на нее поднимал. Бабушка не вмешивалась, но и не упускала случая позлорадствовать в мамин адрес: мол, я же тебя предупреждала, вот и получай!
Надо ли говорить, как угнетали всех эти домашние распри.
Чтобы две семьи смогли, наконец, разъехаться, папа встал в очередь на квартиру.
Завод квартиру дал, но однокомнатную.
После долгих уговоров, маминых мольб и слез, дед уступил, согласился на обмен. Они с бабушкой переехали в однушку на улице Пехтина, а мы остались на Карла Маркса.
Вот только принять новое жилище дед так и не смог. Ему не нравилось в нем все: дом, район, планировка, особенно окна, выходящие на запад, а не на восток, как он любил.
Запад, закат солнца означал для него смерть, медленное угасание. Дед прожил в новой квартире совсем недолго.
Нелюбимая
А мама с папой продолжали ругаться.
Про такие пары в народе говорят: и вместе плохо и врозь нехорошо.
Много раз мама порывалась уйти от отца, но боялась остаться одна с двумя детьми. Втайне она тяготилась нежеланным ребенком, пыталась переложить вину за свою неудавшуюся жизнь на младшую дочь, мол, если бы не она, все было бы иначе.
Масла в огонь подливал отец, в минуты ревности заявлявший, что Танька не его ребенок. Хотя сомневаться в их кровном родстве мог разве что слепой – Таня была точной копией папы. Возможно, после таких обвинений мама окончательно поняла, что совершила роковую ошибку, не послушав мать. Но что сделано, то сделано.
Мне кажется, что больше всех страданий выпало не столько на мамину долю, сколько на долю Тани. Не оттого ли невинная кроха заболела так тяжело? Дети же все чувствуют.
Болезнь сестры стала для родителей серьезным испытанием, заставила на какое-то время сплотиться, забыть о ссорах. Но напрасно я надеялась, что с Таниным выздоровлением в семье наступит мир, что мама с папой наконец-то заживут душа в душу.
Едва угроза смерти миновала, как все вернулось на круги своя, даже стало хуже.
Если раньше милая малютка не доставляла взрослым особых хлопот, не отвлекала от бесконечных драм и выяснений отношений, то тут она вдруг стала требовать повышенного внимания к себе – капризами, эпатажным поведением, истериками, что накаляло и без того напряженную атмосферу в семье еще больше.
Печать дьявола
Сколько я себя помню, родители всегда внушали мне, что я хорошая, «правильная» девочка, а Таня бедовая, шальная, притягивающая к себе как магнитом несчастья.
И в садике-то ей с воспитателями не повезло, и в начальной школе попалась вредная училка. И вообще, наверно, баба Люда права – всему виной злосчастные «три шестерки».
О том, что, может, это с ними что-то не так, родители даже мысли не допускали.
Мама с папой считали нашу семью если не образцовой, то, во всяком случае, не хуже других семей. Все сыты, обуты, одеты, чего еще надо? А ругань, скандалы – ерунда! Милые бранятся – только тешатся.
Но из-за этих скандалов меня порой так и подмывало сбежать из дому.
Я убеждала себя и Таньку, что мы с ней приемные дети, что наш настоящий отец певец Валерий Леонтьев, а мать – милая, добрая певица Валентина Толкунова. Ну разве ж стала бы родная мать кричать на своих детей? А все мамины срывы я принимала на свой счет.
Однажды я и впрямь чуть не сбежала и не увела с собой сестру в детский дом. Я верила: там нам будет лучше.
Мы такие разные
Впрочем, то, что родители постоянно сравнивали нас с сестрой, и это сравнение было не в Танину пользу, играло мне даже на руку. Мне нравилось чувствовать свою «особенность».
Это не значит, что я на самом деле была в чем-то лучше сестры. Просто я умела искусно маскироваться, скрывать от других дурные поступки и мысли, «заметать» следы.
Таня в этом смысле была более наивным и бесхитростным ребенком. Она тянулась ко мне, всюду следовала по пятам, как хвостик. Начну коллекционировать открытки, и Таньке их подавай. Возьмусь за календарики, оставив открытки сестре, как тут же выясняется, что они ей надоели, она тоже хочет копить календарики. И так во всем.
Я дразнила Таньку: повторюшка дядя Хрюшка, прятала от нее свои вещи. Но от Тани ничего не утаишь, найдет и вдобавок испортит – из вредности.
Дружить у нас не получалось. Я готова была терпеть Таньку до тех пор, пока она меня слушалась. Было приятно с ней нянчиться, опекать, развлекать, играть в дочки-матери (мамой, конечно, была я), но стоило младшей сестре нарушить мои правила, взять что-либо без спросу или проявить своеволие, как она мгновенно впадала в мою немилость.
Разве могут сестры быть такими непохожими? – удивлялись все.
Мы и вправду были очень разные, но вместе с тем нам почти всегда нравились одни и те же книги, а для меня это важный показатель душевной близости.
В детстве родители измеряли наш рост, делая зарубки на дверном косяке, и я помню, как сестра мечтала сначала догнать меня, а после и перегнать. Я росла медленно, а Танька быстро, и годам к двенадцати-пятнадцати окружающие уже не могли различить, кто из нас старшая, а кто младшая, некоторые вообще думали, что мы близняшки.
При каждом удобном случае мы с сестрой спорили, обзывались, бывало, даже дрались.
Темперамент у Таньки был бешеный. Однажды она так припустила в меня железной кружкой, что не увернись я вовремя, ходить бы мне с разбитым носом или лбом. На двери, принявшей удар на себя, осталась внушительная вмятина.
Мирись-мирись и больше не дерись
За драки родители нас наказывали.
Правда, они никогда не выясняли, кто был зачинщик, из-за чего разгорелся сыр-бор.
«Обе хороши!» – любимая мамина фраза. Всыпать ремня обеим и весь разговор.
– За что?! – в один голос вопили мы с Танькой.
– За дело! – приговаривала мама, прохаживаясь по нашим попам ремнем, тапком, поясом от халата, скакалкой, собачьим поводком, проводом от чайника, скрученным полотенцем, шлангом от стиральной машины – здесь мамина изобретательность не знала границ.
Если же через какое-то время выяснялось, что под горячую руку попало невиновному, она редко признавала свою неправоту. Заявляла: профилактика еще никому не повредила!
Ремень сделал меня абсолютно нечувствительной к боли телесной, но крайне обострил чувствительность души. Тут я была настоящим «экстрасенсом».
Замечали когда-нибудь, как внимательно смотрят на лица людей животные и младенцы? Они буквально считывают их, срывают маски. Ребенком я могла по шагам и по тому, как поворачивается в замочной скважине ключ, определить, в хорошем настроении пришла с работы мама или в дурном. И если в дурном, то на глаза ей лучше не попадаться.
Мы с Танькой ненавидели ремень и по возможности старались спрятать его подальше, а заодно убрать из зоны видимости все тапки. В этом случае мама просто разводила нас по разным углам или запирала – Таню в ванной, меня – в туалете. И выключала свет.
В стене под потолком имелось окошко. Поскулив немного в темноте, мы с сестрой принимались налаживать связь – перестукиваться и переговариваться. Или, взобравшись – Танька по батарее, а я по кафельной стене, раскорячившись и упираясь в нее ногами и руками, прилипали к окну и корчили друг другу рожицы. Так незаметно наступал мир.
Я не я и папироса не моя
Весна. Мы с папой гуляем во дворе. Я играю в мячик, а трехлетняя Танька у меня его отбирает. Я не отдаю, Танька – в рев.
Выходит мама, отнимает мяч и вручает его сестре, пристыдив меня: она же маленькая!
Я затаиваю обиду – на Таню, на маму, но больше всего на папу, который со смехом принялся меня, насупленную и зареванную, снимать на фотоаппарат.
А вскоре мне представился случай отомстить сестре. Дело в том, что я всегда хотела попробовать покурить, уж очень аппетитно папа смолил своим беломором. Оставшись дома одна, я вышла на балкон, вынула из пачки папиросу, чиркнула спичкой…
И тут сверху раздался грозный голос:
– Эт-то что такое?! А ну брось! Все родителям расскажу!
Я в ужасе отпрянула от перил и выбросила незажженную папиросу «за борт».
Тем же вечером сосед сверху наябедничал родителям. Вот только он перепутал меня с младшей сестрой, поэтому влетело не мне, а Таньке. Пока ее пороли, я стояла в стороне.
Мне было жаль сестру, но признаться в своем грехе, сказать родителям правду, означало обрушить их гнев на себя. И я трусливо промолчала, мысленно дав клятву никогда не курить самой. «Подумаешь, наказали, – оправдывала я себя. – А сколько раз мне попадало вместо Таньки! Взять хотя бы тот злополучный мячик. Теперь мы квиты».
С годами отношения между мной и сестрой наладились. Мы сблизились, стали больше друг другу доверять и даже дали клятву никогда не разлучаться. Но я обещания не сдержала, уехала в другой город. И двенадцатилетняя Танька снова осталась одна.
Ее письма ко мне были полны отчаянья, но я не замечала этого, не хотела замечать.
Мне было не до сестры, у меня начиналась новая жизнь со своими метаниями и исканиями. А Таня тем временем связалась с сомнительной компанией и начала курить…
Глава седьмая
Отстаньте от меня!
– Совсем от рук отбилась! Никакого сладу с ней нет! Может, хоть тебя она послушает, – сокрушалась мама по межгороду.
– И этот тоже! – переключалась она на отца. – Вконец ополоумел от ревности. Трезвый – человек человеком, а как выпьет – зверь. Руки распускает, крушит все подряд. Да что я тебе рассказываю, сама все видела, знаешь.
Я сочувственно поддакиваю: да, тяжело тебе с ними. Танька не ангел, да и папа, честно говоря, тоже не подарок, особенно, подшофе. Но что тут поделаешь?
– Поговори с ним, а? – просит мама.
Отец подходит к телефону и нарочито бойким голосом рапортует, что дома все в порядке, беспокоиться не о чем. А то, что мать болтает, так ты ее не слушай. Не знаешь, что ли, ей лишь бы поворчать.
– Знаю, конечно. Но ты уж, пап постарайся не пить, ладно? – мямлю я скорее для очистки совести, так как эти мои просьбы для отца – пустой звук.
– Ладно, ладно, не буду, – скороговоркой отвечает отец. – Таньку позвать?
Таня берет трубку и долго полушепотом изливает мне душу – что дома все плохо, мама сживает ее со свету, заставляя учиться и все делать по дому – убираться, стирать, а отец только и знает, что бегает по бабам, вчера даже дома не ночевал. И все в таком же духе.
– Везет тебе, ты не дома! – завистливо вздыхает Танька. – А я тут с ними скоро совсем с ума свихнусь. Надоела эта ругань, хоть бы скорей развелись уже, что ли.
– Да уж, понимаю тебя, – соглашаюсь я. – Но ты давай там, держись.
– Угу, – уныло отвечает Танька. – Приезжай скорее! Будет хоть с кем поговорить.
«Господи, как же вы мне все надоели! – думаю я про себя, кладя трубку. – Да провалитесь вы все, оставьте меня в покое!»
Отцы и дети
Конечно, не всегда в нашей семье все было так скверно. Случались радостные, даже счастливые дни, когда мама с папой мирно уживались друг с другом.
Как же я их любила в такие моменты! Вот только семейное счастье казалось мне слишком хрупким, непрочным, как затишье перед грозой. Вроде бы все хорошо-хорошо, и хочется верить, что это надолго, но вдруг видимое благополучие рушится на глазах, как карточный домик – раз и нет. И снова в душе поселяются страх и тревога.
Может, у меня какие-то неправильные родители? – гадала я тогда. – Не так живут, не так воспитывают нас с сестрой. А теперь понимаю: они жили и воспитывали, как могли.
По-другому просто не умели. Не было у них такого примера перед глазами. И желания понять, что с ними не так, очевидно, тоже не было. Так стоит ли их за это винить?
Вольно или невольно родители передают своим детям то, что имеют сами – и свои лучшие качества, и худшие, а как уж дети этим «наследством» распорядятся, это их, детей, дело.
– И в кого они у вас такие? – эту фразу мы с Танькой слышали от разных людей не раз. Причем, было непонятно, то ли нас похвалить хотят, то ли наоборот – побранить.
– Упрямые, как отец! – фыркала мама, когда сердилась на нас с сестрой.
Но едва появлялся повод для родительской гордости, как мама расплывалась в улыбке:
– А все-таки хорошие у нас девочки, все в меня!
Папа, в минуты гнева кричал, что мы такие же дурынды, как наша мать. Но стоило в каком-нибудь вопросе занять папину сторону, и его мнение о нас резко менялось.
– Моя школа! – светился от счастья он.
Вот и думай после этого, в кого мы с Танькой такие уродились.
Волки
Мама моя родилась в деревне Иваново.
Когда младшая дочь появилась на свет, бабушка по деревенским меркам считалась уже старой – 33 года. Но дед очень хотел сына, и она решила беременность сохранить.
С сыном не получилось, Бог снова послал им девочку – Ангелину.
Мама росла хилым и болезненным ребенком. Часто простужалась, подолгу лежала в больницах – то с ангиной, то с ревматизмом. Однажды даже пропустила учебный год.
Ей было пять месяцев, когда дед приехал за ней и бабушкой в город на лошади.
Зима, мороз минус тридцать, темнеет рано, а путь до Иваново не близкий. Да еще дед, как на грех, явился в больницу навеселе, уже успел отметить где-то выздоровление дочки.
Бабушка потеплее укутала маму в одеяло, прижала ее к груди и, завернувшись в широкий овчинный тулуп, села в сани. Едут. Сумерки, скрип полозьев, убаюкивающее покачивание младенца на руках – бабушка сама не заметила, как задремала и выпала из саней где-то на полпути между городом и деревней. Дед пропажу обнаружил только дома. И то лишь, когда прабабка Матрена вышла навстречу с фонарем и, увидав пустые сани, воскликнула:
– Слав, а Люда-то с Гелей где? В больнице, что ли, остались?
Весь хмель из дедовой головы выветрился в ту же секунду. Он развернул лошадь и помчался обратно во весь опор.
А бабушка в это самое время, выбиваясь из сил и увязая по пояс в снегу, брела по санному следу, сжимая в руках крошечного ребенка.
Сзади мелькнули зеленые огоньки. Много. Очень много. Они приближались.
Вот уже слышен леденящий душу вой. Волки! Кричать? Бесполезно. До деревни далеко, никто не услышит. Бабушка уже было распрощалась с жизнью, но на ее счастье мимо проходил на лыжах припозднившийся охотник. Заметив одинокую фигуру, он остановился, взял у бабушки пищащий сверток и пошел вперед.
Бабушка двинулась за спасителем следом. А тут и дед на лошади подоспел.
Зеленые огоньки исчезли, сгинули во мгле.
Самая умная
В юности дед с бабушкой учились в одном сельскохозяйственном техникуме.
Статный чернобровый юноша с разноцветными глазами – один карий, другой голубой, считался на курсе первым красавцем. Многие девушки хотели с ним дружить, но дед кроме Людмилы, казалось, никого не замечал.
Люда была чуть старше Славы и не блистала особой красотой. Худенькая, темненькая, весь нос в веснушках. Чем она приглянулась избалованному девичьим вниманием парню, история умалчивает, но злые языки утверждали, что Людка Славку приворожила.
Сама бабушка уверяла, что женские чары тут ни при чем, и дед выбрал ее, потому что она была лучшей ученицей и старостой группы. Да, не красавица, зато умница!
На третьем курсе, в 1943 году, деда забрали на фронт. Бабушка осталась в тылу.
Потом была война с японцами. Слава служил пограничником на Дальнем Востоке, там его и завербовали в МГБ. На родину он вернулся нескоро. А когда вернулся, устроился в Глазове на военный завод и был у начальства на хорошем счету, пока не проштрафился.
Дело было так: он возвращался навеселе с какого-то праздника, и чтобы побыстрее добраться домой, поймал попутку. Шофер везти пьяного попутчика отказался.
«Ах так?» – дед выхватил из кобуры наган и пригрозил, что прострелит тому башку.
Испугавшись, водитель все же посадил бузотера в машину, но потом куда следует донес, и деда из органов выгнали.
В 1950 году, окончив техникум и получив диплом, дед уехал в Иваново, где его любимая Людочка Дерендяева работала агрономом. Возглавил колхоз. Молодые поженились.
Правда, когда в местном магазине освободилось место продавца, бабушка из агрономов ушла. Была в ней коммерческая жилка наряду с деревенской хитростью и смекалкой. Она так умела вести дела, что комар носу не подточит. Хвалилась:
– Ни одна ревизия ко мне не подкопается! Любого вокруг пальца обведу!
Девять камушков
Однажды маленькая Геля пришла к матери в магазин.
Увидала на прилавке кулек своих любимых шоколадных конфет «Мишка на севере». Дай, думает, съем одну, не убудет. Съела конфетку, за ней другую, третью.
Опомниться не успела, как кулек опустел, остались одни фантики. Испугалась.
Но матери побоялась признаться. Выбежала на улицу, набрала камушков с земли, завернула в фантики, сунула в кулек, а кулек положила на место.
Мать, которая о подмене была ни сном, ни духом, конфеты продала.
А вечером к ней в магазин явились рассерженные покупатели. Ты зачем, кричат, трам-тара-рам, камнями вместо конфет торгуешь?
Ну и досталось Гельке дома на орехи! Одно дело ревизоров дурить, – учила ее уму-разуму моя бабушка. – Другое – покупателей обманывать. Соображать же надо!
Заначка
В шесть лет мама совершила еще одно страшное преступление – стащила из магазинной кассы пятьдесят копеек. Потом рубль. Потом еще один. И еще.
Уж очень ей хотелось заиметь новенький велосипед ко дню рождения.
Главное, рассказывает, стяну монетку, а потом хожу, от страха трясусь. Не за себя – за маму. Вечерами расспрашиваю ее осторожно:
– Мам, а тебя не посадят?
Та удивляется:
– За что?
– За недостачу…
Бабушка смеется:
– Дочка, какая недостача? У меня их отродясь не было!
А ведь я, вспоминала мама, к тому времени перетаскала у нее из кассы рублей пятнадцать. Огромные деньжищи по тем временам! Пусть не зараз, но все-таки.
Как такую сумму не заметить?
Как бы там ни было, но мама находилась вне бабушкиных подозрений.
Вот только краденое богатство ей впрок не пошло. Копилку – ржавую консервную банку из-под кофе нашел в гараже дед. Обрадовался: о, чья-то заначка! И на радостях прогулял все деньги с дружками.
Так что велосипед у мамы появился только в восьмом классе.
Лайка и ревизор
В Иваново в семье деда и бабушки жила дворняга по кличке Лайка.
Очень умная и сообразительная собака, она сторожила двор. Целыми днями лежала под крыльцом, вроде как спит – не видно ее, не слышно.
На самом деле Лайка не спала, а все прекрасно видела, слышала и запоминала.
Если во двор входил посторонний, собака даже ухом не вела, но незаметно выйти чужаку уже не позволяла – она просто-напросто не выпускала его за калитку до прихода хозяев.
Однажды в магазин приехал ревизор из райпотребсоюза. После проверки бабушка пригласила почетного гостя в дом, на чашку чая.
На лайку, лежащую под крыльцом, ревизор даже не обратил внимания.
Зато собака, как выяснилось позже, сразу взяла его на заметку. И когда тот вечером спускался по лестнице, выскочила из укрытия и молча вцепилась в ревизорскую штанину зубами. Изорвала в клочья! Бедолага убежал домой в одних подштанниках.
Ох, сдается мне, бабушка это нарочно подстроила!
Закурим?
Мама и ее подружка решили тайком покурить.
Геля много раз видела, как курит отец – берет папиросу, сует в рот и поджигает.
Девчонки раздобыли по беломорине, спрятались на заднем дворе, сунули папиросы в рот, подожгли. От дыма во рту стало горько. Из глаз брызнули слезы. Стоят, плюются, кашляют. Оказалось, не тем концом прикурили!
С тех пор мама больше никогда не притрагивалась к сигаретам, отшучивалась, что в детстве напробовалась с лихвой.
Только однажды, когда мне было лет шесть, папа уговорил маму разочек затянуться.
Как же я за нее испугалась! В жизни не видала курящих женщин, а тут моя мама! Что, если она заболеет и умрет? Я заплакала: мамочка, пожалуйста, не кури!
