Моральные размышления о старости, о дружбе, об обязанностях
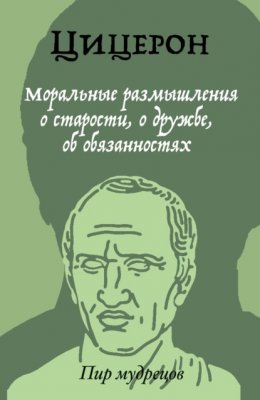
MARCUS TULLIUS CECERO
CATO MAIOR
DE SENECTUTE
LAELIUS DE AMICITIA
DE OFFICIIS
Перевод с латинского В. Петухова, В. Горенштейна
Вступительная статья Л. В. Маркова
© Марков А.В., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Влюбленный в бессмертие: Цицерон как моральный философ
Цицерону поднесли чин «отца отечества» и приставили к нему человека с флейтою.
Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»
Марк Туллий Цицерон был совершенным оратором не благодаря лишь отточенным фразам, запоминающимся формулировкам или плавному изяществу речи – конечно, можно назвать и это ораторским совершенством, но с оговорками, что вспыхивало оно не раз и до, и после Цицерона, и что оно может как в зерне заключаться в отдельной поэтической строчке, а не только в большой речи или трактате. Победа Цицерона в соревновании ораторов всех веков обязана полноте его ставок: каждую речь он говорил как последнюю, от которой зависят и судьбы человека и судьбы Рима. Одна только история: Тит Анний Милон, бывший претор, обвиненный в убийстве Публия Клодия Пульхра, перешедшего из патрициев в плебеи карьериста-популиста, сначала сам прочел речь в защиту себя. Цицерон Клодия ненавидел; зато его любил поэт Катулл, влюбленный в его сестру Клодию, названную им Лесбией, – равное количество слогов позволяло посвященным подставлять в стихи ее имя – и Катулл поэтому невзлюбил Цицерона, обозвав его «лучшим всех адвокатом»: слово «всех» сразу относится к двум словам, и получается, что Цицерон хочет быть лучше всех, а в результате заступается за кого попало. Защитить себя не удалось: стычка на суде между сторонниками обвинения и сторонниками защиты заставила Милона бежать, переодевшись в рабскую одежду. Начались беспорядки по всему Риму, и Милон уже был привлечен к настоящему суду, выступил Цицерон, но неудачно – вероятно, потому что ему было отведено меньше времени, чем он просил. Милон был отправлен в изгнание в Массилию, нынешний Марсель, но потом не раз перечитывал речь Цицерона и так восхищался ею, что говорил, что сама речь устроена так, что во всех случаях привела бы к его оправданию. Для нас эта логика непонятна: мы привыкли, что риторика приспосабливается к обстоятельствам, а здесь обстоятельства приспосабливаются к риторике. Для нас риторика – лишь эпизод политической жизни, а здесь политическая реальность оказывается лишь необязательным эпизодом риторики. В этом смысл шутки русских авторов «Сатирикона», вынесенной в эпиграф: в труде «Об ораторе» Цицерон доказывал, что оратор не может без публики, как флейтист без флейты – имея в виду, что ему не только надо исполнить свое произведение, но хотя бы на миг утешить свою душу, и тогда всеобъемлющая гармония публики и оратора, эта игра тонкой флейты, сделает всю политику лишь рядом необязательных эпизодов.
История европейской культуры чаще была сопротивлением Цицерону, чем подражанием ему. Эразм Роттердамский в диалоге «Цицеронианец» (1528) высмеял интеллектуала, выучившего наизусть всего Цицерона и весь дом уснастившего его драгоценными портретами, чтобы видеть кумира даже во сне. Собеседник заметил, что если каждую ночь из года в год цицеронианец занимается исключительно текстами Цицерона, то пока он стремится уподобиться оратору, жена родит детей от кого-то совсем не подобного ему. Родовитость книжная, культурная генеалогия, резко дискредитирована: гармония книг и публики разрушена вторжением неприглядной жизни. Совершенная уже карикатура на Цицерона – явленный просвещенным читателям в середине XVIII в. Тристрам Шенди Стерна – резонер, не понимающий, сколь неуместны его стройные рассуждения.
Такое сопротивление Цицерону началось еще при жизни, Плутарх сообщает, как Марка Туллия все обвиняли в неумеренном бахвальстве. И оно же продолжалось потом из века в век: Петрарка был разочарован суетливостью его писем, разрушающих монументальный образ государственной мудрости, а Монтень говорил, что Цицерон был «хорошим гражданином», но не «выдающейся душой». В чем-то это сопротивление Цицерону напоминает сопротивление Пушкину в русской культуре: что Пушкин слишком «антологичен», слишком гармоничен, что он тоже хороший гражданин города поэзии, но не выдающаяся душа поэта-обличителя. Даже Гоголь говорил, что Пушкин устарел, потому что уже нельзя в поэзии брать «картинной личностью характера… гордостью движений своих» (как это напоминает обвинения Цицерона в тщеславии!); а затем критическая мысль научилась обходиться без Пушкина, оставив его лишь для школьной программы. Но заслужил ли Цицерон такое сопротивление?
Цицерон родился в 106 г. до н. э., в предгорном Арпино, на древних землях латинян, как и старший его на полвека полководец Гай Марий, начинатель гражданской войны 88 г. до н. э против Луция Корнелия Суллы. Цицерон, на дух не переносивший Суллу и его сторонников, всегда прославлял Мария, с которым был в свойстве (впрочем, в свойстве и с Каталиной), считая, что хотя оба полководца равно казнили соотечественников без жалости, Сулла был ленив духом, а Марий – трудолюбив и храбр в каждом поступке. Марий действительно был честен и запрещал обиду слабых: например, когда его племянника убил легионер, которому тот учинил насилие, Марий повелел полностью оправдать убийцу.
В Рим Марк Туллий попал только в 15 лет, и стал учиться сразу у многих учителей. Когда началась вышеупомянутая гражданская война, Цицерон впервые обратился к созерцательной жизни, не присоединившись ни к одной из сторон, но проводя дни и ночи за свитками, потом, после победы Суллы, он уверял власти, что просто скрывался от мобилизации сторонниками Мария. Как только в великом Городе установилось спокойствие, Цицерон начал выступать в качестве адвоката. Труд молодого адвоката не следует недооценивать, даже если в его ведении были частные иски. Дело в том, что после гражданской войны все древние роды утратили свое влияние: погибли лучшие их представители, была разрушена привычная солидарность. Выиграть судебный процесс и тем самым доказать, что справедливость на твоей стороне – значило сразу резко повысить себя в глазах Рима и мира, и может быть, приобрести то влияние, которым не обладали даже самые влиятельные предки в роду. Правда, Сулла стал с подозрением коситься на успешного адвоката, явно приобретшего политическое влияние не по возрасту, и Цицерон счел за благо опять уйти с головой в философию, на этот раз на острове Родос, глядящем на азиатский берег.
В 75 г. до н. э. Цицерон начал административную карьеру: сначала стал квестором на Сицилии, наладив экспорт хлеба в Рим, и там же приступил к расследованию дел наместника Гая Верреса, процесс против которого он на удивление всем выиграл – Верресу пришлось заплатить гигантский штраф и отправиться в изгнание. Умение быть следователем, судьей и адвокатом одновременно (конечно, по разным делам) пригодилось Цицерону не раз: в этом смысле он был уникальным, так как мог не только руководствоваться нормой закона, но и превращать свою любознательность в источник справедливых решений. В 63 г. до н. э. Цицерон стал консулом, навсегда вписав себя в большую историю Рима.
Если совсем коротко говорить о политической ситуации времен Цицерона, то кроме споров внутри города Рима, доходивших до побоищ, это была иногда скрытая, а иногда горячая «война Севера и Юга», очень похожая на знакомую нам по американской истории, но во много раз более долгая. С одной стороны, бережливый и суровый север, не допускающий никакого расточительства, берегущий общую землю и общую политическую инфраструктуру. С другой стороны, юг небольших имений, малых полей, на которых трудятся рабы, юг, которому понятна мысль отнять и поделить. В мире юга был свой сверхбогач – разоблаченный Цицероном Веррес, наместник на Сицилии из воспитанников Суллы, в пиратской земле превзошедший пиратов своими аппетитами. Другая знаменитость, Спартак, человек несомненного личного мужества, был не просто предводителем недовольных рабов, которым нечего терять, как многие думают, а вождем Юга: его охотно поддерживали все, кто надеялся что-то получить с этого грабительского похода рабов. И Катилина, которого Цицерон сравнивает со Спартаком, был сообщником многих южан и продолжателем дела первого римского «пожизненного диктатора» Суллы – именно воспитанники его диктатуры, основанной на проскрипциях и распределении отнятого, стали ядром заговора Катилины.
Понятно, почему героями диалогов «О старости» и «О дружбе» (еще Аристотель считал дружбу антонимом сговора) становятся Катон и Лелий, хотя Цицерон родился на два десятилетия позже кончины Лелия, впрочем, мог быть важен пример Платона: среди его диалогов есть пересказы Сократом разговоров, случившихся двумя поколениями ранее. Катон был не только словесным разрушителем Карфагена, но и самым известным сторонником рационального землепользования, а Лелий представлял кружок Сципиона Африканского, молодых аристократов-реформаторов, в котором постоянно планировались какие-то реформы, но никогда не реализовывались как задумывались – Лелий задумал аграрную реформу, но потом отказался от нее, понимая, какой ущерб она нанесет Риму.
Наставником этого аристократического кружка был Панетий Родосский, жрец храма Посейдона в Линдосе над синеющим обрывом. Панетий, представлявший философию стоицизма, учившую терпению и бесстрастию, присоединился к малоазиатскому посольству Сципиона в 139 г. до н. э. и перебрался в Рим. Цицерон сам учился философии на Родосе, скрываясь там от Суллы и его сторонников до смерти последнего в 82 г. до н. э. Имя Панетий означает «Причина всему», и как прилагательное из двух корней оно одинаково звучит в мужском и женском роде. В византийской гим-нографии, когда сложносоставные слова одновременно догматизировались и поэтизировались (ну как если бы у нас бюрократизм вроде «крупный рогатый скот» стал бы предметом высоких отвлеченных размышлений о величинах и о сходстве и несходстве живого), Бог стал называться «всепричинным началом» с этим прилагательным.
Стоицизм в Риме появился, впрочем, поколением раньше, благодаря Кратету Маллосскому из Пергама, астроному и грамматику, которого царь Аттал, сын царя Аттала Спасителя и основатель Атталии, нынешней курортной Антальи, отправил послом в Рим. Кратет, непривычный к римским отхожим местам, провалился в яму, переломал ноги и, обездвиженный, вынужден был открыть свою школу, где наставлял римлян правильно строить трактаты и рассуждения. Но Панетий обучал не просто философствовать, а систематически изучать природу и приводить примеры из разных наук, подтверждающие моральную правоту выступающего.
Главный труд Панетия назывался «Об обязанностях», откуда и название трех книг Цицерона, вероятно, представляющих собой мастерский «ремейк» первоисточника: как если бы греческий фильм пересняли в Голливуде. Под «обязанностями» он имел в виду не совсем то, что мы сейчас вкладываем в это слово, рассуждая об обязанностях как заранее взятых однократных или рутинно повторяющихся обязательствах. Скорее, это надо было бы переводить как «должное», имея в виду не только долг перед друзьями, родителями или обществом, но и долг перед собой. Слово «обязанность» мы можем произносить с легким отвращением, но слово «должное» – скорее, с удовлетворением. «Так должно быть» и «я повел себя должным образом» – и целью Панетия было доказать, что «должное» в природе и в моральной сфере одинаково проистекают не из социальных ситуаций, а из стремления к удовлетворению и даже удовольствию.
Цицерон называл написание таких трудов словом «досуг», имея в виду вовсе не то, что трактаты требуют меньших усилий, чем ораторская или политическая деятельность, но что их создание – философское занятие, следующее из созерцательного образа жизни. Написанию трактатов предшествовали драматические события: в 60 г. до н. э. по иску насмерть обиженного на него Клодия, но на самом деле с одобрения Цезаря, пришедшего тогда к власти вместе с Помпеем и Крассом, Цицерон был осужден. Дело в том, что Цезарь хотел видеть Цицерона своим помощником, обещая ему безопасность в обмен на дипломатические услуги. Цицерон не против был быть дипломатом, но против таких сделок, и Цезарь это сразу почувствовал. Марк Туллий был приговорен к изгнанию за пределы Италии, а его усадьбы сровняли с землей как оскорбляющие государство строения. Часто Цицерона обвиняют в малодушии: он готов тогда, дескать, был бросаться в ноги каждому встречному, кто может за него заступиться. Однако нужно понять, что такая интрига, в которой не только патрицианские роды торгуются и враждуют, но и сама власть с собой торгуется и против себя враждует, была ему непривычна и унизительна – он, можно сказать, впервые разочаровался не в людях, а в государстве. В 57 г. до н. э. Клодий рассорился с Помпеем, и последний помиловал Цицерона. Ему сразу за счет казны отстроили все его усадьбы, но Цицерон был по-прежнему настолько подавлен, что не хотел возвращаться в политику. Он удаляется в одну из усадеб, где пишет первые философские труды.
В 51 г. Цицерону пришлось вернуться во власть, но уже в качестве полководца: он успешно подавил мятеж в Каппадокии, получил звание «императора» (мы бы сказали, орденоносного маршала). Выполняя многие поручения Помпея, он был разочарован его нерешительностью, считая, что Цезарь постепенно превращается в единовластного правителя из-за нехватки мужества у Помпея. Когда между Цезарем и Помпеем началась гражданская война, Цицерон сначала уехал в имение, вновь занявшись философией, потом оказался в лагере Помпея, надеясь своим красноречием создать там настоящий штаб, который возьмет власть над всеми провинциями, и к счастью, после проигрыша Помпея, был помилован Цезарем, снова удалившись в другое имение и вновь занявшись философской работой, включая переводы с греческого. Так, Цицерон перевел «Тимей» Платона, самый необычный по образности диалог, которым завершали обучение платонизму: перевод этот иногда напоминает пересказ, иногда, напротив, поражает выразительной основательностью. Важно, что Цицерон исходил из той предпосылки, которую открыто высказал в трактате «О гадании»: греческий язык слишком мелодраматичен, тогда как латинский точен и почтителен, богопочитание вписано в сам язык, где много хороших слов для разного «уважения», «внимания» и «поклонения», поэтому римлянам и пристало переводить такие вещи, как «Тимей», созерцающие божественное устройство космоса.
Хуже пришлось Цицерону с установлением второго триумвирата. Марк Антоний ненавидел его и за расправу с Клодием, и за гибель сторонников Суллы, они же сторонники Катилины, и за дружбу с убийцей Цезаря Брутом, и искал возможности казнить Цицерона. Марк Туллий, опасаясь наемных убийц, удаляется в еще одну усадьбу, самую живописную, где и завершает диалог «О старости» (начатый, вероятно, под впечатлением от убийства Цезаря) и пишет диалог «О дружбе» и три книги «Об обязанностях».
Задача диалога «О старости» – показать старость в окружении молодежи, доказав, что старость – вовсе не возраст бессилия и увядания, а возраст руководства, стратегического мышления и уверенного знания вещей, не смущаемого ни юношеской неуверенностью, ни порой поверхностным взглядом на вещи в зрелости. Говорят, что старики слабы? Но именно в старости они не совершают лишних движений и принимают поэтому самые основательные и убедительные для всех решения. Говорят, что старики забывчивы? Но ведь в старости они подводят итоги прочитанному и прожитому, разгадывают все жизненные загадки, и поэтому вспоминают то, что никогда не вспомнит легкомысленный юноша или хлопотливый зрелый человек. Говорят, что старики скучны? Но только старики умеют ценить и каждый миг жизни и понимать настоящий, полновесный смысл любого удовольствия и любой веселости. Проповедником старости в диалоге становится суровый Катон Старший, запомнившийся современникам как воспитатель целого поколения римских политиков, – для него было важно, чтобы молодые политики находились рядом со старыми, перенимая и их манеры, стать, речь и образ мыслей. Идеи трактата мы явно находим в изображении «трех возрастов» в европейской ренессансной живописи: юность еще слепа (у Джорджоне она не может без шпаргалки, а у Тициана представлена вообще закрывшими глаза младенцами), руководствуется только чутьем, а не разумом, зрелость слишком самодовольна, а вот задумчивая старость дает себе и зрителю полный отчет. На картине «Три мудреца» Джорджоне мы тоже замечаем три возраста, и старик не случайно астроном – знаток всех звезд и всего мироздания, а не только отдельных явлений или отдельных закономерностей.
В диалоге «О дружбе» кроме Лелия участвуют два его зятя, с одним из которых, Квинтом Муцием Сцеволой, Цицерон в молодости очень дружил. Опыт дружбы со старшим товарищем отразился и в идеях трактата. Представление о дружбе как о высочайшем состоянии свободного человека восходит к «Никомаховой этике» Аристотеля: свободный человек принимает все решения самостоятельно, поэтому в своем мнении не зависит от других людей, он сам знает, какое счастье для него будет всегда уместно, в отличие от рабов, которые умеют только вступать в сговор. Но не нуждаясь ни в мыслях, ни в эмоциях, черпая их все из философского созерцания, он нуждается в друге, который станет зеркалом его предельного предназначения: ведь свободный человек должен уметь пожертвовать собой ради родины, а друг, готовый жертвовать собой ради друга, отдающий свое время и имущество ради него – зеркало уже не характера, а предназначения.
В сравнении с Аристотелем, Цицерон смягчает тон. Для него дружба возможна между разными людьми, и в ней важно не предельное предназначение человека, а умение друзей подбадривать друг друга, спасать от упадка сил. Дружба для него – изобилие природной уместности: как солнце всех согревает, так и дружба радует всех на свете. Дружба для Цицерона – дело не столько высшего благородства, сколько справедливости: друг устыдится просить у друга совершить несправедливый поступок. Нужно заметить, что грек Плутарх был в этом вопросе ближе Цицерону, чем Аристотелю: он с негодованием сообщает, как радикальный политик Гай Блоссий на допросе сказал, что он бы послушался приказа своего друга Тиберия Гракха, даже если бы тот приказал сжечь Капитолий. Цицерон и Плутарх действуют в мире партийной политики, и новое понимание дружбы как запрета на недолжное должно не отменить, но дополнить старое.
Три книги «Об обязанностях» обращены к сыну Марку, тогда учившемуся в Афинах. В нем на множестве примеров разбирается не то, как понимать справедливость или честность, но как быть справедливым и честным в самых сложных ситуациях. Каждый знает, что такое справедливость в экономике или даже в политике; иногда знает, что вести здоровую жизнь – справедливо по отношению к своему телу. Но как понять справедливость вообще? Сократ у Платона в таких случаях показывал, что ресурсов нашей речи недостаточно для создания отвлеченных понятий, и поэтому нужна особая влюбленность в знание, чтобы оно, ответив на твою любовь, стало бы знанием, проверившим саму нашу природу: ведь любить – заложено в ней самой. Цицерон идет по другому пути: он ищет не созидательной любви, но формулы, которая соединяет в человеке уже готовые свойства: например, мудрость, честность и благоговение. Как это отличается от более чем неточной и оскорбительной формулы русской культуры, дескать, русские люди могут быть скорее святыми, чем честными и здравомыслящими. Для Цицерона сама логика поступков рано или поздно потребует от честного человека быть святым, и от святого быть здравомыслящим. По сути, перед нами одновременно первый экзистенциальный и первый феноменологический трактат: как именно можно состояться в качестве человека, в самом своем существовании осуществившим все собственные свойства, но и как провести «редукцию» готовых форм мудрости или смелости, чтобы получить угодную человеческой природе «обязанность».
После написания трактатов Цицерон прямо обличает Антония и, в 43 г. до н. э., бежит, чтобы сесть на корабль, направляющийся в Грецию, но посланные Антонием убийцы застают оратора в дороге и отрезают ему голову, дабы доставить Антонию. Третья супруга Антония Фульвия, бывшая жена много раз помянутого Клодия, с которой Антоний прожил в три раза больше, чем с пятой и последней супругой царицей Клеопатрой (впрочем, родившей ему до его самоубийства троих детей, в отличие от Фульвии, родившей только одного), с удовольствием втыкала булавки в омертвевший язык Цицерона. Художник П.А. Сведомский, родом из знаменитых владельцев Михайловских заводов в Пермской губернии, изобразил утехи Фульвии на большом живописном полотне (1898). После самоубийства Марка Антония постановлением сената имя Марк навсегда было исключено из рода Антониев: так окончательно победило дело Цицерона, утверждавшего, что у несправедливости не должно быть имен, а имена пусть будут только у справедливости. Так мнимая хлопотливость Цицерона оказалась формой дружбы со всеобщей истиной.
Для русского читателя имя Цицерона прежде всего ассоциируется с великим стихотворением Ф.И. Тютчева:
- Оратор римский говорил
- Средь бурь гражданских и тревоги:
- «Я поздно встал – и на дороге
- Застигнут ночью Рима был!»
- Так!.. Но, прощаясь с римской славой,
- С Капитолийской высоты
- Во всем величье видел ты
- Закат звезды ее кровавый!..
- Счастлив, кто посетил сей мир
- В его минуты роковые!
- Его призвали всеблагие
- Как собеседника на пир.
- Он их высоких зрелищ зритель,
- Он в их совет допущен был —
- И заживо, как небожитель,
- Из чаши их бессмертье пил!
Это стихотворение не просто о славе, достигнутой Цицероном в самые сложные и кровавые годы жизни Рима. Это стихотворение о почитании всеблагих, которое Цицерон проповедовал в каждом своем трактате: нужно хотя бы немного быть почтительным и доверчивым, чтобы не стать игрушкой в чужой политической игре. Недоверчивый человек сразу хочет прильнуть к готовым решениям, а человек доверчивый всегда чувствует себя у себя дома – и разрушившие его дом всегда восстановят его, так что он, прежде по ночам читавший философские свитки до кровавых слез, выпьет из чаши морального бессмертия. Примеры в его диалогах и трактатах окажутся «высокими зрелищами», любой диалог станет пиром как «Пир» Платона, а моральная беседа в старости о дружбе по обязанности – советом богов, познавших себя в любви и благоговении.
Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ,
в. н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова,
8 марта 2018 г.
Моральные размышления
О старости
(Катон Старший)
[Первая четверть 44 г.]
- (I, 1)Тит мой, если тебе помогу и уменьшу заботу —
- Ту, что мучит тебя и сжигает, запав тебе в сердце,
- Как ты меня наградишь?
Ведь мне дозволено обратиться к тебе, Аттик, с теми же стихами, с какими к Фламинину обращается
- Тот человек, что был небогат, но верности полон.
Впрочем, я хорошо знаю, что ты не станешь, подобно Фламинину,
- Так терзать себя, Тит, и денно и нощно заботой.
Ведь я знаю твою умеренность и уравновешенность, а то, что ты привез из Афин не только прозвание свое, но и просвещенность и дальновидность, хорошо понимаю. И все-таки я подозреваю, что тебя иногда чересчур сильно волнуют те же обстоятельства, какие волнуют и меня самого, но найти утешение от них довольно трудно, и это надо отложить на другое время.
Но теперь мне захотелось написать тебе кое-что о старости. (2) Ведь общее бремя наше – старость, уже либо надвигающуюся на нас, либо, во всяком случае, приближающуюся к нам, я хочу облегчить тебе, да и самому себе. Впрочем, я твердо знаю, что бремя это, как и все остальное, ты несешь и будешь нести спокойно и мудро. И вот, когда я думал написать кое-что о старости, то именно ты представлялся мне достойным этого дара, которым мы оба могли бы пользоваться сообща. Для меня лично создание этой книги было столь приятным, что оно не только сняло с меня все тяготы старости, но даже сделало ее тихой и приятной. Следовательно, нам никогда не восхвалить достаточно достойно философию, повинуясь которой человек может в любом возрасте жить без тягот.
(3) О других вопросах я говорил уже немало и буду говорить еще не раз; но в этой книге, которую я тебе посылаю, речь идет о старости, причем всю беседу я веду не от лица Тифона, как поступил Аристон Кеосский (ведь сказание едва ли показалось бы кому-нибудь убедительным), а от лица старика Марка Катона, чтобы придать своей речи бо́льшую убедительность. Рядом с ним я изображаю Лелия и Сципиона, удивляющимися тому, что Катон переносит старость так легко, а его – отвечающим им. Если покажется, что он рассуждает более учено, чем обыкновенно рассуждал в своих книгах, то припиши это влиянию греческой литературы, которую он, как известно, в старости усердно изучал. Но к чему много слов? Ведь речь самого́ Катона разъяснит тебе все то, что я думаю о старости.
(II, 4) Сципион. – Вместе с присутствующим здесь Гаем Лелием я очень часто изумляюсь, Марк Катон, как твоей выдающейся и достигающей совершенства мудрости, так особенно тому, что я ни разу не почувствовал, что тебе тяжка старость, которая большинству стариков столь ненавистна, что они утверждают, что несут на себе бремя тяжелее Этны.
Катон. – Вы, Сципион и Лелий, мне кажется, изумляетесь не особенно трудному делу. Тем людям, у которых у самих нет ничего, что позволяло бы им жить хорошо и счастливо, тяжек любой возраст; но тем, кто ищет всех благ в само́м себе, не может показаться злом ничто основанное на неизбежном законе природы, а в этом отношении на первом месте стоит старость. Достигнуть ее желают все, а достигнув, ее же винят. Такова непоследовательность и бестолковость неразумия! Старость, говорят они, подкрадывается быстрее, чем они думали. Прежде всего, кто заставлял их думать неверно? И право, как может старость подкрасться к молодости быстрее, чем молодость – к отрочеству? Затем, каким образом старость могла бы быть на восьмисотом году жизни менее тяжкой, чем на восьмидесятом? Ибо, когда годы уже истекли, то – какими бы долгими они ни были – неразумной старости не облегчить никаким утешением. (5) И вот, если вы склонны изумляться моей мудрости, – о, если бы она была достойна вашего мнения и моего прозвания! – то я мудр в том, что следую природе, наилучшей руководительнице, как бы божеству, и повинуюсь ей; ведь трудно поверить, чтобы она, разграничив прочие части жизни, могла, словно она – неискусный поэт, пренебречь последним действием. Ведь что-то должно прийти к концу и, подобно ягодам на кустах и земным плодам, вовремя созрев, увянуть и быть готовым упасть. Мудрому надо терпеть это спокойно. И право, разве это сопротивление природе не похоже на борьбу гигантов с богами?
(6) Лелий. – Но все-таки, – говорю это и от имени Сципиона, – так как мы надеемся и, несомненно, хотим дожить до старости, то нам будет очень по сердцу, если ты, Катон, заблаговременно нас научишь, как нам будет легче всего нести все увеличивающееся бремя лет.
Катон. – Да, я сделаю это, Лелий, тем более что, как ты говоришь, это будет по сердцу вам обоим.
Лелий. – Конечно, мы хотим этого, если только тебе, Катон, не будет в тягость взглянуть на то, чего ты достиг, пройдя, так сказать, длинный путь, вступить на который предстоит и нам.
(III, 7) Катон. – Сделаю это как смогу, Лелий! Ведь я часто слышал жалобы своих ровесников (равные с равными, по старинной пословице, очень легко сходятся); так, консуляры Гай Салинатор и Спурий Альбин, можно сказать, мои однолетки, не раз оплакивали и то, что они лишены плотских наслаждений, без которых для них жизнь не в жизнь, и то, что ими пренебрегают те, от кого они привыкли видеть уважение; мне казалось, что они жаловались не на то, на что следовало жаловаться; ибо если бы это происходило по вине старости, то это же постигло бы и меня и всех других людей преклонного возраста; между тем я знаю многих, кто на старость не сетует, освобождением от оков страстей не тяготится и от пренебрежения со стороны родных не страдает. Нет, причина всех подобных сетований – в нравах, а не в возрасте; у стариков сдержанных, уживчивых и добрых старость проходит терпимо, а заносчивый и неуживчивый нрав тягостен во всяком возрасте.
(8) Лелий. – Это верно, Катон! Но, быть может, кто-нибудь мог бы сказать, что тебе, ввиду твоего могущества, богатства и высокого положения, старость кажется более сносной, но что это не может быть уделом многих.
Катон. – Это, конечно, имеет некоторое значение, Лелий, но далеко не в этом дело. Так, Фемистокл, говорят, в жарком споре с неким серифинянином, когда тот сказал, что Фемистокл достиг блестящего положения благодаря славе своего отечества, а не своей, ответил ему: «Ни я, клянусь Геркулесом, будь я серифинянином, ни ты, будь ты афинянином, не прославились бы никогда». Это же можно сказать и о старости: с одной стороны, при величайшей бедности, старость даже для мудрого быть легкой не может; с другой стороны, для человека, лишенного мудрости, она даже при величайшем богатстве не может не быть тяжкой. (9) Поистине самое подобающее старости оружие, Сципион и Лелий, – это науки и упражнение в доблестях, которые – после того, как их чтили во всяком возрасте, – приносят изумительные плоды после долгой и хорошо заполненной жизни, и не только потому, что они никогда не покидают человека даже в самом конце его жизненного пути (хотя это – самое главное), но также и потому, что сознание честно прожитой жизни и воспоминание о многих своих добрых поступках очень приятны.
(IV, 10) Что касается меня, то Квинта Максима (того, который вернул нам Тарент) я в молодости уже старика любил как своего ровесника; этому мужу была свойственна строгость, соединенная с мягкостью, и старость не изменила его нрава. Впрочем, когда я проникся уважением к нему, он еще не был очень стар, но все-таки уже достиг преклонного возраста; ведь он впервые был консулом через год после моего рождения, и вместе с ним – уже консулом в четвертый раз – я, совсем молодой солдат, отправился под Капую, а через пять лет – под Тарент; затем, через четыре года, я был избран в квесторы и исполнял эту магистратуру в год консулата Тудитана и Цетега – тогда, когда он, уже очень старый, поддерживал Цинциев закон о подарках и вознаграждениях. Военные действия он вел, как человек молодой, – хотя уже был в преклонном возрасте, – и своей выдержкой противодействовал юношеской горячности Ганнибала. О нем превосходно написал наш друг Энний:
Нам один человек промедлением спас государство.
Он людскую молву отметал ради блага отчизны.
День ото дня всё ярче теперь да блестит его слава!
(11) А Тарент? Какой бдительностью, какими мудрыми решениями возвратил он его нам! Когда Салинатор, отдавший город и засевший в крепости, в моем присутствии с похвальбой сказал: «Ведь благодаря мне ты, Квинт Фабий, возвратил нам Тарент», – он ответил, смеясь: «Конечно; не потеряй ты его, я никогда не возвратил бы его нам». Но и облеченный в тогу, он был не менее выдающимся деятелем, чем ранее был полководцем. Ведь это он, будучи консулом вторично, когда его коллега Спурий Карвилий бездействовал, оказал, насколько мог, сопротивление плебейскому трибуну Гаю Фламинию, желавшему, вопреки воле сената, подушно разделить земли в Пиценской и Галльской областях. Хотя он был авгуром, он осмелился сказать, что наилучшие авспиции – те, при которых совершается то, что совершается ради благополучия государства, а то, что предлагается в ущерб интересам государства, предлагается вопреки авспициям. (12) Много превосходных качеств знал я в этом муже, но самое изумительное то, как он перенес смерть сына, прославленного мужа и консуляра; его хвалебная речь у всех на руках. Когда мы читаем ее, то какого философа не станем мы презирать? Но он был поистине велик не только при свете дня и на виду у граждан; он был еще более выдающимся человеком в частной жизни, у себя в доме. Какой дар речи, какие наставления, какое знание древности, знакомство с авгуральным правом! Обширно было и его образование для римлянина: он помнил все войны, происходившие не только внутри страны, но и за ее пределами. Я с таким интересом беседовал с ним, словно уже тогда предугадывал, что после его кончины мне – как это и произошло – учиться будет не у кого.
(V, 13) Почему же я говорю так много о Максиме? Потому что, как вы, конечно, видите, было бы нечестиво говорить, что такая старость была жалкой. Не все, однако, могут быть Сципионами или Максимами и вспоминать о завоевании городов, о сражениях на суше и на море, о войнах, какие они вели, о своих триумфах. Также и жизни, прожитой спокойно, чисто и красиво, свойственна тихая и легкая старость; такой, как нам говорили, была старость Платона; он умер восьмидесяти одного года, занимаясь писанием; такой была и старость Исократа, который, как он говорит, на девяносто четвертом году написал книгу под названием «Панафинейская» и после этого прожил еще пять лет. Его учитель, леонтинец Горгий, прожил сто семь лет и ни разу не прерывал своих занятии и трудов; когда его спрашивали, почему он доволен тем, что живет так долго, он отвечал: «У меня нет никаких оснований винить старость». Ответ превосходный и достойный ученого человека! (14) Ведь неразумные люди относят свои собственные недостатки и проступки за счет старости. Так не поступал тот, о ком я только что упоминал, – Энний:
Так же, как борзый конь, после многих побед олимпийских
Бременем лет отягчен, предается ныне покою…
Со старостью могучего коня-победителя он сравнивает свою. Впрочем, вы можете хорошо помнить его; ведь через восемнадцать лет после его смерти были избраны нынешние консулы – Тит Фламинин и Маний Ацилий, а умер он в год второго консулата Цепиона и Филиппа, после того как я, в возрасте шестидесяти пяти лет, громогласно и не жалея сил, выступил за принятие Вокониева закона. И вот в семидесятилетнем возрасте (ведь Энний прожил именно столько) он нес на себе два бремени, считающиеся тяжелейшими, – бедность и старость так, словно они его чуть ли не услаждали,
(15) И действительно, всякий раз, когда я обнимаю умом причины, почему старость может показаться жалкой, то нахожу их четыре: первая – в том, что она будто бы препятствует деятельности; вторая – в том, что она будто бы ослабляет тело; третья – в том, что она будто бы лишает нас чуть ли не всех наслаждений; четвертая – в том, что она будто бы приближает нас к смерти. Рассмотрим, если вам угодно, каждую из этих причин: сколь она важна и сколь оправданна.
(VI) Старость отвлекает людей от дел. – От каких? От тех ли, какие ведет молодость, полная сил? А разве нет дел, подлежащих ведению стариков, слабых телом, но сильных духом? Ничего, значит, не делали ни Квинт Максим, ни Луций Павел, твой отец, тесть выдающегося мужа, моего сына? А другие старики – Фабриции, Курии, Корункании? Когда они мудростью своей и авторитетом защищали государство, неужели они ничего не делали? (16) Старость Аппия Клавдия была отягощена еще и его слепотой. Тем не менее, когда сенат склонялся к заключению мирного договора с Пирром, то Аппий Клавдий, не колеблясь, высказал то, что Энний передал стихами:
- Где же ваши умы, что шли путями прямыми
- В годы былые, куда, обезумев, они уклонились?
И так далее – и как убедительно! Ведь стихи эти известны вам, и речь самого́ Аппия дошла до нас. И это выступление его относится к семнадцатому году после его второго консулата, а между его двумя консулатами прошло десять лет, и до своего первого консулата он был цензором. Из этого можно понять, что во время войны, с Пирром он был уже очень стар, и именно это мы узнали о нем от своих отцов. (17) Таким образом, те, кто отказывает старости в возможности участвовать в делах, не приводят никаких доказательств и подобны людям, по словам которых кормчий ничего не делает во время плавания, между тем как одни моряки взбираются на мачты, другие снуют между скамьями, третьи вычерпывают воду из трюма, а он, держа кормило, спокойно сидит на корме. Он не делает того, что делают молодые, но, право, делает нечто гораздо большее и лучшее; не силой мышц, не проворностью и не ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью, авторитетом, решениями, и старость обыкновенно не только не лишается этой способности, но даже укрепляется в ней.
(18) Или, быть может, я, который и солдатом, и трибуном, и легатом, и консулом участвовал в разных войнах, кажусь вам теперь праздным, когда войн не веду? Но ведь я указываю сенату, какие войны надлежит вести и каким образом: Карфагену, в течение уже долгого времени замышляющему недоброе, я заранее объявляю войну; опасаться его я не перестану, пока не узна́ю, что он разрушен. (19) О, если бы бессмертные боги сохранили эту пальмовую ветку для тебя, Сципион, дабы ты завершил деяния своего деда! Со дня его смерти пошел уже тридцать третий год, но память об этом знаменитом муже сохранят все грядущие годы; он умер за год до моей цензуры, через девять лет после моего консулата, во время которого он был избран в консулы вторично. И неужели стал бы он досадовать на свою старость, доживи он до ста лет? Он, правда, уже не совершал бы ни вылазок, ни бросков, не метал бы копий, не бился бы мечом, но помогал бы своим советом, здравым смыслом, своими решениями. Если бы качества эти не были свойственны старикам, то наши предки не назвали бы высшего совета «сенатом». (20) В Лакедемоне высшие магистраты называются «старцами», каковы они и в действительности. А если вы почитаете и послушаете о событиях в других странах, то узнаете, что величайшие государства рушились по вине людей молодых и охранялись и восстанавливались усилиями стариков.
- Как вашу погубили вдруг вы славную республику?
Ведь такой вопрос задают в «Волчице» поэта Невия; на него отвечают, помимо прочего, прежде всего так:
- Да вот ораторы пошли, юнцов толпа безмозглая.
Опрометчивость, очевидно, свойственна цветущему возрасту, дальновидность – пожилому.
(VII, 21) Но, скажут мне, память слабеет. – Пожалуй, если ты не упражняешь ее и если ты и от природы не сообразителен. Фемистокл помнил имена всех сограждан. Так неужели вы думаете, что у него, когда он состарился, вошло в привычку при встрече называть Аристида Лисимахом? Что до меня, то я знаю не только тех, кто жив теперь, но и их отцов и дедов и, читая надмогильные надписи, не боюсь, как говорят, «потерять память»; напротив, именно такое чтение воскрешает во мне память об умерших. Да право же, я ни разу не слыхал, чтобы какой-нибудь старик позабыл, в каком месте он закопал клад; все то, что их заботит, они помнят: назначенные сроки явки в суд, имена должников или заимодавцев. (22) А правоведы? А понтифики? А авгуры? А философы? Сколь многое помнят они в старости! Старики сохраняют свой ум, только бы усердие и настойчивость у них сохранялись до конца! И это относится не только к прославленным и высокочтимым мужам, но и к частным лицам, живущим спокойно. Софокл до глубокой старости сочинял трагедии. Так как он из-за этого занятия, казалось, небрежно относился к своему имуществу, то сыновья привлекли его к суду, чтобы – подобно тому, как, по нашему обычаю, отцам, дурно управляющим своим имуществом, пользование им запрещается, – суд отстранил его от управления имуществом как слабоумного. Тогда старик, как говорят, прочитал перед судьями трагедию, которую он, только что ее сочинив, держал в руках, – «Эдип в Колоне», и спросил их, кажутся ли им эти стихи сочинением слабоумного; после того, как он прочитал трагедию, по решению судей он был оправдан. (23) Так неужели его, неужели Гомера, Гесиода, Симонида, Стесихора, неужели тех, о ком я уже говорил, – Исократа и Горгия, неужели родоначальников философии – Пифагора, Демокрита, неужели Платона и Ксенократа, неужели впоследствии Зенона и Клеанфа или того, кого и вы видели в Риме, – стоика Диогена старость заставила умолкнуть и прекратить занятия? Не вели ли они своих занятий до конца своей жизни?
(24) Далее – оставим эти боговдохновенные труды – я могу назвать в Сабинской области римлян, деревенских жителей, своих соседей и друзей; без их участия, можно сказать, никогда не производят никаких сколько-нибудь важных полевых работ: ни сева, ни жатвы, ни уборки урожая. Впрочем, это едва ли должно вызывать удивление; ведь ни один из них не настолько стар, чтобы не рассчитывать прожить еще год; но они участвуют и в тех работах, которые, как они знают, им самим пользы уже не принесут:
- Для другого поколенья дерево сажает,
как говорит наш Стаций в «Синэфебах». (25) И действительно, земледелец, как бы стар он ни был, на вопрос, для кого он сажает, ответит без всяких колебаний: «Для бессмертных богов, повелевших мне не только принять это от предков, но и передать потомкам».
(VIII) Да и Цецилий говорит это о старике, пекущемся о будущих поколениях, лучше, чем в следующих своих стихах:
- Да видит Поллукс! Коль иной беды, о старость,
- Приход твой не несет, и вот чего довольно:
- Ведь в долгий век, чего не хочешь, видишь много,
и, быть может, и много такого, что хочешь видеть. А впрочем, с тем, чего не хочешь видеть, часто сталкиваешься и в молодости. Но вот высказывание все того же Цецилия, еще более злое:
- Я вижу, в старости всего печальней чувство,
- Что в эти лета сами мы другим противны.
(26) Скорее приятны, чем противны; ибо подобно тому, как мудрые старики наслаждаются общением с молодыми людьми, наделенными хорошими природными качествами, и более легкой становится старость тех, кого юношество почитает и любит, так молодые люди ценят наставления стариков, ведущие их к упражнениям в доблести, и я хорошо понимаю, что я не менее приятен вам, чем вы мне.
Итак, вы видите, что старость не только не пребывает в бездеятельности и праздности, но даже трудоспособна и всегда что-нибудь совершает и чем-то занята, – разумеется, тем, к чему каждый стремился в течение всей своей жизни. Так, Солон, как видим, в стихах своих хвалится тем, что он на старости лет каждый день постигает что-нибудь новое; я и сам так поступил, уже стариком изучив греческую литературу. Я взялся за нее с ненасытностью, словно стремился утолить свою давнишнюю жажду, дабы познать именно то, чем теперь, как видите, пользуюсь как примерами. Когда я услыхал, что Сократ поступил так же и стал играть на лире, то и я захотел обучиться этому же; ведь древние обучались игре на лире; но литературой я, несомненно, занялся усердно.
(IX, 27) Даже теперь я силами уступаю молодому человеку (ведь это было второе положение о пагубных последствиях старости) не больше, чем в молодости уступал быку или слону. Что у тебя есть, тем тебе и подобает пользоваться, и все, что бы ты ни делал, делать в меру своих сил. Найдутся ли слова, заслуживающие большего презрения, чем слова Милона Кротонского? Он, уже стариком, смотрел на упражнения атлетов на ристалище, затем взглянул на свои руки и, говорят, прослезившись, сказал: «А ведь они уже мертвы!» Право, не столько они, сколько ты сам, пустослов! Ведь известность приобрел не ты сам, а твои бедра и руки. Ничего подобного не говорили ни Секст Элий, ни многими годами ранее Тиберий Корунканий, ни недавно Публий Красс – люди, составлявшие законы для граждан. Между тем они сохранили свой разум до самого последнего вздоха. (28) Оратор, пожалуй, может ослабеть к старости; ведь его деятельность требует не только ума, но и голоса и сил. Правда, звучностью голоса можно блистать и в старости; сам я качества этого не утратил и поныне, а мои лета вы знаете. Но все же старику подобают спокойные и сдержанные слова; изящная и плавная речь красноречивого старика уже сама по себе находит слушателей. Если же ты сам не в силах произнести ее, то все же можешь давать наставления Сципиону и Лелию. И право, что может быть приятнее старости, окруженной вниманием юношества? (29) Неужели мы не призна́ем за старостью даже и таких сил, чтобы она могла обучать молодых людей, их воспитывать и наставлять к выполнению всяческих задач, связанных с долгом? Что может быть более славно, чем именно такая деятельность? Лично мне Гней и Публий Сципионы и два твоих деда, Луций Эмилий и Публий Африканский, казались баловнями судьбы, так как их всюду сопровождали знатные юноши, и всех наставников в высоких науках надо считать счастливыми, даже если они состарились и ослабели. Впрочем, упадок сил сам по себе вызывается пороками молодости чаще, чем недугами старости: развратно и невоздержно проведенная молодость передает старости обессиленное тело. (30) У Ксенофонта Кир, тогда уже очень старый, перед смертью сказал, что он никогда не чувствовал, чтобы он в старости стал более слаб, чем был в молодости. Сам я в детстве, помнится, видел Луция Метелла, который, будучи избран в верховные понтифики через четыре года после своего второго консулата, ведал этим жречеством в течение двадцати двух лет и даже в последние годы жизни был настолько полон сил, что ему не приходилось с сожалением вспоминать о молодости. Не буду я говорить, о себе, хотя старости это и свойственно, а нашему возрасту простительно. (X, 31) Разве вы не знаете, что у Гомера Нестор весьма часто упоминает с похвалой о своих доблестях? Ведь он видел уже третье поколение людей, и ему нечего было опасаться, что он, говоря о себе правду, покажется чересчур заносчивым или чересчур болтливым. И в самом деле, как говорит Гомер,
- Речи, из уст его вещих, сладчайшие меда лилися.
Для того, чтобы они были приятны, он не нуждался в силе тела. Да и сам знаменитый вождь Греции нигде не высказывает желания иметь десятерых воинов, подобных Аяксу, а желал бы иметь десятерых, подобных Нестору: если бы это ему удалось, то Троя – он не сомневается – вскоре пала бы.
(32) Но возвращаюсь к себе: мне уже восемьдесят четвертый год. Хотел бы я иметь возможность похвалиться тем же, чем и Кир, но все же могу сказать одно: хотя я уже не обладаю такими же силами, какими обладал тогда, когда был солдатом во время Пунической войны, или квестором во время той же войны, или консулом в Испании, или четыре года спустя, когда я как военный трибун сражался под Фермопилами в год консулата Мания Ацилия Глабриона, все-таки, как вы сами видите, старость не совсем ослабила и изнурила меня: ни Курии, ни рострам, ни друзьям, ни клиентам, ни гостеприимцам силы мои не изменяют. Ведь я никогда не соглашался со старинной и часто приводимой пословицей, советующей становиться стариком рано, если хочешь пробыть стариком долго; лично я предпочел бы прожить как старик меньше времени, а не стать стариком раньше, чем стану им в действительности. Поэтому до настоящего времени еще не нашлось человека, для которого я – если он захотел со мною побеседовать – оказался бы занят.
(33) Но, скажут мне, сил у меня меньше, чем у каждого из вас обоих. – Но ведь даже и вы не так сильны, как центурион Тит Понций. Разве он поэтому превосходит вас? Только бы каждый пользовался своими силами умеренно и тратил их, насколько может; право, он тогда не будет особенно страдать от их недостатка. Милон, говорят, вступил на ристалище в Олимпии, неся на плечах быка. Что предпочел бы ты получить в дар: такую же силу мышц или силу ума Пифагора? Словом, пользуйся этим благом, пока обладаешь им; когда же его не станет, не сожалей о нем. Или молодые люди, быть может, должны сожалеть об отрочестве, а более зрелый возраст – о юности? Жизнь течет определенным образом, и природа идет единым путем, и притом простым, и каждому возрасту дано его время, так что слабость детей, пылкость юношей, строгость правил у людей зрелого возраста и умудренность старости представляются, так сказать, естественными чертами характера, которые надлежит приобретать в свое время. (34) Ты, Сципион, думается мне, знаешь, как поступает гостеприимец твоего деда Масинисса, а ведь ему уже исполнилось девяносто лет: отправившись в путь пешком, он уже не садится на коня; выехав верхом, он уже не сходит с коня; ни дождь, ни холод не заставят его покрыть себе голову; его тело отличается необычайной сухостью; поэтому он выполняет все обязанности и дела царя. Так упражнение и воздержность могут даже в старости сохранить человеку некоторую долю его былых сил.
