Осколки великой мечты
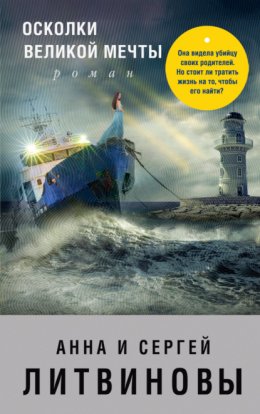
Пролог
Передачу отчего-то снимали не в телецентре, а в библиотеке пятизвездного отеля «Балчуг – Кемпински».
Запись была назначена на полдень.
Чтобы над ее лицом успел поработать гример, Нику попросили прийти в одиннадцать.
«Полдвенадцатого будет в самый раз, – решила она. – Нечего меня особо разрисовывать».
Двигаясь на малой скорости по Раушской набережной и выискивая местечко, чтобы запарковать свой объемистый «БМВ-523», она еще раз спросила себя – как спрашивала в сотый, наверное, раз за последнюю неделю, – а правильно ли она поступила, согласившись на съемку? Не будет ли ее появление перед камерами опасным? Опасным прежде всего для нее самой?
Вдруг кто-то опознает ее? Вдруг кто-нибудь – из той, другой, перечеркнутой навсегда жизни, – поймет, догадается, что она — это она?
Ника понимала, что это стало бы для нее катастрофой. Нет, пожалуй, не так, даже не катастрофой. Это означало бы полный крах.
Дом ее новой судьбы, столь старательно выстроенный – день за днем, по кирпичику, по щепочке, – рухнет в одночасье.
Да, рухнет. И ради чего? Ради сомнительного удовольствия покрасоваться воскресным утром на экране телевизора? Помаячить в «ящике» в течение двадцати шести минут (двадцать шесть минут, объяснили ей, формат передачи)? Ради того, чтобы двадцать человек (или тридцать? или пятьдесят? или сто?) сказали бы ей завтра: «Ах, Ника Александровна, мы видели вас!.. Как вы были хороши!.. Как вы смотрелись!.. Как вы держались!..»
Ей скажут комплименты – кто-то с радостным наивом, кто-то – со скрытой завистью, кто-то – с деланым восхищением. А чаще – со смесью того, и другого, и третьего… И ради этого она должна рисковать?..
Баргузинов, сукин сын, уверяет, что телеэфир поможет ее работе. Клиенты, мол, попрут вагонами – только успевай принимать нужных и отказывать ненужным… Врет он все. Ни черта они после одной передачи не попрут.
Баргузинову этот эфир не ради гипотетических клиентов нужен. Он ему нужен для удовлетворения его долбаного, гипертрофированного самомнения. Для того чтобы потешить свое тщеславие. Гордыню, выраженную в особо извращенной форме. Гордость за успех собственной гражданской жены…
Свое самолюбие она тоже – чего уж греха таить! – приятно пощекочет.
Появлением на телеэкране Ника словно бы скажет всем, кто не верил в нее, унижал ее, преследовал и охотился за ней: «Вот она я! Смотрите, где я. Смотрите, чего я достигла!»
Но… Ради мелкого тщеславия подвергать риску все то, что она сделала, построила, нажила?.. Все то, что она успела за эти годы?..
Безумие! Чистое безумие!..
Надо остановиться, пока не поздно. Остановиться, взять телефонную трубку, позвонить – и отказаться. Сказать, что заболела, уехала, улетела, умерла… И повернуть назад…
Ничего страшного – эфир не прямой. Это запись. Ей найдут замену. Но больше никогда «в ящик» не позовут. Не позовут – и черт с ними…
Рука Ники уже потянулась к мобильному телефону, но одна мысль вдруг изменила ее намерение.
Нет, даже не мысль – ощущение. Чувство.
Все будет хорошо. Она услышала эти слова так ясно, словно кто-то произнес их рядом с нею в кондиционированной прохладе машины.
Все будет хорошо.
Ника привыкла доверять своей интуиции. И в сложных, важных делах, и в житейских малостях она научилась спрашивать, как ей быть, свой внутренний голос. Очень нелегкое, кстати, искусство… И самое сложное: уметь не только спрашивать, но и услышать голос собственной интуиции. Слышать ее ответ.
И вот сейчас интуиция ясно и определенно говорила Нике: все будет хорошо. Не бойся. Все будет хорошо.
И в этот самый момент она увидела у тротуара зазор между двумя машинами. Вожделенное место для парковки.
И, повинуясь инстинкту, Ника решительно, но плавно нажала на тормоз.
Включила «аварийку». Перешла на заднюю передачу и стала парковаться – протискиваться в промежуток между стоявшими у бордюра джипом и «Волгой». Следовавшая за нею в потоке машин «девятка» покорно остановилась. Она ждала, покуда Никина антрацито-черная «бээмвуха» не закончит маневр. «Девятка» не сигналила, не мигала дальним светом. Не проявляла никаких признаков нетерпения. Все знали, что с обитателями «понтовых» иномарок на столичных улицах лучше не связываться. «Попробовала бы я перегородить движение на «Жигулях», – усмехнувшись, подумала Ника. – Такого бы о себе наслушалась!..»
Спокойно, одним движением, она припарковала машину на крошечный пятачок меж двух машин.
«Девятка» проехала мимо. Ее водитель чуть шею не свернул, глядя на блондинку с роскошными волосами за рулем «БМВ».
К Нике подскочил парковщик в зеленой форме.
– Надолго ли к нам пожаловали? – угодливо и весело спросил он.
– На пару часов, – бросила она.
– Пятьдесят рубликов.
«Девятке» бы он сказал – двадцать».
Но Ника не стала спорить, расплатилась, щелкнула центральным замком машины.
До гостиницы было два шага. Ника прошла по набережной мимо плотно запаркованных авто. Сияющий московский день середины лета озарял столичные туристические святыни, раскинувшиеся на противоположной стороне реки: собор Василия Блаженного, Спасскую башню, гостиницу «Россия». Ника свернула за угол, подошла к вертящимся дверям «Балчуга – Кемпински».
– Добро пожаловать, – поклонился ей швейцар в фуражке.
Царство комфорта и вежливости! «Воистину, – подумалось Нике, – от неизбывного московского хамства отгородиться можно только большими деньгами. Нет, даже не просто большими, а очень большими!»
В лобби гостиницы Нику уже ждала знакомая ей по пробной записи девушка из телевизионной тусовки – то ли ассистент режиссера, то ли редактор: юное, голубоглазое, напуганное существо.
– Здравствуйте, Нина Александровна! – бросилась она к Нике. – Наконец-то! Я уж боялась, что вы не придете!
– Здравствуйте, Юлечка, – молвила Ника, не снисходя до оправданий за свое более чем получасовое опоздание. Добавила усмешливо: – Неужели у вас все готово?
– Мы чуть-чуть запаздываем, – смешалась красна девица. – Но самую малость. И гример вас уже давно ждет. Пойдемте скорее.
Девушка бросилась к лифтам, Ника не спеша последовала за ней. Она уловила взгляды двух мужчин, сидевших на диванчике за чашкой кофе. Взгляды их были одобрительно-оценивающие. Они признали ее за свою. Они заценили и Никин наряд от Готье, и ее социальный статус, и ее саму. В их глазах даже мелькнула некая тень вожделения.
Эти мужские взоры дорогого стоили. Мужиков, собирающихся в лобби «Балчуга» за чашечкой пятидолларового кофе, столь сильно занимали бизнес и политика (или жгучая смесь того и другого), что они обычно не замечали даже самых расфуфыренных, супердлинноногих моделей. Тех, кто специально, в надежде подцепить богатого бойфренда, приходил в эту обитель богачей и титанов.
Ника послала мужчинам ласково-снисходительную полуулыбку.
Сопровождающая ее девица специальной карточкой открыла один из лифтов и уже ждала Нику в блистающей кабине.
Лифт мягко вознес их на шестой этаж. Ласково дзынькнул колокольчик, извещая о прибытии.
– Пойдемте сразу в гримерку, – торопливо проговорила сопровождающая.
Телевизионная гримерная была оборудована в женском туалете. Гримерша усадила Нику в кресло, набросила на ее плечи простынку, профессионально цепко осмотрела в зеркале ее лицо.
– Все недурно… – себе под нос пробормотала она, завершив осмотр. – Все очень даже недурно… Сейчас только пройдемся тоном – и хватит…
«А кто бы сомневался, что недурно», – про себя усмехнулась Ника.
– Ах да, – будто бы вспомнила гримерша, – вы же та самая Ника Колесова из «Красотки»?
– Та самая.
– Говорят, у вас Алла Борисовна бывает?.. – полюбопытствовала гримерша.
– Захаживает.
– И Кристиночка?
– И Кристиночка. И даже Филипп.
– Скажите пожалуйста… – пробормотала гримерша, сосредоточенно орудуя кисточкой с тональным кремом. Временами она отступала и из-за Никиной спины оглядывала в зеркале творение своих рук.
В гримерку заглянула давешняя заполошная девица – ассистент Юлечка.
– Вы еще не готовы? Петр ждет!
Не отвечая, гримерша сделала пару последних точных движений кистью, отошла на два шага назад, полюбовалась, словно художник на свою законченную картину, и величественно сказала:
– Ну вот. Теперь идите.
– Спасибо вам, – улыбнулась Ника.
Едва дождавшись, пока «картина» встанет с кресла, Юлечка рысью понеслась по коридору.
Стараясь не спешить, Ника следовала за ней.
Когда-то, в прошлой жизни, ей доводилось бывать на телевидении, но это было настолько давно, что она уже успела забыть органически присущую всем съемкам неразбериху, тарарам и сумбур. И еще – огромное (в сравнении с теми, кто оказывается в итоге в кадре) количество людей, тусующихся вокруг. На креслах в коридоре сидело человек семь, в основном женщины. Кто это были? Ассистенты? Помрежи? Костюмеры? Курьеры?.. Все они с любопытством, уважением и завистью осмотрели проходящую мимо новую телегостью. Ника понимала, что спустя час все они о ней забудут, но в данную минуту их работа крутилась вокруг нее. Внимание десятка людей и сознание того, что она хороша, придавали Нике дополнительную уверенность в себе.
В полутемном отсеке, через который она проследовала вслед за девицей, находилась аппаратная. Три человека сидели за пультом с мониторами. Ника мимоходом поздоровалась с ними и прошла дальше, на съемочную площадку. Ее заливал беспощадно яркий свет софитов. Четыре телекамеры торчали в разных углах небольшой комнаты. Возле них скучали операторы. Под ногами змеились кабели. В центре комнаты располагались столик и два кресла из зеленой кожи. На заднем плане – книжный шкаф с массивными раритетными книгами.
«И правда – библиотека. Только не районная, а дорогая, валютная», – успела подумать Ника.
Одно из кресел пустовало – стало быть, предназначалось для нее. На другом сидел, просматривая бумаги, мужчина в рубашке поло. Ведущий. Лицо его Нике было смутно знакомо.
Мужчина оторвал глаза от бумаг, увидел ее, улыбнулся, привстал, первым протянул руку. Его рука была мощной и теплой.
– Присаживайтесь, – молвил он, улыбаясь. – Сейчас начнем.
Его профессиональная улыбка – американская, во все тридцать два зуба – казалась искренней. Твердое лицо излучало радушие.
«А в нем есть обаяние, – подумалось Нике. – То, что называется харизмой. Такое лицо мелькнет на экране – невольно на себе задержит… Переключать на другую программу не захочется… Что ж, постараюсь соответствовать его обаянию…»
Она опустилась в кресло. К ней подошел звукооператор:
– Давайте я накину вам петличку. – Он прикрепил микрофон к лацкану ее пиджака из новой коллекции Жан-Поля Готье. Пропустил под пиджаком провод, к поясу юбки прикрепил коробочку передатчика. Спросил:
– Удобно?
– Да, вполне.
Нике казалось, что она совсем не волнуется. Все было чудно и интересно. Давешние страхи, охватившие ее в машине – что ее вдруг кто-то опознает на телеэкране, – остались позади. Некому ее больше узнавать.
Сейчас ей больше всего хотелось одного – быть на уровне. Ника закрыла глаза, стараясь настроиться: на передачу, на невидимую волну ведущего, на незнакомую обстановку съемок.
Она искренне считала – и часто любила повторять, – что главные беды России происходят от непрофессионализма. Люди выполняют свою работу шалтай-болтай, и оттого мы, и страна в целом, и каждый в отдельности, бултыхаемся, как цветок в проруби.
Ника не могла – да и не обязана была! – переделать, переменить всю страну. Но от всех, кто был рядом с ней – Баргузинова, сына, своих работников, – она требовала четкости, умения и старания в любом деле, за какое бы они ни взялись. (Правда, ей не всегда удавалось добиться своего…) Ну а уж от самой себя она и подавно требовала всегда все делать на «отлично».
И сейчас Ника старалась настроиться на съемку. Настроиться – чтобы на экране телевизора, рядом с многоопытным ведущим, быть. Быть яркой, умной, неожиданной, веселой, интересной. Смотреться так, чтобы зритель, за утренним воскресным кофе щелкающий каналами своего телеприемника, остановился бы – на ней. И задержался… И заинтересовался. И стал бы смотреть. И – запомнил…
– Давайте начнем? – вывел Нику из полузабытья мягкий голос ведущего.
– Давайте, – улыбнулась она.
Ее голос прозвучал хрипловато. Она потянулась к стоящему перед ней на столике бокалу с минеральной водой. Отхлебнула. На прозрачнейшем бокале остались отпечатки ее пальцев. Краем сознания Ника отметила это.
– Пишем вводку, – предупредил ведущий кого-то невидимого, подняв глаза кверху. Затем посмотрел прямо в ближнюю к нему камеру и произнес: – В эфире передача «Формула победы». Передача о тех людях, что сумели в наше время достичь успеха. О тех наших соотечественниках, которые смогли стать лучшими… Веду передачу я, Петр Оленев. И сегодня у меня в гостях…
Ника почувствовала, как на нее устремились глаза ведущего и все телекамеры – а значит, взгляды десяти, пятнадцати или двадцати миллионов будущих зрителей.
– …очаровательная Нина Александровна Колесова!
– Зовите меня просто Никой, – быстро, прерывая (и даже сбивая) ведущего, проговорила она. Ей хотелось захватить инициативу в разговоре. Ей хотелось выглядеть на экране живой и энергичной. Она желала и это свое дело – очередное, мимолетное – сделать, как и прочие дела, на «пять с плюсом».
– Ника – в честь богини победы? – профессионально быстро переспросил ведущий.
– Да, – не задумываясь ответила она.
– Вы любите побеждать? – в заданном ею блицстиле спросил интервьюер, осклабившись во все свои зубы.
– Я умею побеждать.
– Раз побеждать – значит, с кем-то бороться? – быстро задал скользкий вопрос Оленев.
«Побеждать можно только врагов. Точнее – одного врага. Он – где-то близко, я знаю. И я найду его. И отплачу ему – за все отплачу», – быстро ответило на вопрос Никино подсознание.
Но реальная Ника беззащитно улыбнулась прямо в наплывшую на нее телекамеру и сказала:
– Конечно, бороться приходится. За свою работу. За то, чтобы стать первой в своем деле.
– И вы всегда выигрываете?
Ей хотелось с вызовом ответить: «Да, всегда!» Но она подумала, что такой ответ прозвучит слишком уж вызывающей неправдой. На секунду Ника задумалась, сбилась со стремительного темпа интервью.
«А ведь поражений в моей жизни хватало. Да еще каких!.. В клочья, до смерти… Но публике совсем не обязательно знать об этом…»
– Я стараюсь выигрывать, – сказала она вслух и ослепительно улыбнулась.
– Раз так – значит, вы любите играть? – вцепился в нее Оленев.
«Да вся моя жизнь, – мелькнула мысль, – есть игра. И неправда. И Никой меня зовут вовсе не в честь богини победы… Я назвала себя так в честь совсем другой девушки. Девушки, что жила недолго и несчастливо… Ее, помнится, звали Вероникой».
Часть первая
1
…Родители расслабились. Строгости выпускного класса – пока Вера готовилась к институту – остались позади. В этой поездке предки позволили ей делать все, чего бы она ни пожелала. В разумных, конечно, пределах.
Вечерами она бродила по теплоходу под руку с новым знакомым – юным морским волком Мишенькой. Как и Вера, он только что поступил в вуз со смешным названием ОВИМУ, что означало Одесское высшее инженерно-морское училище. Его родители тоже сделали сыну подарок – круиз по Черному морю. Только Миша в отличие от обремененной родичами Веры путешествовал в одиночку.
«Последний раз пассажиром хожу! На следующее лето уже практика. Пойду для начала матросом! Вокруг Европы! Киль, Бремен, Роттердам! Манчестер, Барселона!..» – гордо говорил свежеиспеченный курсант, когда они с Верой с важным видом сидели в баре теплохода «Варна» за запотевшими стаканчиками безалкогольных коктейлей. Названия иноземных городов, которыми угощал ее Миша, пьянили хлеще шампанского.
Иногда Вера, устав от бесконечных Мишкиных морских терминов, дезертировала на дискотеку вдвоем с Женей – соседкой по четырехместному столику в ресторане. Евгения, молодящаяся тридцатилетняя разведенка, тоже путешествовала в одиночку и с радостью принимала компанию юной и свежей Верочки: на эту парочку мужики клевали, как кефаль на самодур. Вера своих поклонников держала в строгости, вольностей не позволяла, но все равно – что это была за поездка!..
Родители разрешали Вере не вставать к завтраку и не ворчали, что перед сном она перечитывает малосерьезную книжку «Динка прощается с детством».
Когда сходили на берег, ей без разговоров покупали понравившиеся сувениры: лягушек, склеенных из отлакированных мидий, рапанов – если поднести их к уху, они шумели морем, нарисованные на морских булыжниках пейзажи…
Вере даже иногда разрешалось манкировать скучнейшими экскурсиями.
…Швартовку в Новороссийске она проспала. Утомленная вчерашним конкурсом танцев, чуть не до трех ночи гремевшим в музыкальном салоне, она проснулась, когда родители уже вернулись с завтрака. Папа с легким злорадством доложил: «Сегодня черную икру давали! И я твой бутерброд – съел!»
Вера грустно вздохнула.
Мама заулыбалась, весело зашипела на мужа: «Ну чего ты ее дразнишь!» И поспешно вынула из сумочки бутерброд, бережно завернутый в салфетку.
Верочка, так и не выбравшись из постели, набросилась на дефицитнейшую черную икру.
Шикарная все-таки кормежка в этом круизе! И родители у нее шикарные! Что бы она без них делала… Как здорово, что папа получил свою премию и они смогли поехать! Как классно, что мамочка уговорила его хотя бы в этом году променять привычный турпоход на морской круиз! Если бы еще на экскурсии ходить не надо было…
Вчера, когда они посещали Ялту, Вера просто умоталась. Ну ладно – пешеходная экскурсия по городу… Чуть не миллион ступенек до Ласточкиного гнезда – это еще можно пережить. Музей голографии тоже сойдет – хотя Верочку ужасно разозлило, что многомиллионные драгоценности, выставленные в витринах, на самом деле всего лишь лазерные пустышки.
Но после обеда, когда самое время было поваляться на пляже, поплавать в теплой лазурной воде, родителям приспичило ехать в Ливадию, смотреть на историческое место, где Рузвельт, Черчилль и Сталин в 1945 году беседовали о судьбах мира и человечества.
Ливадийский дворец, где теперь располагался санаторий, стоял на вершине крутейшей горы. Отдыхающие, вооруженные санаторными книжками, с легкостью вздымались туда на лифте. Посторонних гостей, к коим относилась и Верочкина семья, ждал неспешный и потный пешеходный подъем.
Вера заикнулась было сунуть лифтерше рубль и подняться на гору с комфортом, но родители ее идею отвергли. Мама сказала: «Стыдно как-то!» А папа добавил: «Нечего лифтеров баловать!»
«Хоть бы меня побаловал», – ворчала Верочка, хрустя неудобными шлепками по крутому склону. Стоило покорять гору, чтобы прослушать занудный рассказ экскурсовода о деталях Ялтинских соглашений!
…А в Новороссийске экскурсионная программа планировалась еще более скучная – Вера в программке посмотрела. Посещение легендарной Малой земли. Визит к остову вагона, изрешеченному фашистскими пулями. Возложение цветов на площади Героев…
И Вера, на правах новоиспеченной триумфальной студентки столичного вуза, вытребовала себе на сегодня «свободный график». Личное время безо всяких экскурсий и пять рублей на карманные расходы.
– В восемь вечера встречаемся на пароходе, – безапелляционно заявила мама.
– В восемь?! – возмутилась Вера. – Отплытие только в десять!.. Что мне тут торчать? Приду полдесятого.
– Ты с ума сошла!.. В девять здесь уже темно. Я не хочу, чтобы моя дочь шлялась в темноте! Да еще по чужому городу! Вдобавок по портовому!
– Что значит «шлялась»?! – возмутилась Вера. – Я иду на экскурсию. Но – по личной программе!
– Ах, по «личной»!.. После такихличных произвольных программ – в подоле, случается, приносят!
– Мама!
– Что «мама»?! Разве я не права?! Коля, ну скажи ты ей! – апеллировала Надежда Андреевна к отцу.
– Тишина на борту! – скомандовал папа.
Мама построила отношения в их семье так, что за ним всегда оставалось последнее слово.
– Чтобы ты, крыска моя, – обратился он к дочери, – явилась к трапу парохода ровно в двадцать часов тридцать минут. И ни секундой позже. А не то завтра в Сочи будешь жестоко наказана.
– Как это, интересно, я буду наказана?
– Будешь лишена просмотра дендрария. И вздернута на рее.
– Есть, капитан, – покорно вздохнула Вера, между тем думая про себя: «Где половина девятого, там и девять». Своего она добилась.
– В книжный магазин зайди! – напутствовал ее папа. – Может, найдешь что-нибудь интересное, в небольших городах хорошие книги встречаются.
«Славные у меня предки, но какие зануды», – нежно подумала Вера.
И пообещала: «Да, обязательно зайду в книжный магазин…» Сделала ручкой экскурсионному автобусу и с нетерпением ринулась в самостоятельный поход по городу-герою Новороссийску.
Прошлась по набережной. Однако так себе городок.
Жарища. Солнцепек. Ни души.
С противоположной стороны бухты дымят цементные заводы. Скукота.
Свернула в сторону от моря, попала в какой-то парк – видно, это и есть пресловутая площадь Героев. Обелиски, монументы… Опять скучища. Зато тенек, акации и лавочки.
На одной из аллей продавали квас. Вера подумала и купила у толстой тетеньки в белом халате маленькую кружку за три копейки.
Пошла исследовать город дальше. В тени акаций и платанов горел Вечный огонь, его охраняли смурные пионеры в белой парадной форме, с автоматами Калашникова в руках. Вера сочувственно понаблюдала за стоявшими навытяжку хранителями боевой славы. Краем глаза она заметила: по направлению от моря к огню целеустремленно приближается толпа людей. Вспомнила: здесь же каждый час бьют какие-то особенные куранты – музыку к ним, она прочитала в круизной программке, написал сам Дмитрий Шостакович. Она глянула на часики. Без пяти час. Так и есть: прослушивание курантов входило в обязательную программу. Еще не хватало ей столкнуться с мами-папиной экскурсией! Вера поспешно ретировалась – мимо обелисков, мимо стены, где выписаны здоровенные буквы: «СЫНАМ ОТЕЧЕСТВА, ЧЕЙ ПРАХ ПОКОИТСЯ В ЗЕМЛЕ НОВОРОССИЙСКОЙ«. Поспешила туда, где носились машины и пели, разгоняясь, троллейбусы.
Вера вышла на оживленную улицу. Судя по всему, эта улица являлась в городе главной. По тротуарам целеустремленно двигался озабоченный народ.
Вера заглянула в гастроном, по всей видимости – центральный. Привычная картина. Детишки давятся в очереди за молочным коктейлем, тетки с кошелками – за вареной колбасой. Только подозрительно зеленоватая рыба путассу продается без очереди. Обычный город, обычная жизнь!
Только вот мужики и парни здесь активней, чем дома, в Куйбышеве. Да и чем в Москве. Она прошла по главной улице два с половиной шага, а они уже замучили приставаниями: «Киска, пойдем погуляем? В дымном местечке посидим?»
У одного из «клейщиков» – самого приличного с виду – Вера спросила: «Что значит «дымный»? Там курить, что ли, можно?»
– Да ты что, бодыч? – озадачил ее парень новым вопросом.
Она сердито сказала:
– Слушай, объясни ты толком! По-русски, а?.. Что за «дымный»? Почему «бодыч»?
Парень сжалился, снисходительно пояснил: «Дымный» – значит клевый. А «бодыч» – это приезжий, типа тебя».
В общем, местные Ромео Вере не понравились. Одеты по-дурацки: не в джинсах или там шортах (что было бы естественно при такой-то жаре), а в наглаженных светлых брюках. Но на ногах вместо начищенных ботинок (или хотя бы сандалий) – шлепки-вьетнамки. И акцент у них странный (произносят «х» вместо «г»), и жаргон идиотский… Нет, ни с кем знакомиться ей решительно не хотелось.
Вера остановилась у витрины универмага. Полюбовалась на манекены, упакованные в шедевры фабрики «Большевичка». Не заглядывая, миновала книжный магазин. Несмотря на воскресный день, он работал – наверно, потому, что учебный год на носу. Пусть папа сам в свой книжный идет, если хочет и если у него от экскурсий время останется. А ей эти книжки до смерти надоели, пока в институт готовилась!
На бульваре Вера увидела симпатичное кафе-мороженое. Кругленький домик. С виду чистенький.
Решила зайти. «Только наверняка скажут, что мороженого нет». Она уселась за самый дальний столик, смахнула крошки с несвежей скатерти и приготовилась ждать официантку.
Однако и официантка, и меню появились довольно быстро. Мороженое в кафе тоже имелось в наличии. И даже трех сортов – в том смысле, что с разными наполнителями. Можно было выбирать – шоколадный, фруктовый или ореховый. Вера заказала: «Двести пятьдесят… нет, триста грамм. И все наполнители туда… ничего-ничего, пусть смешиваются, так вкусней».
– Девушка, вы, наверно, с Москвы приехали? – почему-то предположила официантка.
– Это имеет значение? – попыталась рассердиться Вера. – Почему всех так интересует, откуда я приехала?
– Говорите вы не по-нашему, – пояснила подавальщица. И добавила вполголоса: – И заказы странные делаете…
Нет, Вере не очень нравился этот Новороссийск!
Пока она бесконечно долго ждала обещанного мороженого с тремя наполнителями, ее по очереди попытались атаковать сразу две молодежные компании. Предлагали шампанского. Звали пересесть к ним. И даже – шепотком – подбивали «забить косячок». Вера старалась быть вежливой. Она терпеливо объясняла претендентам, что она ждет родителей, те должны вот-вот подойти, и все равно она сегодня уезжает – какой смысл знакомиться!.. Но ее отказы только раззадоривали настырных южан.
«Мне нужно от гордости раздуваться – какая невиданная популярность! – сердито думала она. – А я-то себя всегда серой мышкой считала… Ну, не мышкой, конечно, но дома у меня всего два поклонника. И те молодые, глупые… А в Москве, когда поступала, – и вовсе за целый месяц ни с кем не познакомилась… Так что не будем важничать! Видно, здесь, на югах, просто принято ко всем клеиться… Да, одной, без предков, по этим южным городам лучше не ходить… Если уж мне в Новороссийске проходу не дают… Что, интересно, тогда в Сочи начнется? Или тем более в Сухуми?»
Явилась официантка. На подносе, помимо огромной горы Вериного мороженого, красовалась еще одна, столь же солидная порция. И… бутылка шампанского.
– Де-ву-шка… это что еще? – устало спросила Вера.
Она догадывалась – что это. Сейчас сюда явится какой-нибудь разбитной абориген, по-хозяйски хлопнет пробкой шампанского и предложит отметить знакомство…
В эту минуту Вера больше всего мечтала оказаться в компании родителей – пусть на самой скучнейшей из всех наитоскливейших экскурсий!
…К ней подкрались сзади. Глаза закрыла жесткая, уверенная ладонь. В ухо выдохнули:
– Угадай, кто?
Она вздрогнула, забилась, сбрасывая руку. Радостно закричала, вскочила:
– Васька, негодник! Откуда ты взялся?!
Ее куйбышевский одноклассник Василий Безбородов улыбался победоносно и слегка смущенно. Он клюнул носом ее щеку, изобразив поцелуй, плюхнулся на стул, важно велел официантке:
– Выгружайте, девушка, выгружайте…
Вера чуть не подпрыгивала от любопытства:
– Ну, Васенька, говори же!.. Ты что, тоже здесь отдыхаешь? Где? В санатории?
– «В санатории»! – передразнил он ее. – Я похож на человека, которому необходима санатория?.. Не, я сегодня только приехал. Сумка в камере хранения.
– А меня-то ты как нашел?
Он потупился. Покраснел:
– Ну… шел по улице… решил в кафе зайти… А тут – ты…
С недавних школьных времен Вера прекрасно помнила, что врать Вася не научился. Учителя сроду не верили ни в его застрявший лифт, ни во внезапно заболевшую бабушку.
– Ты что, с самой набережной за мной идешь? – строго спросила она.
Он улыбнулся и облегченно, что врать больше не требуется, сказал:
– Ну да! Встретил твой теплоход… Боялся, что ты на экскурсию поползешь, – как тебя тогда ловить?
– Подошел бы перед экскурсией! – назидательно сказала Вера. Она уже полностью овладела ситуацией. И обрадовалась: все-таки великая вещь – интуиция! Не зря внутренний голос ей подсказал: «На экскурсию не ходи!» А в Новороссийске действительно будет гораздо лучше с Васечкой, чем с предками.
Вася опять смутился:
– Ну там же твой папа был…
Верин папа Василия недолюбливал. Говорил, что семья у него не та и жизненные устремления отсутствуют… И вообще Вере – в ее-то семнадцать! – еще рано думать о всяких Васях. На школьную дискотеку их вдвоем еще можно пустить, а вот приезжать к теплоходу, на котором дочка путешествует вместе с родителями, – это со стороны Васи явный перебор.
Но Васька-то каков! Вера с трудом (чтобы его не баловать) скрывала свое восхищение. Специально приехал черт знает куда, с Волги на Черное море, из Куйбышева в Новороссийск, чтобы с ней повидаться. И от местных приставальщиков ее спас. Молодец, ничего не скажешь!
Они принялись за мороженое. Вася смотрел на нее сияющими глазами, Вера блеск в своих глазах старательно скрывала.
– Кстати, шампанское же! – вдруг вспомнил он.
– А в честь чего? – кокетливо спросила она, ожидая услышать стандартно-приятное: «В честь нашей встречи».
Он неумело хлопнул пробкой, окончательно залив и без того несвежую скатерть. Поднял свой граненый бокал-стакан:
– Представляешь, Верунчик, я в институт поступил!
Она опешила:
– Чего-чего?
Вася, ее бессменный списывальщик и сосед по парте, весь десятый класс ей говорил: «Никаких институтов! Получу аттестат – работать пойду, а то дома жрать нечего». – «Не жрать, а есть», – машинально поправляла Вера. «У нас дома – нечего именно жрать «, – настаивал он.
– Но… как?
– Да мать учудила… денег мне дала…
Вера забыла о приличиях и выпалила:
– Да откуда ж у нее деньги?!
Вася не обиделся на ее вопрос.
– Оказывается, страховку она купила. Давно еще, когда я только родился. И платила с тех пор каждый месяц по пять рублей восемьдесят копеек. Целых семнадцать лет, представляешь? И не говорила мне ничего… Вот я и решил поехать…
– И куда?.. Где ж ты поступил?.. У нас? В смысле у вас, в Куйбышеве? – Вера умирала от любопытства.
– Почему в Куйбышеве? В Москве. В геологоразведочный. Рядом будем учиться. Твой институт недалеко, я узнавал.
– Ну ты чудило! Просто не верится! Как же ты экзамены сдал? С твоими-то трояками?
Вася слегка обиделся:
– А что – мои трояки? Конкурса аттестатов сейчас нет. Географию я вообще без проблем спихнул, ну, ты знаешь, мне это раз плюнуть… А с остальными экзаменами повезло. Да и конкурс был небольшой.
– Половина человека на место?
– Нет, целых полтора! – улыбнулся он.
Вера засмеялась. Она была искренне рада за Ваську – такого трогательного, милого, с пушистыми ресницами… Сейчас, когда он приехал, прилетел за тридевять земель, и для чего? – только для того, чтобы увидеться с ней! – он казался ей почти любимым…
Почти любимым. Почти. Но все-таки не любимым. Это Вера тоже хорошо понимала.
– Ну, за твой институт! – провозгласила она и одним махом выпила свой стакан-бокал. В голове сразу зашумело, цветные наполнители на мороженом заиграли яркими красками. В хаосе мыслей билась одна: «Ну и Васька! Ну и хитер! Ничего мне не говорил – ни про институт, ни про то, что сюда приехать собирается…»
Он подлил ей еще шампанского. Сказал озабоченно:
– Только ты это… помедленней пей… А то захмелеешь – что я тогда твоему папе скажу?
– Слушаюсь! – шутливо откозыряла ему Вера. И спросила: – Так ты что – будешь в Москве жить на эту страховку? Сколько там денег, кстати?
– Тыща!.. Но я ничего оттуда не возьму. Пусть мать на них живет, пока я учиться буду. Сам прокормлюсь. Руки есть – заработаю.
– И на билет сюда ты тоже сам заработал! – съехидничала Вера.
– И заработал! – торжествующе сказал он. – Сейчас расскажу как. Билетов-то сейчас днем с огнем не сыщешь… А я в Москве уже с ребятами познакомился. Они вагоны разгружают на Курском вокзале, позвали меня с собой. Я и заработал, и знакомства всякие завязал. Билет вот по блату достал. Купейный, между прочим… Чего ж не прокатиться, тебя не проведать?
– А как ты узнал, что мы здесь?
– Подумаешь, бином Ньютона! Мне твоя бабка сказала…
– Не бабка, а бабушка… – строго поправила Вера.
– Ну бабушка… Так вот, она сказала, что вы в пятницу отплываете из Одессы. Вот я и посчитал, что в воскресенье вы будете в Новороссийске.
– Но мы уезжаем отсюда – уже сегодня!
– Знаю. В двадцать два ноль-ноль, – грустно сказал он. – Но ведь до вечера еще есть время?
…Теперь, когда рядом был Вася, Новороссийск показался Вере чудесным городом. Спокойным, уютным, слегка ленивым.
Верочка с Васей, утомленные пляжем, сидели на самой шикарной лавочке – из тех, что выстроились на набережной, лицом к маслянистой глади Цемесской бухты.
Новороссийская молодежь строго соблюдала правила приличия – на лавку, где разместилась парочка, больше никто не претендовал. А старички-старушки, случалось, присаживались рядом, но, слыша Верочкин смех, неодобрительно косились на Васю, сжимающего ее руку, и уходили.
Бухта зажигала огни. Светились иллюминаторами пароходы, мерцала подсветка водных подъемных кранов. С противоположной стороны бухты подмигивали окнами дома, бликовали в воде уличные фонари. Над головами носились, попискивали птицы – но не чайки, а какие-то сухопутные, черные. Вера считала, что это стрижи, а Вася утверждал, что чибисы.
– А с утра мне этот Новороссийск совсем не понравился! – призналась Верочка.
Вася не удержался, хмыкнул:
– Да я понял… Чему тут нравиться, если на улице проходу не дают…
– А ты, шпион липовый, если видел все – чего же раньше не подошел?
– Если вдруг что – подошел бы, не сомневайся. Но вроде все безопасно было… А мне приятно.
– Приятно?! Чего ж тут приятного?
– Ну… сразу видно, что моя девушка лучше всех!
Верочка чуть было не сказала легкомысленно: «Да тут ко всем клеятся!» – но вовремя прикусила язык. Пусть Васька гордится. Ей не жалко. И пусть один вечер считает ее своей девушкой. Хотя это совсем не так.
До отправления теплохода оставалось минут сорок. К назначенному времени возвращения Вера явно опаздывала. Эх, быть ей вздернутой на рее!..
Она вздохнула:
– Папа сейчас спросит, что я в городе посмотрела. А я ни бум-бум. Он ворчать начнет, что у меня нет этой, как ее… тяги к познанию…
– Чего тут познавать? – фыркнул Вася. – Одни заводы цементные… Чудило у тебя предок!
– Не говори так про него, – строго сказала Вера.
– Ну ладно, твой батяня клевый… только иногда нудный. А потом, разве ж мы ничего не познавали?! Помнишь, какой рынок смешной? А пляж?
…Лучший пляж Новороссийска прятался, как и положено хорошему пляжу, на самой окраине города. «На троллейбусе полчаса. И потом столько же пешком», – объяснила им официантка в кафе, когда Вася рассчитывался за мороженое.
– Ерунда, такси поймаем, – заявил Вася и барским жестом махнул девушке: мелочь, мол, оставьте себе.
Мелочи, как успела заметить Вера, оставалось порядочно, копеек семьдесят. Официантка поспешно сунула в карман уже приготовленные на сдачу монетки и ласково улыбнулась Васе:
– Зачем на такси? Тут в двух шагах катер останавливается.
– Катер? – не поверила Вера.
– Да, катер! – торжественно сказала подавальщица. – Проезд двадцать копеек.
Покосилась на Веру и добавила:
– А детский билет – десять копеек.
Вера вспыхнула. Вася, казалось, не заметил ее смущения. Он окинул официантку ослепительным взглядом:
– Раз вы все знаете… Где здесь табачный киоск?
Девушка фыркнула:
– Вам что, «Прима» нужна?
– А что, болгарских нет?
– Да у нас в городе любые есть, хоть американские. Только не в ларьке, а на рынке. Два шага отсюда.
– Пойдем, Верунчик, – позвал Вася.
Вера поспешно встала. На прощание одарила официантку презрительным взглядом. Та не осталась в долгу, сказала вслед:
– У нас на рынке все есть! Сигареты, водка. Шлепки, полотенца… Круги спасательные для детей… Вера вздрогнула. Хотела обернуться, ответить нахалке, да Вася удержал, обнял за плечи.
– Ну чего ты? Мало ли дурочек… Пошли скорей, а то все «Мальборо» разберут.
Колхозный рынок Новороссийска пестрел разноцветным виноградом, массивными серо-желтыми грушами, полосатыми боками арбузов.
– А сигареты тут где? – спросил Вася у одной из торговок.
– Сигареты дальше. Только там облава сейчас. Почекайте минут пяток. Купите пока виноградику…
– Будем пережидать? Или без сигарет обойдемся? – поинтересовался Вася.
Вера на секунду задумалась. Последний раз она курила на выпускном вечере. Уже два месяца прошло, к сигаретам не тянуло. Значит, привычка у нее пока не развивается. А настоящее «Мальборо» когда еще удастся попробовать…
– Ладно, давай уж переждем, раз ты такой куряка несносный, – сказала она вслух.
И они принялись выбирать виноград. Заодно накупили груш, два яблока и маленькую дыню-»колхозницу». Наконец они подошли туда, где продавались сигареты. Ряды пустовали – ни продавцов, ни покупателей.
– Вот и покурили! – расстроенно сказал Вася.
– Ничего, здоровее будем, – Вере не удалось скрыть недовольства в голосе.
– Эй, ребята! – окликнул их осторожный голос. – Вы свои?
– Не знаю, – честно ответил Вася и удивленно уставился на обратившуюся к ним даму неопределенного возраста.
– Свои. Вижу, – быстро определила она. – «Мальборо», «Кэмел», «Винстон» – по пятерке. Жвачки есть, пакеты фирмовые, колготки, сланцы с бисером…
Вере безумно хотелось посмотреть на бисерные сланцы (то есть открытые босоножки, продававшиеся лишь в «Березках» и «Альбатросах»), но она удержалась. И так Васька десятку за две пачки «Мальборо» выкинул.
Спекулянтка проворно спрятала червонец, выдала им вожделенные красно-бело-черные пачки и сказала:
– Еще «Море» есть…
– Да мы знаем! – хмыкнул Вася.
– А если знаете – чего ж для дамы не берете?
– Море?!
– «Море» – это сигареты такие, специально для девушек, – снисходительно объяснила продавщица. – По семь рублей отдаю.
Вася, бедный джентльмен, подавил вздох и заплатил за узкую зеленую пачку.
– Пошли быстрей отсюда, а то всю страховку свою прокутишь! – зашипела на него Вера.
И бдительно следила, чтобы денег больше не тратил. Даже билеты на катер купила за свои – между прочим, два взрослых.
…Остаток дня они провели на пляже. Он назывался в Новороссийске странно – Коса. Да и являлся, собственно, косой – узкая, не более семидесяти метров в ширину, полоска камней полукругом вдавалась в море. Здесь, как на порядочных пляжах, имелись кабинки для переодевания, валялись деревянные лежаки и возвышались навесы от солнца. От пристани катеров на весь пляж доносился русский рок в исполнении группы «Черный кофе».
На пляже ребята купались до упаду. Играли в морские салки. Плавали наперегонки – Вера все время побеждала. Она даже уверовала в свой высокий пловецкий класс, да заметила случайно, что, пока она машет руками-ногами, рвется первой доплыть до буйка, Васька преспокойно лежит на спине.
Загорали. Болтали – как привыкли еще в школе – о судьбах Вселенной и ни о чем. Ели фрукты. (Васька ворчал, что они соленые. А что делать, когда пресной воды на пляже не водилось – пришлось в море мыть.) Покуривали, Вася – «Мальборо», а Верочка – длинные коричневые «Море». Обсуждали, кто из одноклассников куда поступил. Рассматривали соседей по пляжу, играли «в угадайку»:
– Эта парочка кто? Супруги или просто… встречаются?
(«Колька, оболтус, давай собирай сумку!» – Все ясно, супруги.)
– А эти кто?
– Какие?
– Вон, парень усатый, лет двадцати пяти, и девчонка мелкая…
– А черт его знает… Для отца он вроде молодой… А для ее парня – старый…
Стали прислушиваться.
– Эй, да он ей что-то диктует… Тише!..
Развалясь на топчане и глядя в небо, усатый парень начал диктовать. Девочка, примостившись на другом топчане, покорно записывала в тетрадочку.
– …В этот день в Малине, – донесся до Веры с Васей мерный, чуть картавый голос парня, – небольшом городке на Житомирщине, произошло событие, ставшее определяющим для судеб многих тысяч людей: труженики – одно «н» в слове «труженики», бестолковая!.. – …труженики местной бумажной фабрики избрали почетным рабочим Владимира Ильича Ленина… Точку поставь. С новой строки, прямая речь…
– Пойдем, Серенчик, искупаемся, – мечтательно произнесла девочка.
– Анька, не ной! Сама на журфак собралась. Я тебя, сестренка, туда на аркане не тащу. Вот и терпи. Тренируйся. Новый абзац, прямая речь…
– Они, оказывается, брат и сестра… – разочарованно протянула Вера.
– Да… – промямлил Вася. – Интересные тут, на пляже, вокеры… Статьи друг другу диктуют… Делать им нечего…
Девочка с тетрадкой услышала их разговор и возмущенно крикнула со своего лежака:
– Мы, между прочим, не статью пишем, а книгу! Первую!
Усатый парень дернул ее за растрепанную косу:
– Анька, прекрати!
Но девица не унималась. Она заявила, обращаясь к Васечке:
– Мы – Литвиновы! Вы про нас еще услышите!
– Хорошо-хорошо, – поспешно сказал Вася. Отвернулся от странной парочки и весело подмигнул Вере.
…Ей играть в «угадайку» быстро надоело. Она лежала на спине, подставляла закатному солнцу лицо, поглядывала на часы, чтобы не опоздать на последний катер. Вася тоже примолк, нежно взял ее руку и не выпускал.
«Уж пора бы, – думала Вера. – Пора бы ему сказать, чего ради он сюда приехал! Неужели сразу замуж позовет?»
Он значительно откашлялся. Затянулся «мальбориной» и закашлялся вновь. Потеребил ласково ее пальцы:
– Вер, Верочка… А ничего, если я в Сочи к тебе тоже приеду?
– Да ты что, Васька, миллионер, что ли? – Она аж привстала.
– Нет, не миллионер, – грустно сказал он. – Но до Сочи добраться денег хватит…
Она чуть не ляпнула: «А зачем тебе это?» – но быстро одумалась. Все с Васькой ясно. Считай, в любви он ей объяснился.
Пусть приезжает, конечно. Ей с ним хорошо. Спокойно, уютно. Вот только… Ничего она к нему не чувствует. Ничегошеньки. Не любит она его, понимала Вера, и не полюбит, наверно, никогда. Можно сказать ему об этом – но зачем? Кому плохо от того, что он рядом? Пусть будет… Пока… Пока место не занято… А скоро она приедет в Москву – там будут новые знакомства. Столичные парни… Вот когда появится кто-то настоящий, Васе можно будет и объявить об отставке. А до того пусть он будет рядом. Запасной вариант.
Вера повернулась к нему, облокотилась на локоть:
– Конечно, Васенька, приезжай! Буду рада безумно! Только… как ты добираться-то будешь? Поезда в Сочи отсюда не ходят… Автобусов, наверно, тоже уже нет – поздно, почти восемь.
– Доберусь, не волнуйся! – решительно сказал он. И добавил: – Я так хочу…
– Чего ты хочешь? – лукаво спросила она.
Он задумался. Взглянул на часы и от ответа ушел:
– Хочу… чтобы ты на свой теплоход не опоздала. Помчались!
…До теплохода Василий ее не провожал. Боялся, что попадется на глаза строгим Вериным родителям. Прятался в полупустом здании морвокзала за кадушкой с пальмой. Проследил, как Вера своей знаменитой на всю школу танцующей походкой взбегает по трапу.
Теплоход светился огнями. С палубы неслась музыка. Пассажиры обнимались, смеялись, махали остающимся… Их ждали Сочи, пальмы, танцы, вкусный ужин, который подадут вышколенные официанты…
Василий вздохнул. Подавил пробившееся было чувство голода. Приказал зависти замолчать. В его жизни тоже все будет. И вышколенные официанты, и белый пароход… И Верочка будет с ним. Всегда рядом с ним.
Все – будет. Только не сейчас. Чуть позже.
Теплоход басовито гуднул. Трап подняли. Двое крошек-буксирчиков легко сдвинули с места многотонную сверкающую громадину. Двухтрубный лайнер прогудел еще раз, попрощался с Новороссийском и неспешно направился к выходу из Цемесской бухты. Ветер трепетал красным флагом. Ниже, на ослепительно белеющей корме, чернела надпись: «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Шел одиннадцатый час вечера воскресенья, тридцать первого августа тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.
2
На верхней палубе «Адмирала Нахимова» собрались туристы из числа тех, кому за сорок. Они праздновали День шахтера, поздравляли ветеранов и танцевали устаревшее, тяжеловесное танго. Нестройные голоса выводили под баян: «Бье-ется в те-есной печурке огонь!»
Молодежь игнорировала ветеранские мероприятия. Вера вместе с будущим морским волком Мишей отправилась бродить по пароходу в поисках вечерних приключений. Заглянули на верхнюю палубу, но, заметив Верочкиных родителей, поспешно ретировались. Прогулялись к корме, наведались в тамошние бары. И в первом, под названием «Варна», и во втором – «Рубине», был полный аншлаг. Пассажиры так аппетитно потягивали свои безалкогольные коктейли, что казалось, будто они пьют по меньшей мере водку с мартини. Свободных столиков не было, у барной стойки народ стоял в два ряда.
Миша предложил поплавать в бассейне, но Вера после сегодняшнего пляжа была сыта купаньями по горло.
– Давай лучше посмотрим, как отплывать будем! – предложила она.
– Не отплывать, а отшвартовываться, – важно поправил он.
– Ну и словечки у вас, у моряков… отшв… отшвур… фу, язык сломаешь.
Они пристроились на носу, чтобы были видны город и набережная. Вера мягко сняла Мишину руку со своего плеча. Вдруг Васька сейчас с берега ее видит – зачем его зря расстраивать?
Причал заполнял праздно любопытный народ. Чинные парочки и бесшабашные мальчишки, группки хохочущих невпопад девушек, деды с удочками или тросточками… По пирсу металась собачонка-дворняга, все пыталась забраться на трап. Зверюгу отгонял строгий матрос в белой униформе.
– Вот хозяин сволочь! – гневно сказал Миша.
– А?
Вера не слушала Мишу, думала о своем, переживала за бедного Васю, который остался один в незнакомом ночном городе.
Трап медленно пополз вверх. Дворняжка принялась скулить. Вере показалось, что она видит огромные от горя собачьи глаза.
– Как так можно! – горячился Миша. – Сами на теплоход, а собака – подыхай на улице!
– Эй, подожди, – одернула его Вера. – Ты что, не видишь?
К собаке подошел подросток лет пятнадцати, потрепал по холке – дворняга огрызнулась. Паренек ловко отдернул руку от острых зубов, извернулся и пристегнул к ошейнику поводок. Пес вырывался, скулил, а пацан говорил строго: «Сидеть, Рекс, сидеть! Это что за истерика!»
Миша облегченно вздохнул.
А парнишка, с трудом держа на поводке вырывающуюся псину, крикнул в сторону парохода:
– Не боись, мам! Все нормально будет!
«Нахимов» издал трубный хриплый гудок и неспешно с помощью двух пыхтелок-буксиров отвалил от причала. Затем судно неповоротливо, словно гигантский грузовик, развернулось и направилось к выходу из порта.
Вера в последний раз взглянула на освещенную фонарями набережную, успела высмотреть ту лавочку, где они еще недавно сидели в обнимку с Васей. Теперь на ней развалилась целая компания подростков.
Вера охватила прощальным взглядом ночной Новороссийск. Постаралась запомнить каждую его черточку. Пусть потом ее греют приятные воспоминания – до следующего раза, когда она окажется здесь. Только занесет ли ее судьба когда-нибудь в этот город?..
– Ну что, в кино идем? – бодро предложил Миша. – Там как раз что-то для вас, для девчонок, будет – любовь-морковь.
– Как называется? – заинтересовалась Верочка.
– «Я любил вас больше жизни».
– Наш фильм?
– Не знаю. Кажется, да.
– Жаль… Название, правда, заманчиво!.. Ладно, пойдем. Только подожди, я у предков отмечусь.
– Эй, подожди-ка, – Мишенька ухватил ее за талию.
– Чего еще? – спросила Вера строго. Она не поощряла Мишины обжиманцы.
Он поспешно отпустил ее.
– Смотри, за нами погоня!
Неповоротливый «Нахимов» действительно нагонял небольшой юркий катер.
«Неужели Васька? – радостно встрепенулось Верино сердце. – На катере? Быть не может».
Корабль сбавил ход, остановился. Спустили трап, и с катера на «Нахимов» быстро перепрыгнул коренастый человек средних лет.
Вера разочарованно сказала:
– Какой-то старикашка… Опоздал. Видать, большой начальник, раз из-за него пароход остановили…
«Жалко, что это не Васька. Как бы это было красиво… Он нагоняет меня на катере, идет к папе и просит моей руки», – Вера сама смутилась от своих глупых мыслей.
Высокопоставленный опоздавший ее больше не интересовал. Вера велела Мишеньке ждать ее в зрительном зале и помчалась искать родителей.
«Адмирал Нахимов» миновал два далеко выдающихся в бухту пирса, увенчанных подмигивающими маяками.
В то же самое время от Босфора, со стороны открытого моря и той самой Суджукской косы, где сегодня днем побывали Вера с Васей, – к Новороссийску приближался балкер «Петр Васев», груженный тридцатью тысячами тонн канадского ячменя. Пока ни его самого, ни его огней не было видно – судно загораживал ограждающий Цемесскую бухту мыс Мысхако.
Теплоходы неуклонно приближались друг к другу.
…Вера нашла родителей в каюте. У них, судя по всему, только что закончился бурный диспут. Верочка знала, о чем в последнее время дискутировали родители, – конечно же, о ней, непутевой. Мама наверняка ворчала, что дочка отбилась от рук, на экскурсию не поехала, шлялась где-то, к контрольному сроку опоздала на час, а в каюту вообще взяла моду являться бог знает во сколько.
– И вообще, Николай, это была твоя идея. Не самая лучшая! Вместо того чтобы ребенок нормально пошел первого сентября в институт, ты выдумал этот круиз!
– Ну, Наденька, – увещевал папа, – у них же все равно в сентябре картошка! А Лена Пална даст ей справку… И разве я виноват, что путевки подвернулись именно сейчас!..
– Ах, Коля, я так волнуюсь, как она будет там – в Москве, одна! Она же еще такая маленькая, несерьезная! Шум и ветер в голове!..
Результатом дискуссии явилось то, что оба родителя выглядели усталыми и раздраженными. Изображая из себя паиньку, Верочка елейным голоском отпросилась в кино. «Ну что ты с ней будешь делать!» – развел руками папа. Мама только досадливо махнула рукой. Папа за ее спиной подмигнул дочке: «Иди, иди… только тихо. Мы сейчас спать ложимся. Смотри, не шуми, когда вернешься».
Вера клятвенно пообещала превратиться в тихую мышку и помчалась в кинозал. «Смешные у меня все-таки предки, – думала она. – Классные, но смешные. Неужели мамик не понимает, что в моем возрасте рано ложиться спать – вредно?!»
…Пост регулирования движения судов (или сокращенно ПРДС) Новороссийского порта располагался на одном из многочисленных молов. Он помещался в списанной рубке, срезанной от отслужившего свое танкера.
В ободранном кресле раскинулся дежурный по ПРДС.
Ближайшие часы обещали быть спокойными. Волнение – ноль баллов, прекрасная видимость. Правда, к полуночи прогноз обещал усиление северо-восточного ветра. Это означало, что в бухте начнется знаменитая новороссийская «бора» (как называют ее посторонние, незнающие люди) – или «норд-ост» (как именуют шквальный ветер все новороссийцы).
«Адмирал Нахимов» отшвартовался от причала тридцать четыре точно по расписанию, в двадцать два ноль-ноль. Он шел, как и все «пассажиры», без лоцмана. Капитан «Нахимова» Марков, равно как его помощники, знали Цемесскую бухту как свои пять пальцев. Шутка ли, дважды в месяц в течение целого сезона, с апреля по октябрь, круизный теплоход «Нахимов» заходил в этот порт. И сегодня все шло по тому же расписанию, что и две недели, и месяц, и два назад.
В двадцать два тридцать «Нахимов» должен был пройти так называемые «ворота порта» – траверз мысов Мысхако и Дооб. В двадцать два сорок пять – покинуть акваторию порта.
Дежурный по ПРДС посмотрел на подробную, в полстены, карту акватории. На ней были отмечены места встречи лоцманов, проложен путь между двумя опасными банками. Глянул на зеленоватый экран локатора. На нем – белые всплески. Большинство из них неподвижны – это суда, стоящие на рейде. Медленно движется, удаляясь, жирная точка – «Адмирал Нахимов».
Справа от нее, на траверзе мыса Мысхако, появилась еще одна движущаяся точка. Это – сухогруз «Петр Васев».
Дежурный вызвал по радио «Петр Васев»:
– ПРДС – «Васеву». Прием.
Борт откликнулся мгновенно. Дежурный сообщил:
– Из порта выходит пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Прошу пропустить «Адмирал Нахимов» на выходе.
– Ясно: пропустить, – хрипит динамик УКВ-радиостанции.
Дежурный наливает себе чаю: на море – все спокойно.
…Миша уже ждал Верочку на центральных местах в последнем ряду душного пароходного кинотеатрика. Вертел нетерпеливо головой. Не успела Верочка усесться рядом с ним, как свет погас. Фильм начался. И с первых секунд она разочаровалась – вот тебе и любовь! С титров, с музыки стало ясно: кино – про войну.
Дежурный ПРДС Новороссийского порта вызывает теплоход «Адмирал Нахимов»:
– На створе и рейде движения нет, но на подходе с Босфора идет теплоход «Петр Васев». Он предупрежден о вашем выходе и пропустит вас.
– Ясно, – отвечают с капитанского мостика «Нахимова».
В зальчике пароходного кинотеатра душно.
– А ты говорил, фильм о любви, – вполголоса ворчит Верочка.
– Откуда же я знал? – оправдывается Миша.
– Ну и пошли отсюда…
Мише уходить не хотелось. Темнота кинотеатрика и близость Веры рождали иллюзию: а вдруг? А вдруг она будет благосклонна к нему?
– Давай еще чуток посмотрим, – взмолился он. – Может, любовь начнется?
Вера вздохнула. Ладно уж, полчаса можно потерпеть.
Она прикрыла глаза и начала думать о своем. О Москве, которая ждет ее через несколько дней. Об институте – туда одновременно и хотелось, и немножко было страшно. Как там все будет? Одна, в столице… Новые люди, новые встречи…
Подумала о Ваське, о Мишке. О себе, непутевой. Ну почему ей ни один, ни другой не нравятся? Они ведь славные ребята – надежные, порядочные, умные. Какого же рожна ей нужно? Чем они для нее нехороши?
С капитанского мостика «Петра Васева» уже была видна Цемесская бухта, огни города, а вдалеке слева по борту можно разглядеть движущуюся яркую точку – огни «пассажира» «Нахимова». Оживает рация. Вахтенный помощник «Нахимова» связывается по радио с капитаном «Васева»:
– «Васев», каков ваш курс? Ваши действия?
– Идем курсом тридцать шесть, – отвечают с капитанского мостика «Васева». – Скорость двенадцать с половиной узлов.
– Вы можете нас пропустить? – спрашивают с «Нахимова». – У нас на борту тысяча туристов. Наш курс сто двадцать градусов.
– Идите!
– Мы можем идти тем же курсом и не сбавлять оборотов? – переспрашивают по радио с мостика «Нахимова».
– Да, можете идти.
– Вы пропустите нас? – еще раз спрашивают с «Адмирала».
– Идите! – снова повторяет капитан «Васева».
Миша сидел во тьме пароходного кинотеатрика, дышал и даже не решался взять ее за руку. Краем глаза Вера поглядывала на экран. Там продолжалась война, шли в атаку наши. Немецкий солдат не устоял и грохнулся прямо под советский танк. У него изо рта потекла кровь. Вера поморщилась.
И в этот момент теплоход тряхнуло так, что у Верочки зубы клацнули.
Экран мгновенно погас.
– Что такое? – проворчал Миша. – В самом интересном месте…
– Акулу задавили! – фыркнула Вера.
– В Черном море нет акул, только катраны, – тут же заспорил Миша.
Вера – благо в темноте незаметно – поморщилась. Как он ей надоел со своими поправками! Моряк хренов!
Секунд двадцать они сидели в полной темноте. Зрители покорно ждали, пока киномеханик наладит свой аппарат.
Экран на несколько секунд засветился – и тут же погас снова.
Долготерпение в публике иссякло. В зале начали свистеть, потом – топать ногами, наконец – тревожиться.
– Эй, а двигатели-то не работают! – произнес кто-то в темноте зала.
– Аварийного освещения тоже нет! – добавил Миша. И сказал встревоженно: – Давай-ка, Вер, выбираться отсюда…
– Да что ты паникуешь? – фыркнула она. – Подожди, сейчас свет включат. Куда мы в такой темноте пойдем?
Они по-прежнему сидели в последнем ряду теплоходного кинотеатрика. Прочие зрители, чертыхаясь и спотыкаясь в темноте, потянулись к выходу. Миша тревожно сжал ее руку, наклонился к самому уху:
– Вера, ты девчонка умная. Только спокойно, ладно? Не кричи и не делай резких движений. Мы, кажется… кажется… с кем-то столкнулись.
От такой глупости она даже дар речи потеряла. А он продолжал торопливо:
– Молчи! Послушай меня. Удар, судно тряхнуло. Двигатели не работают, света нет. И самое главное – появился крен на правый борт. Чувствуешь?
Что за ересь он несет! Какой еще там крен? Первой ее мыслью было – высмеять морского волка Мишку. Во вторую секунду Вера смягчилась: ну что поделаешь, в пиратов мальчик играет, капитана Блада из себя изображает. В кинотеатре свет погас, а он представляет тут всякие страсти. И хочет, чтобы она оперлась на его руку и сказала томно: «Выводи меня, Миша! Я на тебя полагаюсь!»
Пока Вера думала, что ей отвечать на паникерские речи своего спутника, Миша вскочил со стула и резко потянул ее за собой:
– Верка, бегом! Времени мало!
Кинозал был уже абсолютно пуст и темен. Было только слышно, как потрескивают деревянные панели и остывает с металлическим хрустом кинопроектор.
Вере вдруг стало тревожно. Она покорно пошла за Михаилом. Спросила неуверенно:
– Слушай, тебе не показалось?
В его голосе слышались истерические нотки:
– Верка, я не шучу! Пароход тонет!
Но как может затонуть такой большой и надежный пароход?!
Она еле поспевала за Михаилом – а он спешил наверх, на верхнюю палубу. Было абсолютно темно и тихо, по пути они никого не встретили. И от этой тишины и темноты Вере становилось все тревожней и тревожней. «Не раскисать!» – приказала она себе. И даже попыталась пошутить:
– Тонет – ну и ладно! Вода теплая, берег близко!
Он не успел ей ответить. Они выбрались наконец на верхнюю палубу, и Вера от ужаса прикрыла рот рукой.
Теплоходный праздник жизни был раздавлен и уничтожен: абсолютно темно, ни искриночки света, только звезды мерцают где-то высоко-высоко… А в кромешной тьме угадывается давка. Паника. Хаотически перемещаются пассажиры. Все куда-то движутся, но со стороны кажется, что люди мечутся по кругу. Белеют испуганные лица. Вот мелькнула хрупкая старушка в ночной рубашке и с ридикюлем. Она тонким голоском зовет какого-то Коленьку – и ее тут же оттесняет, уносит толпа. Вот рядом появляется девушка в нарядном платье и босиком. Она неумело возится со спасательным жилетом. Прямо у их ног свернулась в комочек и закрыла глаза совсем крошечная девчушка. «Лет пять, не больше», – машинально отметила Вера.
– Боже мой! – потерянно выговорила она.
Я сплю? Такого просто не может быть!
И самое страшное – пароход действительно заваливается на правый борт. Он вправду валится!
Вера успела заметить, что со стороны правого борта от «Нахимова» задним ходом удаляется большое, темное судно.
– Родители! У нас каюта внизу! Они спят! – в страхе закричала она.
Я должна их спасти, вытащить!
Она оттолкнула Мишу и бросилась – куда? Разве поймешь в этой тьме? Только найти бы родителей!
Ее за плечо грубо схватила чья-то рука. Веру нагнал Миша – мгновенно посеревший, злой. Он прижимал к себе ту пятилетнюю девчонку, которую Вера мельком видела у своих ног.
– Быстро иди на левый борт! – приказал он. – Там должны спускать плоты. Успеешь. Быстро!
– Родители! – Она пыталась ослабить его хватку.
– Пароход затонет через пять минут! – крикнул он ей. – В шлюпку – немедленно! Или утянет в воронку!
– Нет! – Она ударила его ногой под колено и вырвалась.
– Дура! – хрипло крикнул он вслед.
Она добилась, чего хотела, – избавилась от Мишки. Но как отыскивать в этой давке родителей?
Перекрывая панический гам, донесся спокойный, строгий голос:
– Всем пассажирам пройти на левый борт! Спокойно, без паники!
Ее не интересовал левый борт. Добраться бы хоть на ощупь до внутреннего трапа, который ведет к каютам нижних палуб! Яростно проталкиваясь сквозь толпу, текущую навстречу, Вера пробиралась к цели. «Куда ты? Иди обратно!» Ее неожиданно ухватил какой-то дедок.
– У меня там родители! – крикнула она на ходу.
– Где?
– Внизу, почти в трюме!
– Там никого уже нет. Все здесь, на палубе.
Вера не почувствовала уверенности в голосе деда. И, не ответив ему, бросилась дальше.
Между тем теплоход накренился еще сильнее. Трудно было удержаться на ногах, два раза она упала. Стиснув зубы, Вера продолжала пробираться к внутреннему трапу. Но лучше бы она сюда не пробиралась!
Даже в темноте Вера разглядела, что трап забит людьми. Кто-то прорывался налегке, кто волок с собой чемоданы и сумки. Стюардессы пытались регулировать движение, призывали к спокойствию – но все равно в рядах пассажиров царила паника, люди отчаянно толкали друг друга, стремились любой ценой выбраться наружу. Нечего и пытаться пройти в обратном направлении – не пропустят, раздавят.
Вера потянула за рукав мужчину в морской форме:
– У меня там, внизу, родители!
Он обернулся к ней. Она успела поймать его спокойный, бесстрастный взгляд.
– Вниз ты не пройдешь. Иди на левый борт, там плоты. Не хватит места – прыгай прямо в воду.
Сейчас она заревет! Залепит этому идиоту пощечину!
Моряк больно сжал ее руку выше локтя и грубо, как куль, поволок за собой. Она вырывалась, пыталась царапаться, кричала… Но казалось, что ее тянет робот. Мужчина молчал, держал крепко, на крики не реагировал. Он дотащил ее до левого борта и кинул в самую гущу очереди на плоты. На возмущенные крики пассажиров сказал спокойно: «Женщина беременна!» Толпа прижала Веру к поручню.
Пароход уже основательно завалился на противоположный бок. Вера могла видеть внизу, под собой, маслянистую воду, а на ней – несколько спасательных плотов. Они были усеяны сидящими растерянными людьми. В воде вокруг белели людские лица. Руки цеплялись за плоты. Кого-то втаскивали… А сверху – над водой, плотами, плавающими людьми – косо нависал накрененный белый бок парохода. На боку чернели кружки иллюминаторов.
«Боже мой, где-то там, в каюте, мама и папа!»
Тут Веру подхватили чьи-то сильные руки и швырнули вниз, в воду. Она закричала: «Мама!» – почувствовала, что летит. Зажмурилась.
Удар о воду. Она ушла вниз с головой. Вокруг – теплая, черная вода. Вера рванулась вверх, к спасительному воздуху. Вынырнула, судорожно задышала. Открыла глаза. Над нею нависал, вздымался в черное небо – гигантским белым накрененным домом – светлый бок корабля с кругляшками темных иллюминаторов.
Возле нее болтался на воде красный спасательный плот. На нем белели напряженные, испуганные, молчащие люди. Кто-то протянул ей с плота весло: «Хватайся!» Она машинально повиновалась. Мозг перестал соображать. Цепляясь за весло и за канатцы вдоль бортика, она взобралась на плот. Мокрые джинсы и футболка противно обтянули тело.
– Тринадцать! – пересчитали с ней вместе. – Еще двоих можно взять.
– Вместимость – десять, – проскрипел кто-то.
– Заткнись! – грубо ответили ему. И втащили на плот еще двоих, женщину средних лет и рыдающую девчонку-школьницу.
– Весла на воду! Греби, а то засосет!
Белый борт «Адмирала Нахимова» с черными рядами иллюминаторов еще сильнее запрокинулся в противоположную от них сторону.
В этот момент на берегу – оказывается, земля так близко! – что-то сверкнуло. По бухте пронесся ослепительный луч прожектора. Порыскал туда-сюда по воде. Нащупал гибнущий пароход. Остановился.
В мощном луче прожектора терпящий бедствие «Нахимов» стал виден беспощадно и отчетливо. Вера охнула, закрыла рот ладонью.
Теплоход уже совсем завалился на противоположный от них борт. Его левый бок косо смотрел своими черными иллюминаторами в небо. На палубах было полно людей. С кормы и носа некоторые прыгали в воду. Кто-то, словно с горки, съезжал по завалившемуся белому боку парохода в воду. Кто-то, напротив, отчаянно цеплялся за поручни, пытаясь удержаться на палубе. Вокруг тонущего парохода болтались на черной воде красные спасательные плоты, оранжевые шлюпки, мелькали белые лица людей.
Спасательный плот, на котором оказалась Вера, был самым организованным. На веслах сидели двое мужчин – один из них в морской форме. Они изо всех сил гребли прочь от тонущего «Нахимова».
Вдруг Вере показалось, что на корме парохода, на второй палубе она видит маму – ее бирюзовую ночную рубашку ни с чем не спутаешь.
– Мама! – истерически закричала она.
Фигура в бирюзовой рубашке прыгнула за борт. Одновременно с ней от борта отделился еще один человек – Вере показалось, что она узнала отца.
– Это моя мама! – истошно закричала Вера. – Гребите к ним!
Ей никто не ответил, а их плот продолжал удаляться от тонущего парохода.
– Пожалуйста! – отчаянно выкрикнула она, обращаясь к морскому офицеру в белой мокрой рубашке, видимо, старшему здесь.
– Нельзя! – строго ответил он ей. Он ни на секунду не прекращал грести прочь от теплохода. – Затянет в воронку, все подохнем.
Да пропади он пропадом, этот плот! Она спрыгнет с него и поплывет к родителям! Она попыталась броситься в воду.
В последний момент ее удержали.
– Стой, идиотка!
Вера забилась в чьих-то крепких руках, зарыдала… Один из пассажиров плота вздохнул. Затем достал из своего портфеля (он почему-то был с портфелем) бинокль. Протянул ей.
– Зачем? – прошипел другой пассажир.
– Пусть смотрит, ей легче будет… Они спасутся, деточка, – ласково обратился к ней мужчина, – я тебе обещаю…
Вера схватила бинокль, прижала к глазам.
Луч прожектора с берега по-прежнему ярко освещал тонущий пароход и все, что происходило рядом с ним. Настраивая бинокль, Вера пыталась высмотреть в черном пространстве, которое вдруг благодаря биноклю приблизилось к ней, своих родителей. Глаз натыкался на поверхность воды, на какие-то деревяшки, вещи, чужие лица, искаженные страхом… И вдруг – она поймала в окуляры маму.
Да, это действительно была она. Лицо какое-то безжизненное. Глаза, кажется, закрыты. А рядом с ней – на поверхности темной воды белело лицо отца. Оба они держались руками за какой-то деревянный обломок.
Вера видела их обоих, и маму, и отца, в магниевом свете берегового прожектора столь же ясно, будто они были рядом с нею. Но что с мамой? Глаза закрыты. Она без сознания? Вера присмотрелась и заметила, что отец пытается затащить ее на обломок дерева, а мамино тело не слушается, сползает. Неужели сердце прихватило? Или ударилась? Наглоталась воды?
Из Вериной груди вырвался стон. Она прошептала: «Мамочка, я прошу тебя!»
И бог услышал ее. Папе удалось затащить маму на деревянный обломок. Вот он обернулся к тонущему «Нахимову». Вере показалось, что она различила гримасу ужаса на его лице. Вот папа мгновенно принял решение и начал стремительно грести, удаляясь прочь от корабля. «Быстрей, папочка! Быстрей!» – стонала Вера.
– Эй, дай и мне посмотреть! – попросил кто-то с плота.
– Не трогай ее! – зашипели на невежу.
Вера не сводила окуляров с родителей. Бинокль дрожал в руках; плот, на котором она сидела в компании спасенных, непрерывно двигался, поэтому родители то и дело исчезали из поля зрения, но Вера раз за разом снова и снова находила их.
Ну отец, молодчина! Гребет, как на соревнованиях, будто ему и не приходится работать одной рукой, а второй волочь за собой тяжелый груз – деревянный обломок и маму на нем… А что же с мамой?
Вера на секунду оторвала глаза от бинокля и посмотрела на тонущее судно. Пароход уходил под воду все быстрее, и стало ясно, что он утонет через минуту – а может быть, через пару десятков секунд.
Белая громада «Нахимова» лежала теперь почти всем своим правым бортом на воде… Труб не было видно… А на палубе еще заметны в нестерпимо ярком свете прожектора людские фигурки. Кто-то в отчаянии прыгает в воду. Кто-то кубарем слетает по борту парохода вниз. А кто-то остается на палубе.
Люди обнимаются. Падают ниц. Или воздевают руки… И вот вся корма парохода скрылась под водой… Вместе с людьми… Нос корабля неестественно задрался… Боже!
Вера снова прильнула к биноклю и нашла родителей. Они далеко от тонущего парохода… Наверно, теперь воронка, куда тонущая громадина засасывает все с поверхности воды, папе и маме не страшна? Кажется, они уплыли?.. Спаслись? И тут…
Вера четко видела в окуляры своего бинокля: откуда-то из черноты воды и неба выплывает мужчина и одним резким движением вырывает из-под мамы спасительное бревно. «Мама…» – беззвучно шепчет Вера. Мамино лицо тут же скрывается под водой.
– Мама! – отчаянно кричит Вера.
А человек подхватывает деревяшку, на которой лежала мама, и с размаху обрушивает ее на голову не успевшего ничего понять отца.
На секунду в свете берегового луча Вера отчетливо видит лицо убийцы: черные, остекленевшие глаза, щеки в мазутных потеках, серебристо-седая прядь в мокрых слипшихся черных волосах…
Вера видит это лицо первый и последний раз в жизни, но оно запечатлевается в ее памяти с точностью фотографического снимка… На поверхности черной воды в серебристом свете прожектора, – только одно оно, это лицо… Этот человек… Этот черный человек… И его руки – чужие белые руки, цепляющиеся за спасительную деревяшку… А рядом, около, возле – нигде! – на поверхности воды не видно ни мамы, ни отца…
На Веру волной накатывает морская соленая муть… Она роняет бинокль и проваливается куда-то – в холод, во мрак… Наверное, это она камнем идет на морское дно… А родители, живые и здоровые, сидят в безопасности на плоту…
Вера дорого бы дала, чтобы никогда не просыпаться. Не приходить в себя. Остановить мгновение. Ей было мягко, покойно. Она лежала на плоту и чувствовала, что летит в приятную бездну, и жизнь вокруг – ее не касается.
Но ничего не получалось.
«Вставай, спящая царевна!» – ее немилосердно трясли за плечи. Вера пошевелилась, попыталась открыть глаза… Веки не слушались, ресницы не разлеплялись. «Ну конечно! Мне все это снится!»
– Эй, глаза только не открывай! – услышала она над самым ухом.
Ну почему они не оставят ее в покое!
Вера поднесла руку к лицу, и ее пальцы уткнулись во что-то густое, клейкое.
– Что это? Кровь? – прошептала она.
В лицо метнулся луч фонарика.
– Какая там кровь, – буркнул мужской голос. – В мазут попала… Сиди тихо, ладно?
Она почувствовала, как грубые мужские пальцы пытаются что-то сделать с ее глазами, давят, мнут их.
Вера всхлипнула:
– Что вы делаете?
– Ну ты нытик, – пробурчал мужчина. – Глаза я тебе разлепляю. В воде мазут пополам с краской был. Ты лицо не протерла. Сразу в обморок грохнулась. Ресницы вот теперь склеились.
– Где мы? – прошептала она.
– В море, – спокойно ответили ей. – Ждем спасателей.
– А… а мои родители?
Ответом было полное молчание. Даже детский голосок, который все всхлипывал где-то рядом, притих.
С ней говорило только море. Люди сидели тихо. А волны тревожно шелестели – кажется, начинался шторм.
Мозг помнил и понимал – ее родителей больше нет.
Или…
Но не было и ощущения горя, хотя оно бродило рядом, пряталось где-то поблизости. И еще брезжила крошечная надежда… Надежда – что ей все показалось. Что проклятый бинокль исказил реальность. Что это были не родители. Или что нападение на них ей привиделось.
И еще было одно чувство, безумное, но такое сладкое… Чувство, что она по-прежнему просто спит…
– Давай открывай глаза-то! – приказал ей мужчина.
Она попыталась и тут же вскрикнула от боли.
– Не так резко… Я ж не все ресницы тебе расклеил. Давай-давай, помаленечку.
Вера послушалась. И с трудом, подавляя слезы, она раскрыла глаза. Увидела расплывчатое, как сквозь дальнозоркие очки, лицо, склоненное над ней. Моряк в мокрой форме, на белой ткани уродливо чернеют мазутные пятна. А вокруг все то же темное море. На темной глади вспыхивают кое-где барашки волн. Их плот – в море. Скрюченные, замерзшие фигуры. Сидят, полулежат. Двое мужчин – на веслах. Она только сейчас присмотрелась: одежда и лица у всех перепачканы, черный фон с голубыми разводами. Только глаза живут, лихорадочно поблескивают.
За ней наблюдала какая-то женщина. Тоже в мазуте. Мокрое платье прилипло к телу, волосы сбились в колтун. Но глаза спокойные, голос уверенный:
– Ничего страшного. Мазут смывается. Краска тоже. Главное – мы живы.
Вера тщетно искала глазами пароход. Ничего похожего. Мерцают огоньки города, вдалеке семафорит маяк. И кругом море, неприветливая черная вода.
Как-то странно она возвращается к реальности. Что-то видит, а что-то – нет.
– Где «Нахимов»?
Пассажиры плота переглянулись. Никто ей не ответил.
– Он… утонул? А люди?!
– Люди… – тяжело вздохнул кто-то из мужчин-пассажиров. – Кто смог отплыть – спасателей ждет, как и мы. Остальных – в воронку затянуло.
Мужчина говорил так спокойно, будто просил продавщицу упаковать тортик повкуснее. И его будничный тон всколыхнул, взорвал дремавшее где-то в глубине души горе. Вера разрыдалась. Все было слишком реально: уродливый плот, перепачканные спасшиеся люди, бухта, прохладный морской ветер.
– Слушай, хватит реветь! – раздраженно прикрикнула на нее еще одна пассажирка. Женщина нервно теребила подол мокрого платья, ее глаза злобно сверкали. – Вопишь, как белуга!
Вера аж задохнулась от обиды:
– У меня… у меня родители утонули!!!
– Ну и что? – истерически крикнула женщина. – Подумаешь, фифа. А у меня муж пропал. Здесь у всех горе, и все молчат!
– Тихо, тихо, без шума! – строго приказал моряк.
И, не обращая внимания на скандалистку, обратился к Вере:
– А у родителей твоих шанс еще есть. Ты как сознание потеряла, я бинокль взял. Видно было плохо, там свалка началась, народу полно – все от воронки отплывали. Но точно тебе говорю – там и плоты ходили, и сухогруз, что в нас врезался, – тоже. Наверняка подобрали их. Так что не хорони раньше времени. Плохая примета.
Вера попыталась улыбнуться. Губы непослушно скривились в кислую ухмылку. Слов не было, даже простое «спасибо» с губ не слетало. За что ей благодарить этого моряка с «Нахимова»? За чудесный круиз? За восхитительную ночную прогулку на плоту? Он-то жив, командует тут всеми, начальником себя мнит. А ее родители…
«Не думай об этом!» – приказала она себе.
Вера поднесла к глазам свои часики. Механизм оказался действительно водонепроницаемым – секундная стрелка бежала по кругу бодро, будто ничего не случилось. Без десяти двенадцать. Заканчивался последний день лета. Последний день каникул. Последний день беззаботного детства…
Мама предупреждала ее, что становиться взрослой довольно сложно. И даже болезненно. Но мама не говорила, что это так болезненно.
Вера предусмотрительно отодвинулась подальше от истеричной дамочки и тихонько заплакала.
…Их плот обнаружили в половине первого ночи. Откуда-то из мрака вынырнул катер, подошел на малых оборотах к плоту.
– Сколько вас? – крикнули с борта.
– Пятнадцать!
– Трупы есть?
– Нет.
– Подымаем, готовьтесь.
Вера вскарабкалась по веревочному трапу на палубу. Ей помог перелезть через бортик усталый матрос. Он легко взял ее на руки, на секунду прижал к себе и аккуратно поставил на палубу. Проговорил быстро:
– Сейчас как тронемся, я тебе бензин дам. Почистишься.
– Эй, Васька! Шевелись! – рыкнул на него начальник.
Васька мгновенно растворился в темноте.
Вера подумала холодно: «А мой Васька… Если бы он был на «Нахимове»? Он бы придумал, как спасти нас. Жалко, он не пробрался «зайцем»… Да я ему и не предлагала… Интересно, где он сейчас? Едет на попутной машине в Сочи?»
Вера попыталась осмотреться. Старый задрипанный катер был плохо освещен и уже наполовину заполнен спасенными. Перепачканные мазутом, мокрые, несчастные люди сидели прямо на палубе. Почти все молчали. Вера попыталась рассмотреть попутчиков, заглянуть им в глаза. Но глаза были пусты. И похожи. Казалось, что здесь собрались сплошь близнецы. С одинаковым выражением лиц: смесь страха и безысходности.
Вера устроилась в самом дальнем уголке на корме. Подальше от всех. Не видеть бы этих лиц! И матрос с его бензином ей не нужен. Не будет она чиститься. Наплевать.
Она слышала отголоски работы матросов, их разговоры, плеск воды, шум двигателя. Но все звуки пролетали мимо, как пейзаж за окном быстро несущегося поезда. В голове стучало, будто в такт мерному движению по рельсам: «Мама! Папа!» Хотелось вскочить, завизжать, затопать ногами – но не было сил подняться. Хотелось забиться в самый укромный угол, спрятаться, забыться… Она все больше и больше сжималась – подтянула ноги, обхватила их руками, спрятала лицо в коленях… Но все равно поезд ехал, и качался на стыках рельсов, и надсадно грохотал: «Папа! Мама!» И еще в голову лезли глупые мысли: утонула вся одежда. И ее личная заначка – десять рублей, что она спрятала в каюте. И паспорт. Интересно, где ее паспорт? Кажется, мама держала его в своей сумочке…
Вера пришла в себя, только когда их катер – кажется, он назывался «Базальт» – оказался у пристани. У того же причала, откуда несколько часов назад отплывал «Нахимов».
Вера увидела ярко освещенное здание морвокзала, полускрытую в ночной тьме панораму города. Вспомнила свои мысли двухчасовой давности: «Да вернусь ли я когда-нибудь в этот Новороссийск?»
Она думала возвратиться сюда – ну, может, в командировку, – когда она уже будет работать на солидном предприятии. Или даже в свадебное путешествие.
Но она вернулась – гораздо раньше. Очень скоро. Слишком скоро…
И опять, будто фильм крутят задом наперед, – набережная, здание морвокзала… Она машинально поискала глазами пальму, у которой они недавно стояли вместе с Васькой, прощались. И смотрели на красавец «Нахимов», готовый продолжить черноморский круиз… Их пальма была на месте. Но теперь вокруг нее, прислонясь к кадушке, сидели мокрые, грязные, потерянные туристы.
Пустынный накануне морвокзал был заполнен до отказа – человек триста, не меньше. Но Вера знала, что ее родителей здесь нет. Подсказывала интуиция, шестое чувство, невидимая нить, связывающая ее с мамой и папой… Та же интуиция говорила ей, что здесь нет и того человека, кто вырвал у папы спасительную деревяшку. И морского волка Мишеньки нет тоже…
К Вере подошел милиционер. Спросил ее фамилию, место жительства, с кем путешествовала. Она отвечала спокойно, механически:
– Веселова… С родителями… Да, они тоже Веселовы. Здесь их нет…
Вера ни слова не скажет о том, что ее родителей погубили. Точнее, скажет, но не здесь и не сейчас.
Милиционерик – совсем молоденький! – внимательно посмотрел на нее и быстро отошел. Вернулся через пару минут вместе с врачом. Вера услышала приглушенное: «шок… успокоительное…»
Ей закатали рукав, сделали укол в предплечье, сказали:
– Сейчас поедем в гостиницу…
– Нет, – спокойно отвечала она. – Я буду ждать родителей.
– Может быть, завтра? Мы ведем списки… Их привезут прямо к вам!
– Нет! – она повысила голос. – Я буду ждать их тут. Оставьте меня в покое!
Врач что-то шепнула на ухо милиционеру. Тот согласно кивнул, опять отошел, вернулся с одеялом в руках. Набросил ей на плечи. Она равнодушно поблагодарила. Потом к ней подходила насмерть перепуганная девушка в крахмальном белом халате. Девушка что-то делала с ее лицом – кажется, счищала мазут и промывала глаза. Вера видела, что та смертельно волнуется – первый раз, что ли, такое задание? Ватка, которой водили по лицу, противно воняла, в глазах щипало. И Вера с непонятным самой себе садистским удовольствием кричала на девушку: «Больно! Аккуратней!» И была самой себе противна, а молодая медсестра то краснела, то бледнела…
На морвокзал привозили все новых и новых спасенных. Новых инопланетян – мокрых, с мазутными лицами. Кому-то удавалось встретить своих, и Вера зажимала уши, когда слышала ликующее: «Папочка! Папа, я здесь!»
Остальные потерянно бродили по залу, заглядывая в лица товарищей по несчастью. Вера надеялась, что она встретит хотя бы Мишку. Но из знакомых она нашла только соседку по их четырехместному столику в ресторане и свою верную попутчицу по корабельной дискотеке разведенку Женьку.
Евгения старалась держаться грустно – как все вокруг. Но Вера почувствовала, что на самом деле Женьку переполняет счастье – от того, что она жива и что никого из близких у нее на «Нахимове» не было, и она отделалась потерянным чемоданом да испорченным отпуском.
– Верочка, ты в порядке? А родители?
– Родителей нет, – жестко ответила Вера.
Женя тут же нацепила гримаску сочувствия:
– Ну не волнуйся! Сейчас их привезут! Они где были, в каюте?
– Да, в каюте. На нижней палубе.
Евгения тут же принялась рассказывать о себе:
– А мы в «Рубине» сидели, с девчонками. Когда этот гад в нас врезался, мне стюард велел сразу прыгать и грести от парохода подальше. Я испугалась вусмерть, но прыгнула. А девчонки побежали в каюту, за спасательными жилетами. И их нет пока… Пойдем вместе посмотрим?
Вера кивнула. С трудом поднялась. Почувствовала, что ее покачивает, а язык еле поворачивается, выдавливая слова. С трудом объяснила:
– Мне врачиха какую-то дрянь вколола…
– Наркоту! – авторитетно пояснила Евгения. – Мне тоже предлагали, но я отказалась.
– Да меня не спрашивали, – поморщилась от ее громкого голоса Вера.
– Идти-то можешь? Давай поддержу!
Вера захватила с собой одеяло и оперлась на Женину руку. Они обошли весь зал. Встретили новую партию спасенных. Безрезультатно. Время близилось к пяти утра. Обеих била дрожь – почти шесть часов они были в мокрой одежде. Противная влажная ткань обтягивала тело, отбирала все силы…
– Верк, пойдем в автобус, а? – робко предложила Евгения. – Все равно ничего не высидим…
Вера тупо кивнуло. Похоже, ей действительно вкололи какую-то отраву. Ноги стали тяжелыми, глаза закрывались, а в мозгу теперь стучало: «Может, все не так и плохо? Может, они найдутся? Утром? А я пока высплюсь…»
Они направились к выходу. Дежурившие у двери милиционеры радостно спросили:
– Решили ехать? Отлично, вам повезло. Сейчас как раз отходит автобус. В лучшую гостиницу города!
– Как называется? – полюбопытствовала Женька.
– «Новороссийск».
Веру передернуло. Кажется, она будет ненавидеть слово «Новороссийск» до самой смерти.
В гостинице Веру поселили в одной комнате с Евгенией.
– Только когда придут родители, ты переедешь, ладно? – попросила Вера.
Горничная принесла чаю, пообещала, что утром в номер доставят завтрак, а днем привезут одежду со складов «Курортторга».
– Горячую воду дали, представляете? – щебетала она. – У нас в городе ночью никогда горячей воды не бывает, а из-за вас дали!
«Давай вали отсюда!» – мысленно внушала болтушке Вера.
Но Женя, кажется, была настроена поддержать беседу.
– Мы счастливы, что в гостинице есть вода, – саркастически произнесла она. – А телефон тут работает?
– Телефон… телефон… пока связи нет. Но обещали наладить!
– Хорошо, а телеграф?
– Внизу. Только они телеграмму со словом «катастрофа» не примут, я уже узнавала. Указание такое.
– Верка, ты слышишь? – хохотнула Евгения. – Чумовые тут указания! И чего же мне предкам отбить, чтобы они с ума не сходили?
«Напиши: «У меня, у скотины, все в порядке», – подумала Вера. А вслух сказала:
– Отправь просто: «Я в Новороссийске, все хорошо». Тебя поймут.
…Она сама на телеграф не пошла. Не было сил и не было слов. Что писать бабуле: «Я жива, родители погибли»? А вдруг… вдруг… Да и голова была тяжелой, непослушной. Мысли путались.
В окно ломилось свежее южное утро. Стоя под теплым душем, Вера подумала: «Вот вам и первое сентября… Дети собираются в школу!»
Она с трудом доползла до кровати и мгновенно провалилась в тяжелый сон. Часы показывали половину восьмого утра. Любящие родители уже разбудили юных новороссийцев и наряжали их к праздничной школьной линейке…
…Вера проспала недолго. В десять ее разбудила Евгения:
– Пошли скорей, там списки висят!
Вера резко вскочила. Застонала от боли: голова раскалывалась. Она сжала зубы и потянулась к одежде. Джинсы и футболка превратились в грязный темный комок.
Женя фыркнула:
– Забудь! Я тебе принесла… – она протянула ей бесформенное платье мышиного цвета.
– Откуда? – Вера подозрительно понюхала новую одежду.
– Не боись, новое. Хоть и не модное. В холле раздают. И тапки вон, тридцать седьмого размера. У тебя вроде такой?
– Спасибо, – вяло поблагодарила Вера.
Платье висело на ней, как на чахоточной. Тапки противно хлопали. Но ей было все равно.
Они поспешно спустились в холл. Горничные с этажа проводили их любопытными взглядами.
Списки белели на деревянном стенде у стойки администратора. Рядом никого не было. «Они уже часа два висят, а я только сейчас узнала», – объяснила Евгения.
Вера решительно подошла, отыскала букву В – и покачнулась. В глазах замаячили противные радужные круги. Женя предусмотрительно подхватила ее под руку.
– Ва… Ве… Вено… Вес… Веселовых нет, – расстроенно прочитала ей Евгения.
Чуть в стороне от больших листов ватмана висело полотно поменьше. Женя постаралась заслонить от Веры заголовок: «ПОГИБШИЕ». Не получилось. Вера сквозь зубы пробормотала:
– Ищи там!
– Тоже нет! – ликующе крикнула Женька.
Вера справилась с собой. Отогнала противную слабость. Сама уткнулась в список погибших – фамилии родителей там действительно не было. Она прочла список по второму разу. Вздрогнула, увидев: «Маркевич Михаил Геннадьевич, Одесса». Мишенька…
Вера не удивилась. Она почему-то была в этом уверена. Еще вчера знала: Мише спастись не удалось. Только почему она ничего не чувствует? Ни горя, ни слез? Даже вспомнить не может, как Мишка выглядел…
Изничтожить бы свою интуицию! На корню изжить чутье, чтоб его… Вера так надеялась, что чутье ее обманет. Обманет насчет Мишки. И – насчет родителей!!!
Может, ей все-таки повезло? И им – повезло? Ведь в списках погибших их нет?
– Но где же тогда они? – прошептала Вера.
Подле списков дежурил представительный мужчина в морской форме. Рядом с ним стояли двое в белых халатах. Из-за стойки наблюдала администраторша.
Евгения решительно обратилась к мужчине в форме:
– У девушки родители пропали. Ни в одном списке их нет.
– Списки пока неполные. – Неуверенные, робкие нотки в тоне офицера совсем не вязались с его внушительной внешностью.
– А когда будут полные? – требовательно спросила Женя.
Мужчина виновато пожал плечами:
– Спасательные работы ведутся… Поисковые – тоже.
– Прошло, – Женя выразительно взглянула на часы, – практически полсуток…
Офицер отвернулся:
– Мы делаем все возможное.
По-хорошему, скандалить и придираться нужно было Вере, а вовсе не Женьке. Но ей казалось неловким кричать на этого солидного офицера. Да и не умеет она орать…
Тем более при чем тут этот моряк… Ему и самому тяжело. Он отворачивал лицо, прятал глаза, мялся…
Вера вежливо спросила:
– Когда можно ждать новостей?
Он поспешно ответил:
– В двенадцать. Потом в два. И так до вечера… Каждые два часа – новые списки.
– А этот список, где погибшие… там совсем мало людей… Вы почти всех спасли?
Офицер закашлялся. Кашлял долго, старательно отворачивался, вытирал носовым платком слезы.
Вера терпеливо ждала, не сводила с него глаз. Наконец он спрятал платок в карман и сказал тихо:
– В этом списке только те, у кого при себе имелись паспорта. И кого удалось опознать.
Вера почувствовала, как грудь заполняет злобный, тягучий холод. С ужасом посмотрела на него. Офицер сказал еще тише, почти шепотом:
– Трупы привозят на пятнадцатый причал…
…Вера действовала как автомат. Словно робот, запрограммированный на выполнение тяжкой, но нужной работы. Она не стала ждать автобуса, пошла по набережной пешком. Все равно недалеко, здание морвокзала из окна гостиницы видно.
Вера ничего не сказала Евгении, когда та виновато пролепетала: «Ну, я с тобой, наверно, не пойду…» Вера не замечала удивленных взглядов, которые прохожие бросали на нее и на ее странное платье. Не чувствовала солнечного жара, что давил на голову. Она просто шла и шла. Без чувств и почти без мыслей. Единственный раз подумала: «Был бы Васька рядом!»
Но Василия нигде не было. Рядом вообще не было никого. Ни врача, ни доброго милиционера, ни хоть какого защитника.
Первое, что Вера увидала на набережной, – уродливый корабль с развороченным носом. Он стоял на самом ближнем к гостинице пирсе. Там толпился народ, вездесущие мальчишки швыряли в поверженное судно камнями. Вера равнодушно прошла мимо. Ей было неинтересно… Спросила у кого-то, где пятнадцатый причал. Ей показали. Зашептались вслед. Она не обернулась, пошла дальше.
Пятнадцатый причал прикрывал милицейский кордон. Вера не обратила внимания на милиционеров, перешагнула через невысокое заграждение.
– Женщина, вы куда? – тут же бросились к ней.
– Искать родителей, – спокойно ответила она.
– Можно ваш паспорт?
Вера пожала плечами:
– Мой паспорт где-то в «Нахимове».
Слово «Нахимов», кажется, было здесь паролем. Милиционер тут же повел ее к одному из рефрижераторов.
Она не успевала за его скорым шагом. Перед глазами опять замаячили цветные круги.
– Эй, стойте! – с трудом выдавила она.
Милиционер обернулся и поспешно вернулся к ней. Взял под руку. Крикнул кому-то:
– Врача сюда!
– Не надо врача! – Она постаралась быть решительной. – Со мной все в порядке, просто держите меня под руку! Куда надо идти?
Милиционер не стал настаивать на враче. Проводил ее до вагона.
– Сами подниметесь?
– Да! – уверила она его и шагнула на первую ступеньку железной лесенки.
Дверь вагона между тем отворилась.
– Ве-ра! – услышала она сдавленное.
Ей навстречу спускался Василий.
Она вздрогнула, замерла. Смотрела ему в глаза и не могла вымолвить ни слова. Губы шевелились, но слов не было.
Его лицо сказало ей все.
Говорить больше было не о чем.
Вася приблизился к ней. Обнял. Прошептал:
– Я искал там тебя… наврал, что ты моя жена… А там… там… – его голос сорвался.
– Я хочу их видеть! – с трудом выдавила она.
Василий сказал твердо:
– Увидишь. Сейчас успокоишься, пойдем – и увидишь.
Она прижалась к его футболке и поняла, что заплакать не может. Вместо слез из груди вырывались противные вороньи хрипы.
– Вася, Вась, – с трудом выдавила она. – Их убили!
…Вася Безбородов оказался единственным человеком, кто ей поверил.
Но Вася был семнадцатилетним первокурсником без денег, жизненного опыта и связей. Он сказал, что надо бороться. Он ходил вместе с Верой к начальнику порта и в милицию, в исполком и в местное управление КГБ.
Веру, как пострадавшую с «Нахимова», все начальники принимали без разговоров и без очередей в приемных. Только… «Вы можете показать того человека? Знаете, кто он? И где он сейчас? Нет? Тогда какие к нам претензии?» И, сбавив тон на ласково-сочувственный: «Верочка, мы понимаем, у вас горе. Вы были в кризисной ситуации, в шоке… Вам могло привидеться что угодно».
Она билась головой в глухую стену. Утром четвертого сентября ей сказали, что сегодня – последняя возможность улететь домой бесплатно. Больше самолетов не будет. «А как вы тогда будете добираться? Без денег? Без документов? И… и… – тут чиновники сразу терялись, – с таким, м-мм, грузом?»
И Вера сдалась. Пока сдалась.
…Они с Васей улетели из Новороссийска вечером четвертого сентября спецрейсом до Куйбышева. В хвосте военно-транспортного самолета стояли два гроба.
Каникулы кончились. Начиналась взрослая жизнь.
3
Пока официант все приносил и приносил закуски, Вера чуть не грохнулась в обморок. Голод был настолько нестерпимым, а ароматы изысканных блюд – столь дразнящими, что она с трудом понимала, что с ней происходит.
Стены ресторана покачивались и плыли. Откуда-то издалека доносилась музыка. «И снится нам не рокот космодромаа, не эта ледяная синева…» – надрывался отдаленный стенами ансамбль. И звуки песни, и голоса двух мужчин, сидевших рядом за столиком, доходили до Вероники словно сквозь плотную вату. Она почти не понимала, о чем говорят ее взрослые собеседники. Прикрыв рот полотняной салфеткой – чтобы спутники ни о чем не догадались, – она судорожно сглатывала слюну. Но папики увлеклись беседой между собой и, похоже, не понимали, что происходит с Верой. Зойка же натянуто улыбалась и временами посылала Верочке ободряющие взгляды.
А официант тем временем все таскал и таскал в отдельный кабинет подносы, полные закусок. В них российская роскошь сочеталась с азиатской тонкостью. Вазочки с красной и черной икрой, украшенной маслом; салат «Узбекский», остро пахнущий мясом и жареным луком; рыбное ассорти, разукрашенное веточками петрушки и маслинками, плошки с соленьями…
Молодой прислужник точно и споро расставлял блюда по столу. Искоса он бросил пару взглядов на Зойку и Веронику – взглядов почти незаметных, однако остро-внимательных.
Кажется, только этот юный невозмутимый официант заметил состояние Вероники и понял, что она голодна.
Он вообще слишком многое уже видел в своей жизни, этот парнишка. Поэтому хорошо понимал, зачем два стареющих джентльмена пригласили сюда, в отдельный кабинет ресторана «Узбекистан», двух шалашовок. И почему юные девицы отправились с папиками. Расклад очевиден: пожилые и богатые люди познакомились с юными и голодными студенточками. Судя по одежде, говору и манерам, не москвичками, а общежитскими. «А может, они и не студенточки вовсе, а простые работницы откуда-нибудь с ЗИЛа или с „Динамо“. Или другая лимита…»
Сейчас, думал официант, папики до отвала накормят девчонок. Ну и напоят, конечно. Потом, когда те дойдут до кондиции, отправятся c ними танцевать. Затем примутся лапать прямо за столиком. К этому моменту нужно подгадать и поднести клиентам счет. Распаленные мужики проверять его в таком состоянии не станут (хоть десять порций икры вписывай вместо четырех). На чаевые не поскупятся. Затем папики выволокут объевшихся и подпивших лимитчиц из ресторана, поймают такси, отвезут их на хату, где шалашовки в знак благодарности за еду, питье, такси и за счастье провести вечер не в тусклой общаге, а в красивом и ярком помещении просто обязаны будут удовлетворить самые изощренные сексуальные прихоти джентльменов.
«Да, именно так все дальше и случится», – наперед понимал молодой официант. И потому, предвкушал он, с гостей можно будет получить зашибительные чаевые: включая прямой обман рублей, наверное, на семьдесят. Или даже сто.
Подавальщик работал споро и красиво. Он видел, как балдеют от запахов и вида ресторанной пищи лимитчицы, однако был слишком хорошо вышколен и воспитан, чтобы нескромным взглядом или намеком оскорбить «дорогих гостей». Кроме того, один из пожилых мужчин являлся его постоянным клиентом, звал по имени и всегда оставлял изрядные чаевые. Поэтому безо всякого меню и заказа Жорик (так звали официанта) приносил к столу, накрытому в одном из отдельных кабинетов «Узбекистана», самые изысканные закуски и напитки.
Знал бы официант Жорик, насколько сильно он ошибался относительно намерений и устремлений сидевших за столом девушек – по крайней мере, одной из них! Знал бы он, что иная цель, очень далекая от низменного желания поесть и выпить на халяву, привела сюда Веронику!..
Однако в одном был прав юный официант: в том, что Вера очень хотела есть. Сейчас всем гастрономическим ресторанным изыскам она предпочла бы блюдо жаренной на сале картошки. Или хлеба с горчицей. Лишь бы побыстрее! И только бы не видеть, не слышать и не говорить с папиками. Зачем она в это ввязалась!..
…Если бы Веру спросили, какое самое сильное впечатление осталось у нее от первых месяцев жизни в столице, она могла бы, не задумываясь, ответить: голод.
И еще: одиночество. И – враждебность. И – тоска.
Но она никогда и никому этого не говорила. Потому что ее никто об этом не спрашивал.
Она была никому не интересна.
Сентябрь… Возвращение из катастрофического Новороссийска в родной Куйбышев… Похороны родителей… Речи. Поминки. Гости…
Все это пронеслось мимо нее стороной. Она жила, что-то делала – то мыла посуду, то говорила с кем-то, то улыбалась, то плакала, – но вроде бы это происходило не с ней. Будто бы она смотрела на жизнь со стороны. Словно бы видела чужое, трагическое и неприятное кино.
Это и было – кино, выдумка, вымысел. Поверить в него – невозможно. Родители на самом деле – в командировке. Или в турпоходе. Или в гостях в другом городе. Они где-то далеко и вернутся не скоро, но они – на Земле.
Вероника снова ощутила себя в реальной жизни только в поезде, увозившем ее из Куйбышева в Москву. Шло пятнадцатое сентября тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, она являлась студенткой первого курса Московского радиотехнического института, в ее сумочке лежала справка, выписанная их «домашним врачом» Леной Палной, что Вероника Веселова перенесла грипп. А дома, в Куйбышеве, оставались две свежие могилы родителей, трехкомнатная квартира в центре города, на берегу Волги, и бабушка.
И еще – воспоминания.
Дома, то есть в их родной квартире, и дома – в ее любимом городе – о родителях Веронике напоминало все.
И она сбежала от этой памяти.
Вера наивно думала, что вдали от родной квартиры и родных улиц ей станет легче. Она перестанет мучительно вспоминать: сколько мне тогда было? Лет десять? Я взяла из маминой сумочки рубль, очень хотелось сходить в луна-парк… А вечером бабушке стало плохо, и мы вызывали «Скорую», и мама полезла в сумочку дать врачам денег, а денег не оказалось… Мама расстроилась, она решила, что этот чертов рубль просто потеряла… Называла себя растяпой… А мне было так стыдно…
Может, в Москве ей удастся обо всем забыть?
Здесь ни до нее самой, ни до ее горя никому не было дела.
Вера предъявила справку о болезни, взяла направление в общагу, встала на учет в комсомол.
Она не хотела, чтобы ее жалели.
А ее никто и не собирался жалеть. Ни одна душа в институте, да и во всей Москве (кроме Васечки), не знала о том, что она сирота. О том, что ее родители погибли на «Нахимове». И о том, что, кроме как на сорокарублевую стипендию, ей не на что жить и неоткуда ждать помощи.
Общежитие поразило Веру сочетанием запустения и загула, братания и враждебности. В коридорах до утра не гас люминесцентный свет. То в одной, то в другой комнате ночь напролет, мешая спать остальным, пили, ругались, плакали и пели. Кто-то в три часа ночи жарил картошку на общей кухне. Кто-то пытался заниматься в рабочей комнате, зажимая уши ладонями. Кто-то возился, целуясь на черной лестнице. Кто-то в комнатах храпел, а кто-то пытался спать, тщетно прижимая к уху подушку…
Веру поселили в комнату на троих. Ее соседками оказались скучная, унылая Жанна откуда-то из деревни под Липецком и прямая ей противоположность – кипучая, деятельная, мощная Зойка из донбасской Горловки.
Три кровати, три тумбочки, скрипучий платяной шкаф. Рядом с комнатой – ванная с отбитым кафелем и ржавой раковиной. Они делили санузел пополам с другой комнатой – стало быть, на шестерых. Все время возникали стычки, кому в какой черед мыться.
Чтобы стипендии хватило хотя бы на пропитание, Вере приходилось обедать (а порой и ужинать) в студенческой столовке. Льготный талончик на один обед стоил тридцать копеек. Но, боже, что это были за обеды! Вера, взращенная на бабушкиной пище (она и в детский садик ни дня не ходила!), поначалу не могла без дрожи в столовую даже входить. Она ненавидела и здешний запах, и жидкие щи из протухшей капусты и мороженой картошки, и котлеты, целиком состоявшие из одного хлеба, и склеенные макароны без масла, и белесый компот в граненых стаканах с явственными дактилоскопическими отпечатками… Но голод – не тетка. А хлеба в столовке давали без ограничений. И соли – сколько угодно. И горчицы – вдоволь… Порой Вера вместо обеда набивала живот черняшкой, намазанной горчицей. И против воли вспоминала тот бутерброд с черной икрой, что протянула ей мама в последний день на «Нахимове»… В их последний день…
От прочих студентов, даже от говорливой, искренней и доброжелательной (как казалось) соседки по комнате – Зойки, Вероника держалась особняком. Не хотелось никого подпускать к себе.
Однокурсники, побывавшие на совместной трехнедельной картошке, уже сдружились. Появились активисты. Возникли лидеры: комсомольско-формальные и неформальные (горячая Зойка в числе последних).
Вероника оказалась в стороне от всех. Не ходила на дискотеки. Не участвовала в сборищах с выпивкой.
На нее не обращали внимания парни. «Ну и слава богу, – думала она. – Никто не мешает учиться. Больше будет времени на занятия».
Но в душе отчего-то оставался горьковатый привкус.
Однажды после лекций (дело шло к празднику, Седьмому ноября) Вероника вдруг заметила в вестибюле института знакомую фигуру. «Васечка!» – бросилась она к нему. В самом деле, это оказался Васечка Безбородов. Тот самый ее куйбышевский поклонник Васечка. Человек, с кем она провела последний безмятежный день своей жизни. Тот, кто поддержал ее в самые тяжелые часы, когда она отыскивала в Новороссийске тела своих родителей.
– Васечка! – вскрикнула она, бросаясь к нему. – Куда ж ты подевался?!. Охламон!..
– Усвоение учебного материала сопряжено с жертвами, – важно произнес Васечка.
От него попахивало пивком.
Вероника захохотала – наверное, в первый раз после того вечера на безмятежной новороссийской набережной. Она была рада видеть Васю.
Он достал руку из-за пазухи. В ней оказалась белая хризантема.
– Пойдем, – радостно произнесла Вера, подхватывая Васю под руку. – Ведь ты меня проводишь?
– Буду исключительно счастлив, – ответствовал Безбородов.
Вася проводил Веронику до общаги. У вахты церемонно поцеловал руку. И назавтра, на Седьмое ноября, пригласил Веру на свидание.
– А куда мы пойдем? – легкомысленно спросила она.
– Всякое действие наступает в положенное ему время, – туманно отвечал Безбородов.
– Ох, Васька, какой ты стал важный! – засмеялась Вероника.
Засыпала она улыбаясь. Кажется, это был ее первый счастливый день в Москве.
Первый – и последний.
Васечка предложил встретиться в метро «Павелецкая», внутри станции, в центре зала.
– Ну, куда ты меня приглашаешь? – кокетливо спросила Вероника, получив от Безбородова еще одну белую хризантему.
Глядя куда-то вбок, Васечка невнятно прогудел, что холодно, Москва вся перекрыта – демонстрация, поэтому:
– Давай рванем ко мне в общагу, а?
Он наконец взглянул ей в глаза с отчаянной решимостью.
– К тебе?.. – засмеялась Вероника. – Хм-м… – На секунду задумалась, а потом сказала: – Ну что же, давай рванем.
Всю дорогу куда-то к черту на рога, в Беляево, Вася смущался. Прятал лицо. Нес какую-то скучную лабуду. «Выйдем в поле… Шурфа… Породы…»
Вера понимала, отчего смущается Вася. После тех страшных новороссийских ночей он исчез из жизни Вероники – ни слова, ни полслова. Словно не было его никогда. Будто не он объяснялся ей в любви на горячем новороссийском пляже. Ну, или почти объяснялся. А главное: будто не он находился рядом с нею – словно брат, словно близкий человек, потом, в самые тяжелые для Веры минуты.
Был столь близко от нее – и исчез совсем. Вера и не заметила, когда он ушел. Но ей было тогда не до Васи. И не до его проблем…
Теперь Безбородов возник снова. Словно привидение – с белой хризантемой наперевес.
– А ты с кем живешь? – осторожно спросила уже на подходе к Васиной общаге Вероника.
– Ну, с мужиками… – смущенно прогудел Вася.
– А где они сейчас?
– Кто где… – еще больше смутился Безбородов.
Вероника на секунду подумала: что бы сказала мама, если бы узнала, что она, Вера, идет в гости к парню? Да еще в общежитие! И предполагается тет-а-тет!..
Но мамы нет, и сказать она ей ничего не может. А Вася – первый парень, который за целых два месяца ее хотя бы куда-то пригласил. А она… Если что – она сумеет постоять за себя.
Парень, дежуривший на вахте в Васиной общаге, проводил Веру долгим, циничным взглядом. От этого стало нехорошо на душе.
В комнате у Безбородова действительно никого не оказалось.
Застарелый запах курева и мужского житья. Четыре по-солдатски застеленные койки. Прикрыты тяжелые шторы. Полумрак.
Вася помог Веронике снять муфлоновую шубку. Нажал клавишу катушечного магнитофона «Яуза». Разнеслись аккорды «Отеля «Калифорния». Безбородов стал доставать (не открывая штор) из межоконного проема свертки, лихорадочно разворачивал их на столе.
Провизию он заранее нарезал. Домашнее сало тоненькими кусочками. Вареная колбаса. «Российский» сыр.
Явилась бутылка портвейна «Массандра». Подготовился, сукин сын.
«Ну, хоть наемся», – почти весело подумала Вероника.
Она расхаживала по комнате, как кошка, изучая чужое жилье. На книжной полочке – четыре книжки: «Высшая математика», Юрий Шпанов «Дело было в Атлантиде», календарь первенства мира по футболу в Мексике и ободранный англо-русский словарь. На стенах висели прикрепленные изолентой плакаты. Перефотографированные битлы с обложки «Белого альбома». Какой-то голый по пояс мужик с гипертрофированными мускулами, на плече – гранатомет. Подпись под плакатом Вероника едва прочитала в полутьме: SCH… SHC… Словом, какой-то там Шварценеггер.
– Ты бы шторы, что ли, открыл, – усмешливо сказала она Васечке (тот занимался приготовлением стола). – Темнотища-то какая…
– А зачем нам шторы? – пробормотал Вася. – Все равно стемнеет скоро на улице… У меня вот что есть…
Вася достал из тумбочки три разноцветных сувенирных свечи. Зажег.
«Мальчик настроился на романтический вечер, – весело подумалось Веронике. – В его понимании… И как далеко, интересно, он хочет его завести?.. Ох, чует мое сердце – далеко… Придется ему жестоко разочароваться…»
– Прошу пожаловать к столу! – с деланой веселостью провозгласил Васечка.
Он подпалил спичкой пластмассовую пробку «Массандры», лихим движением откупорил портвейн. Налил Вере в единственный фужер, себе плеснул в граненый стакан.
– Ну, за встречу! – Потянулся чокаться. – Рад тебя видеть. Налегай на закуски. Чем богаты, тем, как говорится, и рады…
Странно, но в Москве Васечка выглядел каким-то провинциальным. И – жалким.
Вера выпила. Голова на удивление сразу же захмелела. «Давно не пила? Наверно… А может, он в портвейн подмешал чего?»
Вася, не вставая, вставил в магнитофон новую бобину. Раздались первые аккорды «Джулай монинг», бесконечно тягучей песни «Юрайя Хип».
– Потанцуем? – хрипло предложил Безбородов.
– Дай поесть-то, – с набитым ртом простодушно возразила Верочка. В голове кружилось.
Васечка не послушался, встал со своего стула, очутился за спиной у Веры. Обнял сзади. Его губы оказались у ее шеи и защекотали кожу.
– Давай… давай потанцуем… – как в бреду зашептал Васечка.
Вера сделала движение вырваться – его сильные руки пригвождали ее к стулу.
Она рванулась, вскочила, выскользнула, отпрыгнула.
– Вася, прекрати! Прекрати сейчас же!
В голове шумело. Ноги слабели. Вася подступал, расставив руки. Обнял, уткнулся куда-то в шею. Проскулил:
– Ну я же только потанцевать…
Знаем мы эти – «потанцевать»!
Она снова вырвалась – и с размаху, кулачком, в глаз: бац!
Бросилась к выходу из комнаты. Схватила шубку. Дернула дверь: заперто. Сзади подступал Васечка. Нащупала ключ: слава богу, в двери. Повернула, открыла. Сзади снова облапил Васька. Она опять вырвалась, отворила дверь – и бегом по коридору, к лестнице, к черту, вон отсюда!..
«Даже поесть не дал, дурак!..»
…Как ни странно, Васечка снова появился. Сразу после ноябрьских праздников. Опять встретил Веронику после занятий. Опять подарил белую хризантему. Виновато хмурясь и глядя в сторону, пригласил в театр: «Имени Ленинского комсомола, спектакль интересный – «Юнона и Авось». Пойдем?»
«Значит, попытка штурма не удалась, – весело подумала Вероника, – и Вася приступил к планомерной осаде. Что ж, это мне нравится больше».
До конца года они еще два раза сходили в театр. Васечка был тих, покоен, руки не распускал, о любви не говорил. При прощании – во дворе Верочкиной общаги – галантно целовал ей ручку.
«Вот и поклонник в Москве завелся, – думала Вера. – Но Васечка… нет, Васька – это явно не то.
Во-первых, он – продолжение старого, провинциального, куйбышевского. Во-вторых, он здесь, в Москве, такой же подкидыш, кукушонок, как и я. Ему самому в столице пробиваться и пробиваться…. И непонятно еще, прорвется ли он… Хватит ли силенок… И самое главное, я к нему ничегошеньки не чувствую. Ну совсем ничего…»
Между тем подходило время сессии. Вера задумала сдать ее досрочно. Ей настолько опротивела колготная, равнодушная, враждебная общага, что родная квартира в Куйбышеве, хранящая тени родителей, казалась отсюда, из московского далека, чуть ли не раем. «Скорей бы, скорей бы домой!» – думала она, просыпаясь каждое утро. Она заранее купила билет – на вечер тридцатого декабря. Тридцать первого днем она приедет в Куйбышев. Она мечтала встретить Новый год дома, в родных стенах, с любимой бабушкой.
У Веры имелся хороший запас еще школьных знаний. Шутка ли, ее репетиторами были сами отец, мама, а также их друзья – лучшие в городе преподаватели математики и физики. К тому же в Москве – покуда ее однокурсники знакомились друг с другом, бегали на свидания, собирались на вечеринки и пили – Вера сидела на лекциях, в библиотеке и рабочей комнате. Училась.
Она записалась на досрочную сдачу четырех предметов. Красиво расправилась с высшей математикой и физикой. Раз, два!.. Два экзамена – две пятерки!.. Потом без труда получила «четыре» по инженерной графике. И еще четверку – по химии.
Тридцатого декабря вся Верина группа сдавала первый экзамен – историю КПСС. Для нее он был последним.
Все предшествующие экзамену дни Вероника пребывала в самом радужном настроении. Скоро, скоро она окажется дома!.. А истпарт – подумаешь, делов-то!.. Она и не готовилась вовсе. Что она, не наплетет экзаменатору про Второй съезд РСДРП? Или там про Семнадцатый? Язык, слава богу, хорошо подвешен – знай, мели: всем, мол, что ни есть в Советском Союзе хорошего, мы обязаны родной Коммунистической партии. И тэдэ и тэпэ…
Лекции по истории партии читал молодой доцент Полонский. Красивый, как греческий бог. Высокий, хорошо сложенный. С абсолютно правильными чертами лица. Ясно-голубоглазый даже в самый пасмурный день.
Не меньше половины девчонок на курсе тайно по нему вздыхали. Да не по первокурсникам честь – разведка доносила, что Владислав Владимирович Полонский женат, а кроме толстухи жены, у него имеются две дочери мал мала меньше.
Вероника пришла тридцатого декабря на экзамен по истпарту гоголем. У всех сессия только начинается, а у нее уже четыре отметки в зачетке! Остались пустяки, формальность. Подумаешь, история КПСС.
Пошла сдавать в первых рядах. Полонский сидел на преподавательском месте, покачиваясь на стуле. Покуривал трубку. Испускал ароматный дым.
Действительно, черт возьми, красив, как бог. Аж дух захватывает.
Вера вытащила билет. Всего один вопрос. Вчиталась. Что за чепуха? Никаких тебе ни съездов, ни руководящей и направляющей роли партии в Великой Отечественной войне, ни руководства национально-освободительной борьбой народов… На билете через слепую копирку напечатано: «Как вы считаете, стоит ли счастье всего человечества слезинки хотя бы одного ребенка?»
– А что это такое? – невольно вырвалось у Веры.
– Вы, видно, девушка, – весело блеснул синими очами Полонский, – на лекции мои не хаживали. Да и на консультациях не бывали?
Вопрос повис в воздухе. Вероника действительно игнорировала историю партии.
– Да, я вижу: не бывали, – продолжил Полонский (пых-пых трубкой). – А ведь я предупреждал, что я вам, студентам, даю не совокупность неких знаний. Нет. Я учу вас мыслить. И спрашивать я с вас буду то же самое. То есть: как вы умеете рассуждать, сопоставлять, логически мыслить…
У Вероники все поплыло перед глазами. «И ни одна сволочь – ни Зойка, ни Жанка – меня не предупредила!.. Завидуют, ведь у них экзамены впереди, а я уже все сдала!..»
– Садитесь, девушка, – иронически произнес Владислав Владимирович. – Готовьтесь.
– Я буду отвечать без подготовки, – вдруг неожиданно для себя сказала Вера.
– Нуте-с, – удивился доцент и указал на парту перед собой. – Прошу.
– Только прекратите, пожалуйста, курить. Не выношу табачного дыма!
«Собью его, сомну, наплету с три короба!» – билась в голове у Вероники отчаянная мысль.
Доцент загасил трубку, выбил пепел на тетрадный листок, встал, широко отворил окно аудитории в морозный день. «А он красив, проклятый», – против воли пронеслась в голове Вероники мысль, когда она увидела Полонского с тыла – в полукрамольных, вольнолюбивых американских джинсах в обтяжку.
Доцент вернулся на место:
– Слушаю вас.
– Насколько я понимаю, это вопрос на сообразительность. И на умение мыслить, – быстро начала Вероника. Полонский в согласии полуприкрыл свои проклятые голубые глаза. – Так вот, если говорить коротко, я считаю, что порой приходится поступаться слезами ребенка. И не только одного. Но даже и многих. И даже порой жизнью этих детей.
Полонский делано, удивленно посмотрел на нее. Кажется, она говорила что-то не то.
– Например, – отчаянно продолжила Вера. – Великая Октябрьская социалистическая революция. Многим детям пришлось в то нелегкое время страдать. И не только детям, но и взрослым. Через многие испытания пришлось пройти. И рабочим, и крестьянам, и интеллигенции. Зато теперь, благодаря тому, что революция свершилась, мы живем в новом, справедливом, благополучном обществе…
– Вы так считаете? – иронически глянул на нее доцент своими голубыми глазами.
«Ох, кажется, что-то я не то несу. Кажется, не то он хочет от меня услышать…» – отчаиваясь, подумала Вера, но вслух продолжила – по возможности твердо:
– Да, я так считаю… И могу привести немало других примеров в подтверждение моего тезиса. Великая Отечественная война, например. Когда дети – Володя Дубинин, скажем, – гибли за победу советской власти… Не щадили своей жизни…
– Постойте, Вероника, э-э, Николаевна, – прервал ее доцент, – а вы Достоевского читали?
– Достоевского?.. – сбилась с тона и с мысли Вера и прошептала: – Проходили. В школе.
– А «Братьев Карамазовых» читали?
Доцент испытующе смотрел на нее своими бездонными, чистыми, голубыми.
Вера совсем смешалась. Пробормотала:
– Я… я… просматривала…
– Ясно, – сказал, как припечатал, Полонский.
Задумчиво взял ее зачетку, полистал.
– Да у вас последний экзамен… – протянул. – Не хочется портить вам зачетку… А больше, чем «удовлетворительно», я вам поставить пока не могу… Давайте-ка вы лучше подготовьтесь как следует и приходите ко мне после Нового года? А?
У Веры в глазах закипали слезы. Мелькали разрозненные мысли: «А как же билет… Новый год дома, в Куйбышеве… Оставаться в общаге?.. Я не выдержу!..»
– Нет уж, – твердо сказала она. – Ставьте, что я заслужила. Тройку так тройку.
– Да? – рассеянно посмотрел на нее доцент. Кажется, он понял ее состояние, однако взялся за свое золотое перо. – Что ж, как скажете…
– А Достоевский, между прочим, не по программе! – полушепотом выкрикнула Вероника. Слезы душили ее.
– Мысли – всегда по программе, – назидательно произнес сволочь Полонский, выводя Веронике в зачетке «удовл.».
Вера еще не знала, какими последствиями чреват для нее этот «тройбан».
Хоть и горько было, она попыталась выбросить заумного красавчика доцента из головы. Ни с кем не прощаясь, быстро собрала свой немудрящий студенческий скарб и тем же вечером, тридцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, уже тряслась в скором поезде Москва – Куйбышев, предвкушая встречу с домом.
После смерти родителей у нее осталась одна родная душа на всем свете – бабушка. Булечка, как называла ее детским прозвищем Вероника.
Булечка по-прежнему жила в их опустевшей трехкомнатной квартире в центре Куйбышева, на набережной Волги.
После смерти Вериных родителей, после того, как схоронила дочь и зятя, бабушка сильно сдала.
И утром тридцать первого декабря, когда булечка встретила внучку на заснеженном перроне куйбышевского вокзала, Вера не узнала ее.
До рокового дня первого сентября, до гибели родителей, бабушка являла собой бодрую гранд-даму. Она совершала ежеутренние пробежки по набережной по-над Волгой. Следила за собой. Ежемесячно посещала салон красоты. Красила волосы, делала прическу, маникюр, педикюр…
Теперь же булечка в одночасье превратилась в старушку.
Они с Верой грустно, вдвоем, встретили Новый год. Елку наряжать не хотелось – да и не имелось ее, елки. За столом было так пусто, что даже сердце щемило. Не хватало шумного, веселого папы… Принаряженной мамы… Подарков, что чудесным образом всякий раз оказывались под елкой…
Посмотрели с бабушкой поздравление Горбачева, потом недолго – праздничный «Огонек». Выпили треть бутылки шампанского и улеглись спать.
И потянулись унылые, пустые каникулы.
Булечка в халате поверх ночной рубашки целыми днями бродила по квартире. Вытирала пыль. Перебирала вещички, оставшиеся от дочери и зятя. Частенько принималась плакать, уткнувшись в какую-нибудь старую мамину ночнушку…
Однако Верин приезд булечку все-таки слегка приободрил. Она пекла блинчики, оладушки. Потчевала внучку абрикосовым вареньем. Готовила для нее свою фирменную шарлотку из яблок. Живо расспрашивала о Москве.
Вере хоть и тоскливо было дома, да все равно хорошо. Такой кошмарной представлялась отсюда, из родной кухоньки, столичная коммунальная общага, что она всерьез задумалась: может, ей перевестись учиться домой, в Куйбышев, – в местный университет или политех? После Московского радиотеха ее, наверное, возьмут здесь на любой факультет, хоть на мехмат в универе… Она воображала: жить в своем родном доме… В собственной отдельной комнате… В одной квартире с родным человеком… Какое же это счастье!.. И булечке станет совсем не так одиноко. Да и материально им вместе жить будет полегче…
Но если она вернется из Москвы назад, тогда… Тогда все честолюбивые Верины мысли о завоевании Москвы ей придется оставить. Она навеки останется здесь, в Куйбышеве. В милом, родном, тихом городе. Но – в провинции. В болоте. И ей уже никогда не представится шанса отсюда выбраться.
И еще: если она переберется в Куйбышев, ее шансы найти того человека, что погубил ее родителей, сведутся к бесконечно малой величине. К нулю они сведутся. А мысль о том, что она обязана отыскать его – и отомстить ему, ни на минуту не оставляла Веру.
Она просто на время – пока не состоялась, не встала на ноги – отложила эту мечту. Но не отставила ее. Не забыла. И никогда не забудет…
Успокоиться, смириться, сжиться с гибелью родителей – ей придется. Но простить – невозможно. Зачем я, дура, грубила маме? И посуду никогда не мыла… И музыкой заниматься не хотела…
Вера ничего не могла сделать с этими мыслями. Бабушка, утешая, говорила, что они естественны и всегда возникают, когда погибают близкие люди. Люди страдают, что недолюбили погибших, недорадовали их.
«Но почему они?! Почему именно они?!» – рыдала Вера.
«На все воля божья», – склоняла голову бабушка.
И одна только Вера знала, что бог здесь ни при чем.
Родителей убил не всевышний. Их погубил – человек.
И она ему обязана отомстить…
А оставшись в провинции, Вера не сможет найти информации о нем, погубителе. Не сумеет обзавестись необходимыми связями, приобрести высоких покровителей. Ей не удастся отыскать черного человека (так она его про себя называла). Чем дальше от Москвы, тем меньше возможностей. Живя в Куйбышеве, Вера уже никогда не найдет его.
Найти и отомстить.
Она… Она обязана сделать это. Пусть ей придется мучиться в Москве. Не высыпаться в общаге. Недоедать. Но зато… Когда-нибудь… Она пробьется. Вера верила в это. У нее появится муж: нет, не Васечка. Другой. Сильный, красивый, ласковый, умный. Чем-то похожий на того противного голубоглазого доцента, что поставил ей трояк по истории партии.
Да, он, ее избранник, будет такой же умный, взрослый, стройный, ироничный и голубоглазый, как доцент. Только – свободный. Без жены, без детей. И – любящий ее, Веру.
И она выйдет за него замуж. И родит ему детей. Троих детей. У них будет своя квартира – в самом центре Москвы…
И еще – Вера сделает карьеру. Она станет большим начальником, у нее будет свой кабинет, персональный черный автомобиль с шофером…
И когда-нибудь она найдет того человека. Того, кто погубил ее родителей.
Она придет к нему. Ворвется в его дом вместе со своим мужем – в то время, когда тот менее всего ожидает увидеть ее. «Кто вы?» – недовольно спросит он. А Верин муж – красивый, сильный и бесстрашный человек – наставит на погубителя черный пистолет. А Вера спросит его: « Ты помнишь «Нахимов»? Помнишь тех мужчину и женщину? Помнишь, как ты утопил их?»
Тогда тот человек все поймет, упадет на колени и запросит о пощаде… Но Вера не станет слушать его жалкой мольбы, она отвернется и твердо скажет своему верному мужу: «Стреляй!..»
Эти полудетские мечтания – о мести и о карьере в Москве – были теми поплавками, что поддерживали Веру во время ее одинокой жизни.
…А пока, на зимних каникулах в Куйбышеве, Вероника решила разобраться с тем наследством, что осталось после гибели мамы и папы.
Речь не шла о чем-то материальном. После гибели родителей Вероника не получила ни единой копейки. Несмотря на то что и отец, и мама являлись весьма высокооплачиваемыми работниками – отец получал ежемесячно рублей четыреста, а мама около трехсот, – на их сберкнижках не осталось ни гроша. Наоборот, они сами были должниками КВП – кассы взаимопомощи – своего «ящика», долг составлял четыреста семьдесят рублей. Благородный местком согласился оказать родственникам погибших единовременную материальную помощь, чтобы погасить эту немалую сумму. К тому же заводской профсоюз организовал и оплатил похороны родителей, после чего дал понять Вере и булечке, что какой-либо иной финансовой подмоги ждать решительно не следует.
Не только денег, но и ровным счетом ничего солидно-вещественного после Веселовых-старших не осталось. Ничего, что можно было бы продать и тем обеспечить Верочке более-менее сносное житье в Москве: ни машины, ни дачи, ни драгоценностей. В доме имелся лишь не самый новый цветной телевизор «Рубин», старый холодильник «ЗИЛ» и югославская стенка. Да сама квартира – вот и все, что нажили за двадцать лет беспорочной службы на секретном авиазаводе Верочкины родители.
Правда, государство после их трагического путешествия компенсировало стоимость путевок, а также выделило по тысяче рублей за каждого погибшего. Тысячу – за папу. Тысячу – за маму. Эти деньги поступили на сберкнижку на Верино имя.
Две тысячи – солидная сумма, однако Вероника решила, как бы тяжело ей ни пришлось, не трогать оттуда ни копейки. На эти деньги она будущим летом (раньше, говорят, нельзя) поставит родителям памятник на их общей могиле. Самый лучший памятник, какой только можно заказать в Куйбышеве. Вера ничего, ни батона хлеба, не купит для себя за мамину и папину смерть. Это было решено и подписано.
С деньгами оказалось все просто, и Вера решила разобраться с иным, вещественным следом пребывания мамы и папы на этой земле.
На антресолях в их квартире лежало заботливо упакованное отцом туристское снаряжение: байдарка в двух брезентовых мешках, двуспальная палатка, два спальника… В родительской комнате в шкафу помещалась папина гитара. Там же имелись фотоаппарат и кинокамера, а также коробки с фотографиями и бобины с пленкой. Каждая коробка была подписана аккуратнейшим папиным почерком: «Большой Зеленчук, 1984 год»; «Катунь, 1983 год»… И так далее, по убывающей, вплоть до семьдесят второго года.
Верочкины родители были заядлыми туристами-водниками. Каждый отпуск делили на две части. Две недели проводили в заводском пансионате на берегу Волги (вместе с маленькой Вероникой). Две другие – в походе: вместе с друзьями сплавлялись на байдарках и катамаранах по самым порожистым, самым бурным рекам Северного Кавказа или Горного Алтая. Только в прошлом году они изменили себе: подарили поступившей в вуз Веронике круиз по Черному морю на «Нахимове»… Какая грустная гримаса судьбы: десятки раз сплавляться по ледяным порогам – а погибнуть в теплом, ласковом Черном море…
Итак, старая гитара, байдарка и кучи фотографий – вот и все наследство, что оставили дочери высокооплачиваемые советские специалисты: заместитель главного инженера оборонного завода Николай Дмитриевич Веселов и его супруга, старший технолог цеха Надежда Андреевна Веселова…
И еще – книги. Книги в доме занимали полный, до самого потолка, стеллаж. Собрания сочинений: и Жюль Верн, и Майн Рид, и Борис Лавренев, и Чехов, и Толстой, и Чернышевский, и даже Хемингуэй… Вера нашла собрание сочинений Достоевского. Решила назло доценту Полонскому прочесть «Братьев Карамазовых» – а заодно уж и «Идиота», и «Игрока». Пусть голубоглазый «преп» не задается со своими «слезинками»!..
Жаль, конечно, время терять на это прошловековое назидательное чтение. Вон сколько у папы всего интересного, нечитаного!.. Полка с собственноручно переплетенными романами, вырезанными из толстых журналов. Там уживались и «Альтист Данилов», и «Алмазный мой венец», и «Челюсти», и «Давай поженимся», и редчайшая редкость – Чейз… А в шкафу в родительской спальне, укрытые от нескромных взоров, лежали переплетенные ксерокопии «посевовского» издания «Мастера и Маргариты», ахматовского «Реквиема», солженицынских «В круге первом», «Ракового корпуса» и «Архипелага ГУЛАГ».
Папа водил дружбу со многими букинистами в городе, имел связи на книготорговой базе и в книжных магазинах. Переплачивал. Реставрировал старые книги в обмен на новый дефицит. Собирал макулатуру.
Теперь библиотеку – точнее, ее «официальную» часть – можно было, конечно, продать. И, наверное, выручить неплохие деньги. Но Вероника твердо решила этого не делать. Во-первых, в память о папе. И еще потому, что она мечтала: когда-нибудь она обязательно обзаведется в Москве семьей и огромной квартирой. И тогда перевезет книги туда. Чтобы ее дети – как она когда-то в своем детстве – рылись на полках, вдыхая вместе с ароматом типографской краски запах майн-ридовских прерий и жюль-верновских океанов…
Вероника обожала своих родителей, преклонялась перед ними и не смела осуждать их жизнь, но после их гибели решила: она всегда должна быть готова к тому, что на нее вдруг может свалиться беда. И когда у нее будут деньги – а они у нее будут! – она обязательно станет откладывать на черный день. Чтобы, если с нею что-то стрясется, ни ее саму, ни ее родных, – ни тем более ее детей! – трагедия не застала врасплох.
«У меня, – твердо решила для себя Вера, – всегда будет «загашник». Для того чтобы «благодарить» врачей, если я вдруг заболею. И платить адвокатам, когда меня вдруг в чем-то несправедливо обвинят. И, если я… Когда я… Словом, если меня вдруг внезапно не станет, чтобы хватило на жизнь моим детям… Чтобы они – хотя бы не голодали…»
…Замерзшая Волга… Белесая дымка… По льду, по зимнику, трусит лошадь, запряженная телегой… Пар поднимается от ноздрей лошади, от лица седока… А Вера, назло доценту Полонскому, лежит на своей кровати, поглядывает в окно и читает Достоевского…
Так прошел для нее январь тысяча девятьсот восемьдесят седьмого. Таким ей запомнился.
Пришла пора расставаться с булечкой. И шестого февраля Вера, облив слезами на обледенелом перроне бабушкино плечо, села в поезд Куйбышев – Москва. Завтра начинался второй семестр, и Вероника не хотела упустить ни одного дня занятий.
Уже в Москве, разбирая в своей комнате дорожную сумку, Вера обнаружила внутри газетного свертка со своими трусиками конвертик, аккуратно свернутый из тетрадного листка. На листке бабушкиным мелким почерком было выведено: «Верочке», а внутри было пять красных червонцев. Булечка, несмотря на категорические отказы Веры, поделилась с нею крохами от своей пенсии. Поделилась тайком…
Пятидесяти рублей, что тайком всучила ей булечка после зимних каникул, в принципе могло хватить надолго. Надолго – если бы Вера получала стипендию.
Но Вера стипендии не получала.
С тройкой по истории КПСС стипендии не давали. Спасибо голубоглазому доценту Полонскому.
Она могла бы, конечно, выпросить в факультетском профкоме материальную помощь. Ей, сироте, вспомоществование, конечно, предоставили бы, но проблема заключалась в том, что она не хотела и не могла заставить себя идти и просить.
Стало быть, ей предстояло прожить на пять булечкиных червонцев пять месяцев. Прожить на десять рублей целый месяц – задача, конечно, малореальная.
Но выполнимая. Вернувшись из Куйбышева после зимних каникул, Вероника постановила себе вести строжайше аскетический образ жизни. Накупила талонов на льготное питание в студенческую столовую. Льготный талончик стоил тридцать копеек. На него полагался полный обед: первое, второе, компот. Хлеба можно было брать сколько хочешь – только из столовой запрещалось выносить. За девять рублей проблема обедов была решена.
А для того чтобы меньше хотелось есть, Вера решила заняться чем-либо. Чем-то интересным. Отвлекающим от голода.
Не учебой, нет. Учеба не могла захватить ее настолько. Сейчас, по прошествии полугода со дня катастрофы «Нахимова», ее рассудок успокоился настолько, что она уже не испытывала, как прежде, острой боли при одной только мысли о той ночи тридцать первого августа. И потому она уже могла взяться за дело, которое считала своей обязанностью. Этим делом была месть.
Тем более что пока она лежала на своей куйбышевской тахте с томиком Достоевского, в ее голове стал вызревать план. Смутный, малоопределенный, чрезвычайно трудоемкий, но все-таки – план.
И Вера приступила к его исполнению.
…Министерство морского флота СССР располагалось на улице Жданова, аккурат напротив «Детского мира». По улице вечно шлялось множество народу. В основном провинциалы, штурмующие столичные универмаги, мечтая купить хоть что-нибудь полезное. Куртку ребенку, польскую тушь – себе, чехословацкие ботинки – мужу, духи – нужному человеку… Да все, что угодно: все, что «выбросят», все, за чем надо выстоять двух-трехчасовую очередь. Практически любой галантерейный или носильный предмет, который удавалось урвать в столичной толчее, годился на родине в качестве трофея.
Никто из азартно возбужденных или же уныло-усталых людей, проходивших улицей Жданова, не обращал внимания на хрупкую юную девушку в синтетической шубке, которая частенько совсем без спутников, одна, прогуливалась здесь под вечер.
Лобовой штурм здания Министерства морского флота Веронике ничего не дал. Подъезд охраняли строгие вохровцы. «Вы куда, девушка? Ваш пропуск? Ах, к начальнику главка? Вон местный телефон – звоните и заказывайте».
Тогда Вероника устроила перед входом дежурство. Не спеша, прогулочным шагом – пусть толкают и костерят вылетающие из «Детского мира» «бодычи» – прохаживаешься от проспекта Маркса до Пушечной улицы. Затем переходишь на другую сторону и следуешь мимо подъезда министерства в противоположном направлении. Иногда, когда московский мороз становится нестерпимым, можно заглянуть погреться в кафе «Минутка» на углу Жданова и Пушечной. Иной раз можно сделать вид, что изучаешь репертуар театров, вывешенный за стеклом будочки-кассы у стены «Детского мира».
Через три вечера наблюдений Вероника поняла, кто ей нужен. Ей нужен мужчина лет за сорок. В синем морском мундире, с большим количеством золоченых нашивок на рукавах и погонах. И – обязательно! – ездящий на черной «Волге».
Такие люди покидали здание министерства обычно часов в семь-восемь вечера. «Волжанки» с персональными шоферами ждали их, фырча, прогревая на морозе моторы, у подъезда.
– Ай!
Человек в синей шинели, с профессиональной стремительностью двинувшийся к своей машине, наткнулся на какое-то мягкое препятствие. Девушка в муфлоновой шубке полетела на тротуар, в расхоженную снежную кашу. Лопнул полиэтиленовый пакет. По серо-желтому снегу раскатились апельсины.
Мужчина кинулся поднимать девушку. Она дышала чем-то юным, нежным:
– Вы апельсины, апельсины лучше поднимайте!.. Что я маме скажу!.. Вот медведь-то!..
Человек в синей шинели поднял на ноги девушку, негромко скомандовал: «Василий!» Из одной черной «Волги» выскочил шофер. Вряд ли он что-то слышал – похоже, принимал телепатические сигналы своего шефа. Бросился поднимать раскатившиеся оранжевые плоды. Седовласый моряк и девушка оказались лицом к лицу, на расстоянии не более пятидесяти сантиметров друг от друга.
Он сумел оценить ее молодость, свежесть и аромат.
– Пустите! – Она отшатнулась. – Ну вот! Порвал мне пакет! В чем я теперь понесу?
Мужчину десятилетия службы натренировали принимать мгновенные, точные решения. Более того, стремительные, но единственно верные решения. В противном случае он работал бы не в этом здании в центре Москвы, а до сих пор ходил бы третьим помощником на сухогрузе «Капитан Лебедкин».
– Вася, плоды – в машину, – негромко скомандовал он. А затем тихо, но властно произнес, глядя прямо в глаза девушке: – Мы довезем вас до дома. Говорите адрес.
Тон мужчины был настолько беспрекословным, что Вероника, даже если бы хотела ослушаться, не смогла бы.
Но она и не пыталась сопротивляться. Она добилась, чего хотела. Теперь главным было – в течение двадцатиминутной поездки успеть одновременно и заинтересовать, и ничем не отпугнуть спутника.
Похоже, Веронике это удалось, потому что, когда персональный автомобиль остановился у одного из жилых домов на сопредельной с ее общежитием Спартаковской улице (не могла же Вера просить везти ее в общагу), седовласый капитан сказал своим не терпящим возражений тоном:
– Мы поужинаем вместе.
Вопрос в конце фразы практически даже не был обозначен.
– Ой, я даже не знаю… Неудобно как-то… А можно я приду вместе с подругой?..
– Я пришлю за вами машину, – рублеными фразами отдавал команды моряк. – Сюда же. Послезавтра. Четырнадцатого. В субботу. В восемнадцать ноль-ноль. Форма одежды – парадная. Подруга – возможна.
Шофер Василий выскочил из машины, помог Вере выйти, протянул ей злосчастные апельсины – он уже загрузил их в изготовленный из газеты «Правда» огромный кулек (когда только успел, он же все время рулил?). Вера помахала на прощанье сидящему на заднем сиденье седовласому моряку. «Волга», плюясь снегом из-под колес, отвалила от тротуара.
…Вот так случилось, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, в субботу, Вера Веселова вместе со своей общежитской соседкой, громогласной Зойкой, оказалась в ресторане «Узбекистан» в компании двух мужчин в возрасте сильно за сорок.
Этот поход явился частью ее плана. Однако выяснилось: тот план, который она столь великолепно продумала и начала так блистательно осуществлять, довести до конца она не в состоянии.
Натура сопротивлялась. Инстинкты оказались сильнее разума.
Она наелась великолепнейших закусок (когда мужчины не видели, Зойка делала ей жесты: скромнее, мол, пореже мечи), выпила для храбрости коньяку. От спиртного все вокруг стало розовым, звездным, счастливым. Мужчины рассказывали анекдоты. Она хохотала. Все шло прекрасно…
Однако потом, когда моряк потащил ее в общий зал танцевать и стал властно прижимать к себе, от его дыхания пахнуло чем-то несвежим, старческим – а ансамбль все играл ту же, раз уже слышанную в Васечкиной полутемной комнате композицию «Джулай монинг»…
Тут Вероника внезапно протрезвела. Лапы моряка показались чересчур уверенными и твердыми. И она вдруг поняла: «Я не могу».
Едва дождавшись конца песни, Вера прошептала: «Идите, я сейчас приду, мне надо на минуточку».
Убежала в туалет. Долго смотрелась в тусклое зеркало. Думала: что же ей теперь делать?
Ничего не придумав, вышла в ресторанный холл. И тут увидела: прямо перед длинным зеркалом поправляет свои кудри не кто иной, как голубоглазый доцент Полонский. Ее обидчик. Ее тайная любовь.
Она подошла сзади. Коньяк придавал ей смелости. Положила ладонь на плечо Полонского. Спросила:
– А стоит ли слезинка одного ребенка целой стипендии?
Полонский удивленно обернулся.
– Веселова? А вы что здесь делаете?
– То же, что и вы. Прожигаю жизнь.
Его ослепительные голубые глаза смотрели прямо на нее. Не отрывались, изучали.
Она вдруг поняла: сейчас или никогда. И вымолвила твердо:
– Владислав Владимирович! Увезите меня отсюда. Сейчас же.
Несмотря на то что доцент являлся в отличие от моряка представителем сугубо гуманитарной профессии, в решимости он тому не уступал. Лишь долю секунды помедлив, Полонский сказал:
– Ваш номерок, – и протянул руку.
4
Доценту Полонскому льстила связь со студенткой, вдвое младше себя. Льстила – и радовала, и возвышала его в собственных глазах. Но не потому, что Вероника Веселова была в жизни доцента первой любовницей-студенткой. Красавца Влада всю его жизнь баловали женщины. Он не вел им счета, и в непрерывной череде его возлюбленных Веселова была не самой красивой, эффектной, страстной и даже не самой молодой.
Встречались в его жизни любовницы и более горячие, и более умные… И более слабые, и более сильные…
Однако Полонскому (и он скоро стал отдавать себе в этом отчет) Вера (в отличие от других прошлых «увлечений-развлечений») просто очень нравилась. Ему нравились ее не по-детски здравые и умные суждения. Его забавлял ее юмор. Он чувствовал в ней, столь еще юной, несгибаемый стержень характера. Конечно, у восемнадцатилетней Вероники не имелось еще ни житейского опыта, ни мудрости, ни знаний о людях и о положении вещей… И ему хотелось ее научить, помочь, оберечь…
То, что девушка оказалась девственницей, как бы накладывало на Владислава Владимировича дополнительные обязательства по ее защите и оберегу. А когда вскоре выяснилось, что она сирота, доцент постарался относиться к ней еще более внимательно.
Безусловно, кроме душевных качеств Веры, Полонскому нравились, как он говорил про себя, ее «физические кондиции»: молодое тело, бархатная кожа, упругая грудка. Обладать всем этим – особенно по контрасту с уже дрябловатой женой – было невыразимо приятно. Обладать – и учить ее. «Давать (как он говаривал) уроки в тишине».
В мае восемьдесят седьмого Полонский устроил для себя и Вероники «симпозиум в Ленинграде». В ведомственной гостинице на Старо-Невском не спрашивали паспортов, и они поселились в одном номере как муж и жена. Окно выходило во двор-колодец. Почему-то в номере, несмотря на весну, стаями летали комары. Вооружившись газетой, голенькая Вера по ночам устраивала за ними охоту. Стояла подбоченясь, подпрыгивала, а доцент из постели наблюдал за ее худенькой фигуркой…
Из номера за четыре дня они почти не выходили, только поесть в ближайшем кафетерии. Раз прошлись по Невскому до Эрмитажа. Поели пирожных в «Севере», выпили шампанского в «Лягушатнике». Еще день посвятили поездке в Царское Село… Вернулись в Москву в одном купе «СВ». Ночью снова любили друг друга: покачивание вагона, стук колес, фонари случайных полустанков…
Возвратились с вокзала каждый к себе: она – в общагу, он – в квартиру к жене.
Затем, летом, Полонский организовал еще один праздник любви. Его жена с двумя дочерьми укатила в отпуск в пятигорский санаторий. Владислава в Москве задержала работа над докторской: в свете гласности, объявленной в стране, нужно было перерабатывать целые главы.
Студенты сдали сессию – доцент уговорил Веру остаться в столице. Она украдкой переехала в его квартиру. И снова они жили как муж и жена. Она готовила ему завтраки. Приносила кофе в постель, будила свежим поцелуем… Он достал абонемент на московский кинофестиваль, и каждый вечер они отправлялись в кинотеатр «Зарядье» на просмотры. Французские, американские, итальянские фильмы поражали Веру своей открытостью, свободой. Свободой, с какой там люди признавались в любви, или покупали продукты, или ездили по миру…
Любовники возвращались в квартиру Полонского на позднем метро, в толпе себе подобных – киноманов и театралов. Обсуждали кино – сбивались на политику… Дома снова любили друг друга…
А потом… Потом кончился отпуск у жены, Полонский уехал с дочерьми на базу отдыха на Селигер, Вероника отправилась домой в Куйбышев.
Он дважды украдкой написал ей. Она ответила ему пятью письмами – слала на снятый им абонентский ящик на Главпочтамте.
Полонский, оказавшись вдали от Вероники, понял, что он, оказывается, скучает по ней. Скучает по ее молодости, чистоте и жизненной силе… Ему хотелось, чтобы его жизнь шла рядом с Вероникиной долго – настолько долго, насколько это возможно. Он желал оберегать ее, учить, направлять. И – наслаждаться ею.
Однако ему совсем не хотелось – пока не хотелось? – жениться на ней. К чему такие испытания? Ломать налаженный быт… Объясняться с супругой… Разделять с ней квартиру и вещи… Разлучаться с дочерьми… Словом, к чему ему разрушать (как он выражался про себя) «сложившуюся инфраструктуру собственной жизни»?
Не нужно, вовсе не нужно этого делать!..
И снова пришла осень, и студенты с преподавателями вернулись в институт, и Полонский по-прежнему зажил с семьей в своей трехкомнатной квартире, а Вероника вернулась в ненавистную общагу.
