Портрет Лукреции. Трагическая история Медичи
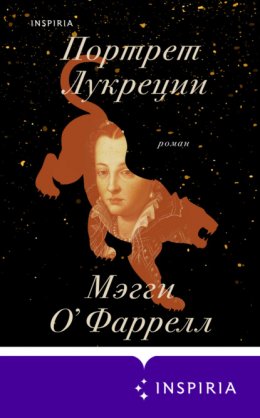
Maggie O’Farrell
THE MARRIAGE PORTRAIT
Copyright © 2022 by Maggie O’Farrell
© Шурупова Е., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Историческая справка
В тысяча пятьсот шестидесятом году пятнадцатилетняя Лукреция, дочь Козимо I Медичи, покинула Флоренцию и переехала к супругу Альфонсо II д’Эсте, герцогу Феррары.
Не прошло и года, как девушка умерла.
Официальной причиной смерти назвали «гнилую горячку», однако слухи утверждали иное: Лукрецию убил собственный муж.
- Вот перед вами, на стене, портрет
- Моей последней герцогини. Свет
- Не видывал такого мастерства!
- Глядит, словно живая, с полотна…
Женщины <…>, скованные хотеньем, причудами, веленьями отцов, матерей, братьев, мужей… почти все время проводят в четырех стенах, томятся от безделья, и в голову им лезут разные мысли…
Джованни Боккаччо. Декамерон[1]
Безлюдная глушь
Fortezza[2], неподалеку от Бондено, 1561 год
Лукреция садится за длинный, влажно поблескивающий стол с еловым венком посредине, уставленный блюдами и перевернутыми кубками. Муж сидит не напротив, как обычно, а рядом — если захочется, можно положить голову ему на плечо; он разворачивает салфетку, поправляет нож и пододвигает свечу, и внезапно Лукреция видит мир будто через цветное стеклышко — или, напротив, в истинных красках. Приходит озарение: муж задумал ее убить!
Ей шестнадцать, со дня свадьбы не прошло и года. Почти весь день супруги провели в дороге: выехали из Феррары с восходом солнца, чтобы успеть засветло, и отправились на северо-запад провинции, в охотничье поместье — по крайней мере, так сказал муж.
«Но это вовсе не охотничье поместье!» — удивилась про себя Лукреция, добравшись до места. Над нею грозно возвышалось здание из темного камня. С одной стороны к нему примыкал густой лес, с другой — извилистая река По. «Зачем ты меня сюда привез?» — хотела спросить Лукреция, однако молча последовала за мужем через влажные ветви деревьев по изогнутому аркой мосту и въехала во двор причудливого здания в форме звезды. Оно сразу показалось ей до странного пустым.
Лошадей увели, Лукреция сняла промокшую накидку и шляпку, а муж наблюдал за ней, став спиной к очагу. Теперь супруг жестами подзывает слуг из полумрака коридора и велит накрыть на стол, порезать хлеб, налить вина в кубки. Ей тотчас вспоминается хриплый шепот золовки: «Во всем обвинят тебя».
Лукреция сжимает край тарелки. Несомненно, муж хочет ей смерти: его намерение ощутимо, словно на ручку ее кресла присела темнокрылая хищная птица.
Вот зачем они приехали в эту безлюдную глушь! Муж увез ее в каменную крепость, чтобы убить.
От потрясения Лукреция на миг покидает собственное тело и парит под сводчатым потолком, наблюдает за собой и мужем: они сидят за столом, едят бульон и подсоленный хлеб. Альфонсо наклоняется к ней и что-то рассказывает, положив руку на ее обнаженное запястье, а она кивает и говорит о живописной дороге к охотничьему поместью, будто между ними все по-прежнему, словно это обычный ужин, после которого они отправятся в постель.
Только это неправда. Зависнув под сырым каменным потолком, она вспоминает скучную дорогу: долгие часы по обледенелым полям, хмурое небо, уныло повисшее над голыми деревьями. Муж пустил коня рысью, и Лукреция милю за милей тряслась в седле; спина отзывалась болью, а мокрые чулки до крови натерли ноги. Подбитые беличьим мехом перчатки не спасали от холода, а лошадиная грива вскоре покрылась изморозью. Муж ехал первым, два стражника скакали по сторонам. Когда город остался позади, Лукреции захотелось пришпорить лошадь, ударить пятками по бокам, полететь над землей и камнями… увы, нельзя: место Лукреции за мужем или сбоку, если он позовет, но никогда — перед ним. И они продолжили путь рысью.
Теперь, глядя в лицо своему возможному убийце, она жалеет, что не перешла на галоп. Надо было умчаться от мужа, заливаясь смехом, и пусть бы волосы и полы плаща развевались у нее за спиной, а из-под копыт лошади летела грязь! Надо было ускакать далеко-далеко, к холмам, и навсегда затеряться в ущельях и горных вершинах.
Облокотившись на стол, муж вспоминает, как отец привозил его сюда, в «охотничье поместье» (он упорно называет это место так) и заставлял пускать стрелу за стрелой, пока из пальцев не начинала идти кровь. Лукреция кивает и сочувственно бормочет в нужных местах, но хочет только одного — взглянуть ему в глаза и сказать: «Я знаю, что у тебя на уме».
Он удивится? Растеряется? Наверное, считает ее невинной, простодушной женушкой, еще ребенком? Она видит его насквозь. Он расставил ей хитрую, продуманную ловушку: отрезал от окружения из Феррары, не взял с собой никого из castello[3]. Только он, она, двое стражников у входа и горстка слуг.
Любопытно, что ее ждет? Блеск ножа в темном коридоре? Руки на горле? Якобы случайное падение с лошади? Несомненно, все эти способы ему подходят. Только пусть сочинит версию поубедительнее, чтобы папа Лукреции поверил, иначе убийство не сойдет Альфонсо с рук!
Поставив кубок на стол, она оглядывает мужа, герцога Феррары, и гадает: что же дальше?
Печальные обстоятельства зачатия Лукреции
Палаццо, Флоренция, 1544 год
В будущем Элеонора не раз горько пожалеет о том, как зачала пятого ребенка.
Вообразите ее осенью тысяча пятьсот сорок четвертого в зале картографии флорентийского палаццо. Элеонора подносит карту к глазам (герцогиня немного близорука, но этого не признает). Придворные дамы стоят поодаль, у окон: хотя уже сентябрь, город до сих пор утопает в зное. Колодец во внутреннем дворе не дает прохлады, от его камней идет жар. На низком небе — ни облачка; дуновение ветерка не колышет шелковых занавесок, флаги на крепостной стене уныло никнут. Придворные дамы обмахиваются веерами, отирают лбы платочками и беззвучно вздыхают: сколько им еще здесь стоять? Сколько еще Элеонора будет разглядывать карту? Что такого интересного в куске пергамента?
На бумаге серебряным карандашом обозначены вершины холмов, вьющиеся угрем реки, неровные границы побережья, уходящие на север. Взгляд Элеоноры скользит по перекрестку дорог, соединяющих Сиенну, Ливорно и Пизу.
Элеонора прекрасно знает цену своим редким достоинствам: не только телу, способному произвести на свет множество наследников, но и красивому лицу — изящному лбу цвета слоновой кости, широко расставленным темно-карим глазам, губам, одинаково прелестным и в улыбке, и в недовольной гримасе. Кроме того, природа наградила ее острым, живым умом. В отличие от других женщин, значки на карте она мысленно превращает в плодородные поля, обширные виноградники, богатый урожай, поместья и налоги с арендаторов.
Она откладывает карту, но придворные дамы напрасно шелестят юбками, мечтая поскорее убраться из душной комнаты: Элеонора тут же поднимает вторую и рассматривает участок суши неподалеку от берега. На этой части карты нет никаких отметок, только местами небрежно обозначены водоемы.
Чего Элеонора терпеть не может, так это праздности. Под ее неусыпным руководством ни одна комната, коридор и вестибюль в палаццо не пустует без дела: их отремонтировали, а чистые гипсовые стены изящно украсили. Детям, служанкам и придворным дамам не выпадает ни минутки безделья — они с утра до вечера следуют распорядку герцогини. Сама она тоже отдыхает лишь во сне, а в остальное время занята: ведет корреспонденцию, изучает языки, составляет планы и списки, следит за образованием и воспитанием детей.
Сколько всего можно сделать с болотистыми землями!.. В голову Элеоноры одна за другой приходят идеи: осушить местность. Нет, оросить! Засеять. Построить город. Выкопать систему озер и разводить рыбу. Возвести акведук или…
Раздаются шаги — уверенные, решительные. Она не поворачивается на звук, но улыбается про себя, подняв карту к свету и любуясь холмами и полями.
На ее талию опускается ладонь, еще одна — на плечо. Кожу щекочет колючая борода, к шее прижимаются влажные губы.
— Чем занята, пчелка моя? — шепчет супруг на ушко Элеоноре.
— Думаю над этим участком, — отвечает она, не опуская карты. — У моря, видишь?
— М-м-м, — бормочет он, приобнимает ее за талию и прижимает к углу стола, уткнувшись носом в ее прическу.
— Его бы осушить, и можно как-нибудь использовать: либо возделывать землю, либо начать там строительство, и… — Муж приподнимает ее юбки, и она умолкает. Его рука скользит по колену, бедру, а потом выше, гораздо выше. — Козимо, — шепотом журит Элеонора, но напрасно: придворные дамы уже покидают комнату, шурша юбками, а за ними следуют советники герцога, нетерпеливо толкаясь у выхода.
Наконец, дверь закрывается.
— Там плохой воздух… — продолжает Элеонора, все еще держа карту изящными фарфоровыми пальцами, словно ничего не происходит, словно муж не возится с ее нижними юбками, — …зловонный и нездоровый. Если соберемся…
Козимо поворачивает ее лицом к себе и забирает карту.
— Конечно, дорогая. — Он мягко подталкивает Элеонору обратно к столу. — Как захочешь, так и будет.
— Ну же, Козимо, только взгляни!
— Позже. — Он бросает карту на стол и усаживает на нее жену, приподняв ворох юбок. — Позже.
Она только вздыхает, прикрыв кошачьи глаза: мужа не удалось отвлечь. И все же она берет его за руку.
— Обещаешь? — настаивает Элеонора. — Обещай! Ты позволишь мне распоряжаться этой землей?
Козимо шутливо борется с ней, пытаясь вытащить ладонь, — разумеется, это только игра. Одна его рука шириной с две ее! Он мог бы вмиг сорвать с Элеоноры платье, даже не спрашивая, будь он совершенно другим мужчиной.
— Обещаю, — говорит он, и она отпускает его руку.
«Я никогда не отказывала ему в этом, — думает Элеонора, когда муж приступает к делу, — и не откажу». В браке ей предоставлено куда больше свободы, чем иным женщинам. Неограниченный доступ к ее телу — малая плата за власть и многочисленные послабления.
У Элеоноры уже четверо детей, и она хочет еще — столько, сколько заронит в нее муж. Для благополучия провинции необходима большая герцогская семья. До женитьбы Козимо на Элеоноре династия почти прервалась и канула в Лету, а теперь? Власть Козимо и влияние Флоренции незыблемы. Благодаря Элеоноре в детской уже спали двое мальчиков-наследников, будущих последователей отца, и две девочки, которых выдадут замуж за представителей других знатных семей.
Она цепляется за эту мысль: ей снова хочется зачать и к тому же забыть о некрещеном младенце, которого потеряла в прошлом году. Элеонора никогда не упоминает случившееся, даже духовник не знает о вечном призраке ее кошмаров — жемчужно-сером личике, скрюченных пальчиках. Она мечтает его вернуть, тоска не утихает, и единственное лекарство от этой загадочной меланхолии — поскорее родить другого ребенка. Она снова забеременеет, и все будет хорошо. У нее крепкое, здоровое тело — не зря тосканцы прозвали ее «La Fecundissima»[4]; роды для нее отнюдь не адская пытка, как для других женщин. Заботы о детях она поручила своей няньке Софии, которую привезла из отцовского дома. Элеонора молода, красива, муж верен ей и крепко любит, исполняет все ее прихоти. Она заселит детскую наследниками, будет рожать ребенка за ребенком. Почему нет? Ни один младенец больше не ускользнет от нее раньше срока — она не допустит!
Муж трудится в жарком Sala delle Carte Geografiche[5], советники и придворные дамы тоскливо вздыхают, прикрывают зевки, обмениваются усталыми взглядами, а мысли Элеоноры перескакивают с умершего младенца на болотные топи, заросли камышей, россыпь желтых ирисов, редкие пучки травы, мелькают расплывчатые образы болотных паров и туманов… Приезжают инженеры с механизмами и трубами, избавляют от излишней влаги и сырости… На полях обильный урожай, пасется тучный скот, а довольные подданные заселяют новую землю.
Элеонора опускает руки на плечи Козимо и внимательно разглядывает карты на стене, пока муж приближается к пику наслаждения. Вот Древняя Греция, вот Византия, обширная Римская империя, созвездия, неизведанные моря, острова — настоящие и вымышленные, окутанные грозовыми облаками вершины гор.
Разве могла она предвидеть, что совершает непоправимую ошибку, что следовало закрыть глаза и думать о супружеском долге, о сильном и красивом муже, который по-прежнему желает ее спустя столько лет? Откуда ей было знать, что рожденный после их соития ребенок окажется совсем не похожим на своих милых, послушных братьев и сестер? Увлекшись идеями, она позабыла о силе материнского отпечатка — и священники, и лекари в один голос твердили: характер ребенка определяется мыслями матери в момент зачатия. В будущем она не раз упрекнет себя за эту невнимательность.
Увы, слишком поздно. Мысли Элеоноры блуждают, где им заблагорассудится, словно обладают собственной волей, а взгляд цепляется за карты, ландшафты, дикие просторы.
Козимо, великий герцог Тосканы, завершает акт привычным хриплым стоном и нежно привлекает к себе жену. Элеонора тронута, но и рада наконец спуститься со стола (в конце концов, день очень жаркий!). Она велит придворным дамам проводить ее в покои, распорядиться о мятном tisana[6], сиесте и, наверное, чистой одежде.
И вот девять месяцев спустя на свет рождается девочка. Она громко кричит, извивается в пеленках, сбрасывает тугой свивальник[7] и даже спит, беспокойно вертясь; лишь на несколько минут она берет грудь кормилицы, которую тщательно выбрала София, а глаза ее всегда широко раскрыты, словно высматривают далекие горизонты, и Элеонору одолевает смутный стыд. Неужто в диком нраве ребенка виновата она? Все из-за нее? Она держит свои опасения в тайне, особенно от Козимо. Само существование этой девочки ее пугает: Элеонора всегда считала себя образцовой матерью детей, безупречно здоровых и душой, и телом. А теперь своенравная, сложная девочка ставит под удар роль Элеоноры во Флоренции.
Она все утро проводит в детской, укачивая пронзительно кричащую дочь; старшие дети затыкают уши и убегают в другую комнату. Господи, а если они переймут поведение младшенькой?! Станут вдруг, как та, вечно плакать и упрямиться? Не раздумывая, Элеонора переселяет дочку из детской на нижний этаж палаццо. «Только на время, — успокаивает она себя, — пока девочка не станет поспокойнее». Расспросив слуг, она выбирает дочке в кормилицы кухарку. Широкобедрая, жизнелюбивая женщина с радостью берет Лукрецию под крылышко: ее собственная дочь уже подросла, делает неуверенные шажки по каменным плитам — ей почти два года, пора отнимать от груди. Элеонора каждый день отправляет служанку на кухню — проверить, хорошо ли ребенка кормят. Свой материнский долг она исполняет добросовестно, тревожит только недовольство Софии, старой няни Элеоноры: она противится «изгнанию» Лукреции, но кормилицу вполне одобряет — еще бы, София сама ее выбрала. Однако герцогиня упорно стоит на своем: девочка должна жить отдельно от других членов семьи, в подвальной кухне, окруженная слугами и кухарками, бульканьем котлов и печным жаром. Лукреция лежит в деревянной лохани для стирки, а дочь кормилицы приглядывает за ней, гладит ее кулачки и тотчас зовет мать, стоит малышке плаксиво сморщиться.
Когда Лукреция начинает ходить, на нее чуть не падает котел с кипятком, и тогда девочку возвращают наверх, в детскую. Как грустно без привычной кухонной суеты и пара от кастрюль, а четверо незнакомых детей и вовсе ее пугают; она плачет два дня кряду. Верните кормилицу! Когда резались зубы, она давала деревянные ложки, чтобы чесать десны. Верните ложки! Верните букетики трав на подоконнике! Верните сырную корочку или кусочек теплого хлеба в ласковой руке! Ей не нужна комната с рядами кроватей, не нужны эти одинаковые дети: они постоянно перешептываются, косятся на нее, а потом встают и уходят! Малютке смутно припоминается жуткая картина: грохот, огромный черный котел на полу и поток шипящей жидкости. Не нужны ей заботы нянек — нечего им одевать ее и кормить! Ей нужна кухарка, ее молочная мама. Вот бы сжать пальцами прядку ее шелковистых волос, свернуться на мягких коленях и сладко уснуть. Вот бы увидеть доброе лицо молочной сестры, которая поет песенки и позволяет рисовать веточкой в золе…
София качает головой и бормочет:
— Говорила же, нельзя отсылать ее в подвал!
Девочка соглашается поесть, только если поставить тарелку на пол рядом кроватью.
— Как из леса сбежала, — ворчит София.
Она решительно заходит в покои Элеоноры и обо всем докладывает, уперев кулаки в боки, но ее бывшая подопечная только устало вздыхает и кладет в рот очищенный миндаль. Герцогине вновь предстоит рожать, и круглый живот горой возвышается под одеялом. Элеонора ждет мальчика. На сей раз она не стала полагаться на удачу и велела завесить комнату портретами здоровых юношей за достойными мужскими занятиями — метанием копья и сражениями на турнире. Она соглашалась выполнять супружеские обязанности только здесь, к большому разочарованию Козимо: он любил предаться страсти в коридоре или в мезонине. Но нет, Элеонора не повторит прежней ошибки.
В четыре года Лукреция равнодушна к куклам, не играет с братьями и сестрами и не ест за столом, как положено, — ей куда интереснее быть одной, носиться по крытой галерее, как дикарка, или часами глядеть из окна на город и далекие холмы за его пределами. Когда художник приезжает написать ее портрет, шестилетняя Лукреция вертится и ерзает, покуда Элеонора не выходит из терпения и не отсылает ее в детскую — картины не будет. В восемь или девять у Лукреции появляется новая причуда: она наотрез отказывается носить обувь, даже когда София шлепает ее за непослушание. А в пятнадцать, накануне свадьбы, она поднимает ужасный шум из-за платья, которое Элеонора лично поручила швеям и продумала, от синей шелковой ткани до узора из золотой парчи. Лукреция влетает в покои матери и во весь голос кричит: ни за что она не наденет платья, не наденет — и точка, оно ей велико! Элеонора сидит за scrittoio[8] и занята письмом одной из любимых аббатис, однако твердо и сдержанно отвечает дочери: платье ушивают, ей самой это прекрасно известно. Конечно, Лукрецию это ничуть не успокаивает, она переступает черту. Почему ее заставляют донашивать вещи за покойной сестрой, Марией?! Мало того что Лукреции достался ее жених, так теперь и замуж она пойдет в ее платье!
Элеонора откладывает штифт[9], мысленно поднимается из-за стола и подходит к арке, под которой стоит дочь. Снова вспоминается день ее зачатия. Элеонора смотрела на карты древних стран, грезила причудливыми, бурными морями, драконами и чудовищами, покорилась неистовым ветрам, сбивающим корабли с курса. Роковая ошибка! Сколько лет она преследует Элеонору, и как жестоко наказывает ее судьба!
А на другом конце комнаты стоит Лукреция, ее угловатое лицо блестит от слез и расцветает надеждой. Элеонора знает, о чем думает дочь: «Мама поможет. Она спасет меня — и от платья, и от брака. И все будет хорошо».
Первый тигр в Тоскане
Палаццо, Флоренция, 1552 год
Во Флоренцию прибыл знатный гость из другой страны и преподнес великому герцогу картину с тигром. Козимо восхитился подарком и вскоре пожелал владеть этим необыкновенным, беспощадным хищником. Для увеселения гостей в подвале палаццо построили зверинец, и тигр чудесно вписался бы в коллекцию экзотических животных.
Козимо поручил своему consigliere[10] Вителли найти тигра, поймать и доставить во Флоренцию. Советник знал, что этим кончится, еще когда увидел картину, и только украдкой вздохнул и исправно записал приказ в учетную книгу. Он надеялся, что государя отговорят от этой затеи или он сам о ней забудет, занятый восстанием республиканцев в Сиене[11].
Однако Козимо не оправдал тайной надежды Вителли.
— Как обстоят дела с тигром? — однажды спросил герцог. Он стоял на террасе и готовился к ежедневной тренировке — снимал с охотничьего сокола клобучок и пристегивал к поясу оружие.
Вителли принялся судорожно листать учетную книгу и что-то пробормотал о сложностях на морских путях с Востока. Козимо не поддался на обман. Герцог в упор посмотрел на Вителли левым глазом; его чуть косящий правый глаз глядел немного в сторону от советника.
— Неприятная новость, — покачал головой герцог, вкладывая сначала один, потом второй кинжал в сапоги, как делал всегда, переступая порог палаццо. — Очень неприятная. Ты ведь знаешь, вольеры в подвале уже готовы: пол подмели, решетки закрепили. — Он взял из рук слуги кожаный пояс и затянул на талии. — Нельзя держать клетки пустыми, нужно что-нибудь в них хранить. Или кого-нибудь.
Козимо поднял свой любимый меч — легкий и изящный, с узорчатым клинком, и рассек им воздух, на мгновение задержав на Вителли взгляд, полный жестокой насмешки.
Великий герцог вложил меч в ножны и спустился с террасы. За его спиной перешептывались секретари, наверняка их позабавила эта сценка — Вителли мог поклясться, что слышал сдавленный смешок.
— Возвращайтесь к работе! — прикрикнул советник, громко хлопнув в ладони. — Все за дело!
Секретари неспешно разбрелись, а Вителли упал на стул за рабочим столом, мрачно призадумался и притянул к себе перо и чернила.
Об интересе Козимо к тигру сообщили эмиссару, наместнику, морскому капитану, торговцу шелком, советнику султана, вице-королю, торговцу специями, заместителю секретаря во дворце махараджи, двоюродному брату махараджи, самому махарадже, его жене, сыну, а потом опять заместителю секретаря, а дальше солдатам и жителям бенгальских окраин.
Тигра изловили, привязали к жерди и увезли на корабле из жаркого края обильных дождей и густой зелени. Долгие недели и месяцы зверь провел под палубой в сырой, покрытой солью темнице и наконец прибыл в портовый город Ливорно. На суше тигра посадили в деревянную клетку и привязали ее к телеге, запряженной шестью перепуганными мулами.
Когда слуги с тигром уже подъезжали к Флоренции, Вителли письмом велел им подождать до темноты за воротами города. Советник распорядился ни в коем случае не везти зверя по улице средь бела дня — следовало припрятать телегу в каком-нибудь лесистом месте и ждать ночи.
Вителли рассудил так: флорентийцы ни разу не видели тигров, а потому шума не избежать. Зеваки столпятся поглазеть на диковинку, поднимется крик, дамы лишатся чувств, а юноши примутся на спор подстрекать зверя, тыкать в него копьями и палками. А если животное придет в ярость и разорвет путы? Вдруг, обезумев, оно ринется на улицу и сожрет детей и горожан? Лучше повременить до полуночи, тогда никто ничего не услышит и не узнает.
Конечно, кроме маленькой Лукреции, лежащей в тесной кровати с сестрами под самой крышей палаццо. Кроме Лукреции с печальным, серьезным взглядом и тонкими блеклыми волосами, столь непохожими на медно-каштановые роскошные локоны, унаследованные братьями и сестрами от матери-испанки. Кроме Лукреции, худенькой и маленькой для своих лет, каждую ночь спящей на самом краю матраса (старшенькая, Мария, любила раскинуться посреди кровати и вечно толкалась острыми локтями). Кроме Лукреции, засыпающей позже всех.
Она одна слышала рык тигрицы, когда повозка въехала в ворота палаццо — то был низкий, гулкий звук, словно ветер завыл в трубе. Ночь пронзил жалобный вопль — один, другой — и перешел в хриплый рокот.
Лукреция вскочила, будто ее кольнули иглой. Что за странный рев проник в ее сон и разбудил? Она осмотрелась.
Природа наградила Лукрецию тонким слухом: она слышала разговоры этажом ниже или на другом конце длинной бальной залы. Благодаря причудливой акустике палаццо полнилось звуками и вибрацией, шепоты и шаги разносились по балкам, эхом отдавались за мраморными рельефами и спинами статуй, проникали сквозь клокот воды в фонтане. Уже в семь лет Лукреция догадалась: если прислониться ухом к обшитой деревом стене или дверной раме, можно узнать много любопытного, например, как рукополагают нового кардинала, ждут приезда брата или сестры, обсуждают вражескую армию вдали за рекой, или внезапную смерть недруга на улице Вероны, или скорый приезд тигрицы. Пусть эти разговоры совсем не касались Лукреции, они змеей проскользнули в ее мысли и пустили там корни.
И снова вопль! Нет, не рык, как ожидала Лукреция, — в голосе тигрицы звучала тоска, отчаянная, хриплая нотка. То был плач существа, взятого в плен людьми, совершенно безразличными к его желаниям.
Лукреция выпуталась из одеяла и складок длинной Марииной ночнушки и спустилась на пол. Неуклюжесть движений, за которую ее частенько наказывала учительница танцев, без следа исчезала в детской: Лукреция всегда бесшумно скользила по полу, а ноги сами избегали треснувших или шатких каменных плит. На цыпочках прокралась она мимо постели, где спутанным клубком лежали братья, мимо низенькой кровати на колесиках, где balia[12] крепко прижимала к себе спящего малыша Пьетро. У двери сопели еще две няньки, но Лукреция перешагнула через них и отворила два засова.
Юркнув наружу, она пошла вдоль коридора, напоследок заглянув в комнату, — к счастью, старшая няня, София, мирно храпела. Остановившись у стенной панели с маленькой стрелкой, девочка со второго раза нащупала латунную задвижку. Дверца отворилась вовнутрь, и Лукреция исчезла в узком проходе, едва ли шире ее самой.
Палаццо пронизывали многочисленные потайные ходы — иногда огромное, толстостенное здание представлялось Лукреции яблоком, сплошь проточенным червями. София как-то обмолвилась (она и не подозревала, что Лукреция неплохо понимает неаполитанский диалект, на котором няни разговаривали между собой), что переходы предназначались для герцога и его семьи на случай нападения. Лукрецию так и подмывало спросить: чьего нападения? Однако она сообразила: нельзя выдавать секрет, полезно знать, о чем болтают няни среди ничего не подозревающих детей.
Через потайной ход можно было попасть во внутренний двор по извилистой скользкой лестнице с неровными ступенями. Лукреция не боялась, нет! И все равно задержала дыхание, подобрав рукой подол сорочки, чтобы не споткнуться. Как скоро ее найдут за потайными стенами, если она вдруг упадет и поранится? Услышат ли ее крики?
Лестница вилась кругами, словно моток шерсти. Затхлый воздух дышал сыростью, будто там долго держали живое существо. Лукреция подбадривала себя: «Не опускай голову, не останавливайся! В конце концов, бывало и хуже — так ведь?..» Ее подхлестывала мысль о тигрице. Обязательно нужно на нее посмотреть!
Когда тьма и запах стали невыносимы, появилась узкая полоска света. Дошла! Отодвинув маленькую, холодную щеколду, Лукреция поднялась по крытой лестнице со скошенными окнами на стенах и дважды убедилась: в бархатной уличной черноте не было ни стражников, ни слуг. И наконец с опаской выпрямилась.
Внизу жалобно ревели ослы, цокали копыта, потом прозвучал яростный рокот, похожий на раскат грома. Уперевшись в мраморный подоконник, она выглянула из окна.
Двор раскинулся под ней темной ямой в тусклом свете факелов на колоннах. Шестерых запряженных мулов обступили отцовские слуги в красно-золотых ливреях. Слуги кружились у повозки с заостренными палками в руках, перекрикивались друг с другом: «Отойди!», «Подальше, подальше!», «Замри!», «Осторожнее с рукой!», «Держи узду!», «Аккуратно!»
Один дотянулся до факела и взмахнул им перед телегой, озарив тьму огненной аркой. Животное ответило сердитым шипением. Мужчины рассмеялись. Еще одно движение — и снова гнев и страх зверя.
Крепко держась за подоконник, Лукреция наклонилась ниже и наконец увидела грациозную гибкую фигуру: тигрица не переходила из одного угла клетки в другой, а скорее перетекала, словно кипящая лава. Деревянные решетки сливались с черными полосами на мехе тигрицы, а его цвет напоминал полированное золото. Огонь во плоти, живая ярость и сила, изысканность и жестокость; полосы на теле пророчили тигрице заточение в клетке, будто сама судьба предназначила ей плен.
Мулы вырывались, мотали головой и в страхе поджимали губы. Они не видели тигрицу сквозь шоры, но ощущали ее присутствие и запах, знали: она совсем рядом, захочет — и схватит. Если бы не деревянная клетка, она бы разорвала на куски всех и вся — и мулов, и людей.
Мулы рванулись вперед, и повозку поглотила огромная пасть арки. Лукреция, не шелохнувшись, смотрела на опустевший двор и мерцающие на колоннах огоньки. Тишина, будто ничего и не было!
Палаццо отличалось изменчивостью, подвижностью, схожей с колебаниями флюгера. Иногда оно казалось Лукреции самым безопасным местом на свете, каменной крепостью за высокими стенами, где дети герцога жили в целости и сохранности, будто стеклянные фигурки в шкафу. А иногда дворец виделся ей мрачной тюрьмой.
Он стоял на углу самой большой пьяццы во Флоренции и тянулся до реки, а его стены возвышались над горожанами, как скалистые утесы. Длинные узкие окна не позволяли прохожим заглянуть внутрь. Из крыши поднималась квадратная башня с огромными колоколами, звон которых сообщал городу время. Зубчатые стены окружали палаццо со всех сторон, как поля — шляпу; детям очень редко позволяли там играть. Вместо этого они каждый день отправлялись с Софией на прогулку по крытым переходам, дышали свежим воздухом. По словам няни, их мама считала, что дети лучше растут от игр и упражнений, поэтому им разрешали играть в догонялки, бегать от одного открытого окна к другому и смотреть на прохожих далеко внизу.
Из самого дальнего угла перехода виднелась дверь палаццо и статуя подле нее — мраморный мужчина, смотрящий в сторону. Он словно избегал чужого взгляда, а на плече у него висела праща. Иногда Лукреция замечала уголком глаза, как родители обходят пьедестал и шагают в крытый экипаж: если стояла зима, мать носила меха, а если лето — цветной шелк. Предпочтение она отдавала желтому, алому и виноградному оттенкам. А если экипаж откуда-то возвращался, Лукреция высовывалась из окна, насколько хватало храбрости, и прислушивалась к легкой поступи матери и уверенной походке отца, в такт которой колыхалось перо на его шляпе.
София уверяла, что знает каждый уголок палаццо, и говорила детям: если сложить рост троих взрослых мужчин, то получится толщина стен в палаццо, вот до чего они плотные! Для одного лишь оружия есть отдельная комната с мечами и доспехами вдоль стен, а другая комната построена только для книг.
— Том за томом, куда ни глянь, — рассказывала няня, протирая детям лица влажным полотенцем или застегивая платья, — целые полки, а шкафы выше меня. Жизни не хватит все прочитать.
Также был зал с картами каждого уголка света и всех звезд на небе. За железной дверью с несколькими засовами хранились драгоценности их мамы: какие-то из казны испанского двора, какие-то от папы, но своими глазами София сокровищницу не видела — никто не видел, ибо открыть ее мог только герцог. А еще была огромная комната размером с пьяццу; весь потолок у нее был украшен и расписан.
— Чем? — спрашивала Лукреция, увернувшись от полотенца и заглядывая няньке в глаза.
— Ангелами, херувимами, великими воинами, сражениями, — отвечала София, возвращая голову подопечной на место. — В этом роде.
Когда Лукреции не спалось (то есть частенько), она воображала эти комнаты, поставленные одна на другую, словно кубики, которыми любил играть младший брат. Оружейный зал, зал карт, расписной зал, сокровищница… Сестра Лукреции, Изабелла, хотела посмотреть драгоценности, Мария — позолоченных херувимов на потолке. Франческо, будущий герцог, важно заявил: все эти комнаты он уже видел. И не раз. Джованни, погодка Изабеллы, только закатил глаза и тотчас получил от Франческо пинок по голени.
Никто не поинтересовался, что хотела бы посмотреть Лукреция. А если спросили бы, она бы ответила: Sala dei Leoni, львиный зал. Поговаривали, что у отца есть особая надежная комната в подвале под зверинец. Больше всего отец любил показывать почетным гостям львов, а иногда, забавы ради, он стравливал львов с медведями, кабанами, один раз даже с гориллой. Слуга, носивший животным еду, как-то шепотом поделился секретом: львы до того любят герцога, что позволяют ему заходить в вольер. И он заходит! В одной руке у него мясо на заостренной палке, а в другой — хлыст. Дети никогда не посещали Sala dei Leoni (хотя Франческо спорил, что там бывал), но если ветер дул в определенную сторону, раздавался приглушенный вой. А в жаркие дни до крытого перехода, особенно в задней части палаццо, выходящей на Via dei Leoni[13], доносился странный запах — тяжелый, душный смрад нечистот и пота. Мария с Изабеллой жаловались и прикрывали носы шарфами, а Лукреция бродила по переходу в несбыточной надежде хоть краешком глаза увидеть взмах хвоста или косматую гриву.
Наутро после приезда тигрицы в детской было так тихо, словно Лукреции заткнули уши воском. Она уснула лицом в подушку, а подняв голову, заметила, что растянулась посреди кровати совсем одна. Никто не толкал ее на край! Сестры ушли, братья тоже, судя по пустой постели на другом конце комнаты. И малыши пропали.
Надо же, как стало спокойно! Лукреция неспешно разглядывала беленые стены, свернутые покрывала, каменные ступеньки к подоконнику, кувшин с водой на полке.
Из-за открытой двери раздавались привычные звуки завтрака: крики и плач троих младших, звяканье ложек о тарелки.
Лукреция гребла руками и ногами на прохладных простынях, будто плыла по морю. На мгновение ей захотелось снова лечь на подушку — вдруг получится уснуть? — однако вспомнилось гибкое сильное плечо в черную полоску, и она решила посмотреть на зверя вблизи. Обязательно. Иначе никак. Хотелось встать перед ним, полюбоваться, как полосы сочетаются с оранжевым мехом. Можно ли пробраться в Sala dei Leoni? Кажется, потайного хода туда нет, а в коридоре или проходе ее заметят. Как же, ну как же в него попасть?!
Встрепенувшись, она соскользнула с кровати. Холодные шершавые плиты дугой изогнули ступни Лукреции. Девочка поспешно надела шерстяное sottana[14] и домашние туфли. Сквозь стылый воздух она пробиралась, подобно путнику, идущему вброд по ледяной воде. В голове роились идеи, как найти тигрицу.
Лукреция остановилась на пороге в другую комнату. По одну сторону стола расположились по росту четверо старших детей с одинаковыми рыжевато-каштановыми волосами. Все — погодки: Марие было двенадцать, Франческо одиннадцать, Изабелле десять, Джованни восемь. Они следовали один за другим, как ступеньки лестницы. Едва не касаясь головами, дети шептались о чем-то над хлебом и молоком.
На противоположной стороне сидели няни с маленькими подопечными — тремя мальчиками, тоже погодками: Гарциа исполнилось три, Фердинандо — почти четыре, малышу Пьетро не было и года. А вот Лукрецию со старшими и младшими разделял промежуток больше чем в два года: после Джованни родилась только она, и никто не заполнил перерыв между нею и Гарциа. Однажды она спросила няню Софию, почему. Почему у нее нет брата или сестры ближе по возрасту? София в ту минуту усаживала Фердинандо на горшок, братик яростно упирался, и няня сказала устало: «Может, твоя бедная мама хотела отдохнуть».
Лукреция подошла к столу боком, ставя одну ногу к другой. Она представляла себя тигрицей, что крадется на сильных лапах и внушает всем ужас.
Оказывается, ей не оставили стула. Ее место заняла кормилица с маленьким Пьетро, завернутым в шаль; высунув из-под пеленки ноги, братик сосал грудь, сжимая и разжимая пальцы.
Лукреция немного постояла между кормилицей и спиной Джованни, а потом взяла со стола ломоть хлеба. Ела стоя, отрывая кусочки зубами. Она тигрица, расправляется с добычей, но никто и не подозревает, что среди них хищница! Приобняв Изабеллу за плечи, Мария рассказывает что-то Франческо, Гарциа рвется с колен Софии на пол: ему хочется бегать. Наивные!
Лукрецию заметили, только когда она залакала молоко из чашки.
— Лукре! — прикрикнула София. — Прекрати сейчас же! Господи ты боже мой, что бы сказала твоя мать? — Она отпустила Гарциа, и он сразу помчался играть в кубики. — Что у тебя с волосами? В лесу ночевала? Почему платье задом наперед? Сущее наказание, скоро меня в гроб загонит! — жаловалась она другим нянькам, стягивая платье Лукреции через голову.
Девочка замерла, будто статуя у ворот палаццо, пока София распутывала колтуны и стирала молоко у нее с подбородка. А куда деваться? Няня была поперек себя шире, вдобавок плечистой и с тяжелой рукой. Щербатая улыбка — ибо зубов у Софии почти не осталось — редко озаряла ее лицо. Непослушание и баловство она пресекала строго. Няня постоянно напоминала маленьким подопечным: детская — ее владение, и всё там будет, как она велит. «Не твое, а мамино, старая корова», — как-то раз буркнула себе под нос Изабелла и сразу же получила суровое наказание — шесть ударов прутом и в постель без ужина.
Однако София не таила обид. Наутро Лукреция уголком глаза увидела, как сестра, чудом присмиревшая, обнимает няньку за шею, целует в щеку и что-то шепчет ей в чепец. София улыбалась, обнажая черные ямы на месте зубов, и ласково вела Изабеллу к столу.
Зажав губами шпильки, няня продиралась щеткой через волосы Лукреции, а другой рукой зажимала ей ухо. Не отрываясь от своего занятия, София велела balia отнять Пьетро от груди и запеленать получше, сказала Франческо не жадничать, а хорошенько пережевывать еду, и стала помогать Марии с утренними уроками.
Лукреция скривилась, когда щетинки зацепились за колтун, но не вскрикнула. Да и зачем? Стоит только ойкнуть, София раз — и шлепнет по ноге этой же щеткой!
Девочка отрешилась от всего вокруг и мысленно перенеслась в подвал Sala dei Leoni. К ней мягко крадется тигрица, в ее горле клокочет рык, но она не укусит, нет! Спокойно взглянет на нее, а Лукреция поприветствует зверя низким рокотом, и…
Ее дернули за ухо, и вот она снова в детской. Вокруг — гогот и насмешки. Что она пропустила?.. Старшие братья и сестры наконец ее заметили, потешались над ней и тыкали пальцами, а Изабелла даже согнулась пополам от хохота.
— Вы чего? — растерялась Лукреция, потирая мочку уха.
— Ты…ты… — Джованни прыснул.
— Что я? — выпалила она. Почему все на нее глазеют?! Лукреция обхватила руками мягкий нянин живот и уткнулась в него лицом, прячась от насмешливых взглядов.
— Ты рычала, — с ледяным неодобрением ответила Мария.
— Как медведь! — подхватила Изабелла. — Ну ты потешная, Лукре!
Они встали из-за стола и вышли, весело переговариваясь: Лукреция, мол, притворялась медведицей!
София грубовато погладила ее между лопаток. Лукреция прижалась к фартуку няни и вдохнула привычный запах — Софиин, и больше ничей — дрожжей, соли, пота, и нотки чего-то пряного, похоже, корицы.
— Ну же, — поторопила няня. — Поднимайся!
Лукреция запрокинула голову, не разжимая объятий. Тайна щекотала ей грудь изнутри, словно между ребер норовила выскользнуть шелковая лента. Рассказать Софии про тигрицу или не надо?
— Почему у тебя нет зубов? — вместо этого спросила она.
Нянька легонько стукнула ее по голове щеткой.
— Да потому, что пришлось кормить твою маменьку, ее сестер и братьев, а каждый ребенок забирает по зубу, а иной раз по два или три.
Как же так? Лукреция украдкой глянула на кормилицу. Та застегивала платье, а Пьетро перевесился через ее плечо. У нее тоже выпадут зубы? Все разом? Младенцы и зубы, молоко и сестры, молоко и братья… Неужели они с Марией, Франческо, Изабеллой и Джованни стоили balia по зубу, или даже по три?
София подняла Гарциа на колени, и младший брат Лукреции, лепеча, обнял няню за шею.
— Но почему… — начала Лукреция, однако София перебила:
— Хватит расспросов. Марш на уроки!
Лукреция нехотя забрела в классную комнату, где учитель античной истории разворачивал карты и таблицы, что-то объяснял, обводя нужные места указкой. Франческо тоскливо глядел в окно, Мария согнулась над грифельной доской и прилежно записывала события Троянской войны, а Изабелла корчила рожицы Джованни, стоило учителю повернуться спиной. Изабелла не просто гримасничала, а еще и сгибала пальцы, словно когтистые лапы: видимо, ей пока не надоело дразнить Лукрецию за невольный рык.
«Никак не успокоится», — с легкой тревогой подумала она и юркнула на свое место за маленькой партой в конце комнаты, после широких парт Изабеллы и Марии. Лукреция ходила на уроки всего несколько месяцев, сразу как ей исполнилось семь — этот возраст отец считал подходящим для начала обучения.
Учитель античной истории — молодой человек с заостренной бородкой — стоял перед ними с вытянутой рукой и шевелил губами, объясняя тему. Потом придет учитель музыки, они возьмутся за инструменты. После — черед рисования. Учитель поручит ей самое скучное задание — выписывать алфавит, пока остальные рисуют. Лукреция спрашивала, можно ли ей присоединиться к старшим, ведь это так интересно — переносить на чистый лист весь мир, изображать с помощью пальцев и мелка увиденное глазами, воспринятое мозгом, но взрослые велели подождать, пока ей не исполнится десять. Предстояла череда дней, месяцев и лет — унылых и однообразных, неотличимых один от другого.
Из головы не выходила кормилица. И выпавшие зубы Софии. И тигрица. И самые заветные желания: увидеть тигрицу, рисовать вместе со всеми, еще раз побывать в загородном поместье, где их учили ездить верхом и позволяли бегать по саду. Лукреция отрешилась от урока и унеслась в фантазиях далеко-далеко. Она представляла, что снова стала младенцем, и ее кормит добрая тигрица без клыков. Мех у нее гладкий, как шелк, а лапы ласковые, мягкие, и малышка Лукреция целыми днями спит в львином зале, зарывшись в теплый бок зверя. Никто туда не заходит, и никто ее там не ищет…
Стук указки о карту вырвал Лукрецию из грез.
— Где корабли греков попали в штиль, когда они отправились в Трою?
Франческо сонно моргал; Мария, облокотившись на рукав Изабеллы, недовольно поджимала губы: похоже, сестра шептала ей на ухо что-то неприятное.
«В Авлиде», — мысленно ответила Лукреция, взяла штифт и нарисовала на оборотной стороне листа длинную линию горизонта, пронизанную высокими мачтами неподвижных кораблей. Паруса свернуты, канаты на смычках уходят вниз, к скрытым в глубине якорям. Затем добавила алтарь со ступенями и людей на них. А пока работала, вспомнила лекцию о художественной перспективе, которую на прошлой неделе читал старшим учитель рисования, пока она выписывала буквы. Теория гласила, что мир состоит из слоев и глубин, как океан, и его можно изобразить линиями, которые пересекаются и сходятся в одной точке. Лукреции давно хотелось попробовать.
— Изабелла? — прищурился учитель.
Сестра отвернулась от Марии.
— Да?
— Назови, пожалуйста, место, где греческие корабли попали в штиль.
«Авлида», — опять подумала Лукреция, не отвлекаясь от рисунка. Она добавила девушку в длинном одеянии, и, сосредоточенно нахмурившись, постепенно сближала края дороги, чтобы соединить их по закону перспективы в точке схода, как им объяснял учитель.
Изабелла старательно изображала задумчивость.
— Оно начинается с «гаммы»[15], да? — Изабелла очаровательно склонила голову набок и одарила учителя самой прелестной из своих улыбок.
— Нет, — ответил учитель, равнодушный к ее притворству. — Джованни? Мария?
Оба покачали головами.
— Авлида, — вздохнул учитель. — Помните? Мы на прошлой неделе проходили. А как Агамемнон, царь Микен, умилостивил богов, чтобы те послали ему попутный ветер?
Тишина. Изабелла заправила прядку волос за ухо, Франческо подергивал рукав.
«Принес в жертву дочь», — вспомнила Лукреция, пририсовав облачение алтарю — складки ткани безвольно повисли, будто снасти на корабле. А вот как Ахиллес поджидает дочь, она рисовать не станет. Не станет!
— Как Агамемнон добился, чтобы греческие судна попали в Трою? — повторил учитель.
«Перерезал дочери горло», — прошептала про себя Лукреция. Она помнила каждое слово мифа, который учитель рассказал им на прошлой неделе. Так уж работал ее мозг. Слова впечатывались, как следы подошв во влажную почву, и затвердевали там навсегда. Иногда Лукрецию распирали слова, лица, имена, голоса, разговоры; голова пульсировала, ее шатало под грузом увиденного и услышанного, она врезалась в стены и углы столов. Тогда София укладывала ее, задергивала шторы, давала выпить tisana, и девочка засыпала. После пробуждения мысли были разложены по полочкам, как в шкафу — пусть полном, зато аккуратно разобранном.
А в классной комнате учитель спрашивал про Агамемнона и ветер. Лукреция положила голову на руки и шепотом предостерегала девушку с рисунка (Ифигению — необыкновенное имя, никогда она такого не слышала…). «Берегись, берегись!» — произнесла Лукреция одними губами. Отец соврал Ифигении, что выдает ее замуж. За Ахиллеса, бессердечного, но блистательного воина, сына морской нимфы. Доверчивая Ифигения отправилась к алтарю, но не свадебному, а жертвенному. Агамемнон перерезал ей горло кинжалом. Нет, невыносимо!
Не думай об этом, не представляй наивную девушку, блеск лезвия, зловеще спокойное море, вероломного отца, кровь и красные пузыри на алтаре! Эта история еще не раз вспомнится ей темной ночью. К ее постели подкрадется Ифигения с рассеченным горлом, похожим на алый шарф, и будет щупать одеяло ледяными, бескровными пальцами…
Едва не плача, Лукреция запихнула рисунок под книгу и надавила на глаза пальцами, чтобы заплясали цветные пятна. Сквозь гул в ушах она слышала слова учителя: «Ифигения», «жертва», а еще: «Что с ней? Заболела?»
— Не беспокойтесь! — отмахнулась Мария. — Она так внимание привлекает. Маменька говорит, ее лучше не трогать, и она сама перестанет.
— Точно? — протянул учитель с сомнением, какого никогда не звучало в его рассказах о греках, троянцах, кораблях и походах. — Может, позвать, м-м-м, няню?
Лукреция отняла ладони от лица. Яркий свет на мгновение ослепил ее, но потом она различила пристальные взгляды братьев и сестер, а еще учителя античной истории.
Она первой заметила за его спиной отца.
«Тигрица, у него в подвале тигрица!» — пронеслось в голове Лукреции.
Изабелла тут же выпрямилась, Джованни старательно склонился над дощечкой, Франческо поднял руку.
— Да, Франческо? — На щеках учителя горел румянец, а плечи одеревенели от напряжения: как и дети, он прекрасно знал, что в классную вошел Козимо, великий герцог Тосканы.
Отец страстно увлекался античностью и серьезно относился к ее преподаванию. Он сам подыскал детям учителя и говорил, что с семи лет и сыновья, и дочери равно должны изучать как греческую, так и римскую историю. Учитель рассказывал, что у Козимо была впечатляющая коллекция манускриптов, недавно привезенных из Константинополя, и ему позволили их посмотреть и даже потрогать, как он признался с застенчивой гордостью.
Козимо вошел в комнату, держа руки за спиной. Вышагивал между парт и смотрел, что записывают дети. Коснулся макушки Франческо, кивнул Марии, потрепал Изабеллу по плечу; неторопливо и решительно прошел стол Лукреции. Краем глаза она видела заостренные носы башмаков, оборчатые манжеты. Хорошо, что она спрятала рисунок! Отец постоял немного у окна, а потом сказал:
— Прошу, продолжайте, синьор. — Он улыбнулся ровными, белоснежными зубами. — Представьте, что меня тут нет.
Учитель прокашлялся, спешно пригладил бородку и снова показал на карту Древней Греции.
— Изабелла, — начал он. Неужели нарочно выбрал любимицу Козимо? Понимал ли, что она не сможет ответить? Он даст ей легкий вопрос? — Пожалуйста, напомни нам, как Агамемнона втянули в Троянскую войну? Как он был связан с Еленой Прекрасной?
Изабелла выпрямилась, прижала локти к себе, аккуратно заправила за уши пряди. Папа стоял у стены, поднимаясь и опускаясь на носках. И тут Лукрецию осенило.
— Изабелла? — повторил учитель, постукивая указкой по бедру. — Как Агамемнон связан с Еленой?
Лукреция наклонилась, будто бы за штифтом, словно невзначай прикрыла рот ладонью и прошептала в спину сестре:
— Елена была женой его брата, Менелая.
И выпрямилась. Изабелла вскинула голову от неожиданности, а Мария недоверчиво нахмурилась, покосившись на сестру.
— Она была женой его брата… Какого-то Мене.
Учитель улыбнулся с явным облегчением. Отец кивал, пока тот хвалил замечательный ответ Изабеллы и объяснял: брата звали Ме-не-лай.
— А вот как это имя пишется по-гречески. Перенесите, пожалуйста, на дощечки…
Лукреция наскоро переписала греческие буквы и снова наклонилась вперед.
— Мария! — прошептала она. — У папы есть тигрица, ночью привезли.
Сестра опять полуобернулась к ней, но вовремя спохватилась: учитель проверял, как они выполнили задание, указывал Джованни на ошибки: нужно отточить написание этой буквы, поработать над этим крючком… Папа вновь смотрел на дверь. Лукреция затаила дыхание. Он уже уходит?..
Учитель молча прошел мимо Изабеллы, и только он наклонился к дощечке Лукреции, как Изабелла позвала:
— Папа!
Герцог обернулся, уже взявшись за ручку.
— Что?
— До меня дошел один слух! — объявила она, невинно приложив палец к щеке.
— Неужели? И какой?
— Привезли тигрицу! — подпрыгнула на стуле Мария.
Отец опешил. Поначалу он не нашелся с ответом, а потом улыбнулся и сказал:
— Ушам не верю! Слышали ее, синьор? Всё-то мои дочки знают! — Он погрозил пальцем Изабелле и Марии. — В маму пошли!
Изабелла восторженно хлопнула в ладоши.
— Можно поглядеть? Папуля, ну пожалуйста! Разрешишь?
— Посмотрим, — рассмеялся он. — Я вас всех возьму с собой, если будете сегодня хорошо учиться. Смотрите мне, спрошу у синьора!
Когда урок заканчивается и дети бегут вниз на занятия музыкой, зажав инструменты под мышкой, учитель античной истории собирает графитные доски и грифели. От усталости он едва волочит ноги и мечтает лишь о тарелке бобов с хлебом, которую ему дадут на кухне, а потом — пора к себе, в тесную каморку. Скорее бы покончить с работой и вернуться к своим изысканиям… Дойдя до парты Лукреции, он застывает на месте. Берет ее рисунок двумя пальцами и рассматривает: на бумаге не греческие прописи, а задание по художественной перспективе — и надо же, какие безупречные линии, все принципы соблюдены! Даже Авлида есть: застывшие корабли, неподвижное море, вот Агамемнон ждет у предательского алтаря, а бедная Ифигения идет ему навстречу.
Пораженный, учитель задирает голову, оглядывает комнату — наверное, его разыгрывают? Да как маленькая тихоня, которую он едва замечает, сумела такое? Безумие, конечно, но кто еще мог это нарисовать? Учитель хочет разозлиться — девчонке надо было слушать урок, а не малевать! — однако ее рисунок так зачаровывает, так интригует, что всякое недовольство исчезает без следа.
Учитель сворачивает лист, сует в карман камзола и до конца дня забывает о необычном происшествии. А когда приходит время ложиться в постель, рисунок выпадает на пол, и учитель опять внимательно рассматривает его у огонька свечи. Таинственный, безветренный мир Авлиды вновь оживает перед глазами.
На следующий день учитель античной истории сталкивается с учителем рисования — немного женоподобным юношей, любителем бархатных шляп, учеником Джорджо Вазари, придворного художника.
— Я хочу вам показать одну вещицу, — сообщает учитель античной истории, достав рисунок Лукреции из кожаной папки. — Что скажете?
Учитель рисования с улыбкой останавливается: в глубине души ему нравится коллега, истовый слуга науки в блестящих очках. Ловко смахнув с лица кисточку берета, учитель рисования изящным жестом принимает листок, по-прежнему обворожительно улыбаясь. Картинка его не слишком интересует: он гадает, пригласить ли историка на вечернюю прогулку. Пусть оставит свои пыльные книги и пройдется с ним по узким улочкам города! Светло-зеленые глаза учителя рисования пробегают по бумаге, а сам он мысленно подбирает слова. Вдруг приглашение вылетает у него из головы. Взгляд скользит от горизонта к алтарю, от алтаря к облачению, задерживается на силуэте девушки — как точно передана ее легкая поступь, и какая угроза таится в мощной фигуре мужчины у алтаря! Линии дороги постепенно сужаются, ракурс и пропорции корабля создают передний и задний планы.
— Кто это нарисовал? — Учитель рисования переворачивает лист, но подписи на обороте нет. — Мария? Il principe[16] Франческо?
Учитель античной истории качает головой.
— Лукреция.
— Маленькая девочка с задней парты? — удивляется учитель рисования, не сразу ее припомнив.
— Она, — мрачно кивает собеседник. — Мне показалось, вам следует это знать.
И уходит прочь по коридору, прижимая к груди книги и карты. Учитель рисования провожает коллегу глазами — снова он упустил случай его пригласить.
Рисунок притягивает взгляд. Слишком много в нем жизни, неприкрытого чувства. Невероятно!.. Слуги и стражи обходят учителя рисования, а он гадает, как поступить с маленькой художницей и ее работой.
Дети навсегда запомнят ночной визит в Sala dei Leoni, каждый по-своему. Франческо будет вспоминать, как солдаты у всех ворот крепко сжимали оружие и отдавали честь его отцу. Мария вновь и вновь будет перебирать в памяти, как били струи из фонтанов — оказывается, пасть дельфина даже ночью извергала воду. В памяти Джованни отложилось, как гримасничала Изабелла, передразнивая торжественные лица с портретов: и сварливого вида предка в треуголке, и самодовольную женщину с ниткой бус, и высокомерного мужчину, у ног которого сидела до нелепости маленькая собачонка, и пару бескровных детей с глобусом за спиной. Изабелла с точностью изобразила их всех, насмешливо сверкая глазами.
Чтобы не отстать, Лукреция вцепилась в отцовскую мантию и жадно оглядывала палаццо. Широкие каменные лестницы, перила на стенах, вереница комнат, потолки, расписанные звездами или золотыми лилиями, резные арки с фамильным гербом, слуги, с почтительным поклоном расступающиеся перед герцогом и его детьми, тяжелые двери, которые отец отворил, прежде чем войти.
Сколько всего было в палаццо, смотреть не насмотреться! И как уверенно отец шел по своим владениям!
Козимо остановился у прохода, едва заметного меж двух других, и ждал, пока слуга торопливо не метнулся отпереть дверь. Они спускались по узкой лестнице, все глубже и глубже под землю. В самом низу была еще одна дверь, с крепкими коваными петлями. Отец вынул из сапога тонкое лезвие и постучал по двери рукояткой.
Все замерли в ожидании. Изабелла шмыгнула к Марии, а Джованни стиснул пальцы сестры. Побледневший Франческо глядел на отца, будто искал в его лице подсказку, как себя вести.
Дверь открылась, и в нос ударил смрадный дух нечистот и гниющего мяса. Животные — интересно, сколько их было? — выли, визжали и заходились лаем, и, конечно, Лукреция не могла ни понять их языка, ни осмыслить их слов.
Первой стояла клетка с двумя обезьянами. Приматы обнимали друг друга длинными руками и с любопытством глядели на гостей в ночных рубашках, шалях и домашних туфлях. На каменном полу следующей клетки растянулся серебристый волк, словно надеялся сойти за ковер; у стены сгорбился, опустив морду к полу, закованный медведь. Чуть поодаль стоял большой аквариум, но ничто не тревожило водной глади: какое бы существо там ни обитало, той ночью оно затаилось.
Отец подошел к вольеру в конце ряда. Невероятное зрелище предстало перед глазами детей: лев и львица обхаживали друг друга, и на каждом четвертом шаге, подсчитала Лукреция, лев склонял голову набок и издавал протяжный звук, похожий на вой. Золотисто-карие глаза львицы задержались на гостях, но она отвернулась.
Лукреция покосилась на отца. Выходит, вот она, его любимица? Ее он кормит мясом с железного наконечника?
Козимо следил глазами за движениями львицы и щелкнул языком. Уши зверя дернулись, но она не подошла к решетке.
— Хм-м, — протянул отец. — Мы сегодня не в духе.
— А почему, папа? — спросила Мария.
— Чуют тигра. Знают, что он здесь.
Наконец, Козимо пошел дальше. Вот он, долгожданный миг! После клетки львов стояла еще одна — совсем пустая; интересно, что случилось с ее обитателями?.. Отец остановился.
Последний вольер в ряду упирался в стену. Они достигли края здания. Снаружи была улица, потом еще одна и еще, а дальше вилась охряная лента реки.
Вольер защищали крепкие железные прутья. Факел на стене отбрасывал треугольный луч света на половину клетки, но не рассеивал темноту в глубине. Кусок мяса с мраморным узором жира лежал на полу нетронутый. Кроме него, ничто не говорило о присутствии тигрицы.
Лукреция не сводила с клетки взора. Всматривалась во тьму в надежде увидеть проблеск оранжевого, заметить блеск тигриных глаз, малейшее движение или знак, что зверь рядом. Напрасно.
— Папа? — нарушила молчание Изабелла. — А тигр точно здесь?
— Да, — ответил отец, вытянув шею. — Где-то тут.
И снова тишина. Лукреция прижала руки к груди. «Прошу, — взывала она к животному, которое провезли по городу в деревянном ящике. — Прошу, покажись! Я больше не смогу прийти. Пожалуйста, покажись!»
— Может, спит? — неуверенно предположил Джованни.
— Может, — ответил отец.
— Просыпайся! — крикнула Изабелла, подпрыгивая. — Просыпайся! Ну же, киса, вылезай!
Козимо улыбнулся и погладил дочь по голове.
— Киса у нас лентяйка! — наконец сказал он. — Даже не вышла с вами познакомиться.
— Папуля, — Изабелла взяла его за руку, — а можно еще раз посмотреть львов? Мне они больше всех нравятся.
— Конечно, — обрадовался отец. — Прекрасная мысль! Они куда интереснее засони-тигра! Идемте.
Он повел детей по коридору, а слуга с факелом следовал за ним.
Лукреция незаметно отстала от слуги, а потом и вовсе затаилась, скрытая пеленой тьмы. Развернулась и тихо пошла назад, назад, назад — до самой клетки с тигрицей.
И там села на корточки, притихла. Угол освещал только факел на стене. Родные торопились ко львам, которые до сих пор бродили друг за другом по вольеру. Изабелла спрашивала высоким голоском, будут ли у львов детки, и можно ли подарить одного ей, она мечтает о собственном львенке! «И я, и я! — вторили ей Джованни с Марией. — Папа, пожалуйста!»
Густая тьма в конце комнаты пульсировала и гудела. Лукреция вглядывалась в нее, силясь вообразить сидящее там животное. Каково это, когда тебя похищают из далекой-далекой страны, привозят на корабле в Тоскану и запирают в каменной темнице?
«Прошу!» — молила она так горячо, как никогда не молила на церковной скамье.
От жирного мяса исходил едкий железистый запах. Почему тигрица не съела угощение? Не захотела? Слишком ей было грустно? Боялась львов?
В бездонном мраке Лукреция высматривала движение, цвет, что угодно, но либо зрение ее подводило, либо она смотрела не в ту сторону: когда что-то мелькнуло у каменной стены и Лукреция обернулась, тигрица уже приближалась к ней.
Поступь ее напоминала капающий мед. Она явилась из полумрака клетки, как повелительница джунглей, и грязная глинистая земля Флоренции покорялась ее мощным лапам. О нет, то была не «киса»! Кипящая лава, бушующее пламя, сноп ярких искр — и поразительная симметрия зловещих черт. Лукреция в жизни не видела ничего столь красивого. Огненные спина и бока, светлый живот. Отметины на ее мехе оказались отнюдь не полосками — это простое слово совсем не подходило. Нет, это было дерзкое, черное кружево — и украшение, и маскировка, сама ее суть, ее спасение.
Шаг за шагом тигрица приближалась, высвеченная треугольником света. Взгляд ее не отрывался от Лукреции. Девочка подумала, что зверь пройдет мимо, как до того львица. Однако тигрица ее запомнила, подошла именно к ней. Им многое предстояло сказать друг другу. Лукреция это знала, и тигрица тоже.
Лукреция опустилась на колени рядом со зверем, любуясь черными полосками на янтаре меха. Будто резьба! Тело тигрицы вздымалось от дыхания, линия туловища плавно сужалась к животу, изящные лапы были чуть расставлены, сильные мышцы напряжены. Тигрица подняла глянцевитый нос и принюхалась: похоже, оценивала обстановку. От зверя исходили волны одиночества и печали, ужас похищения и бесконечно долгих недель в море. Лукреция как наяву ощущала жгучие удары плеткой, острую тоску по густым туманным джунглям, заманчивым тоннелям среди зарослей, где тигрица была единовластной королевой, а еще — горечь заточения. «Неужто нет надежды? — безмолвно спрашивала тигрица. — Я здесь навсегда? Уже не вернусь домой?»
Глаза Лукреции наполнились слезами. Остаться одной в таком месте! Нечестно, жестоко! Она попросит папу отослать тигрицу обратно. Пусть посадят ее на корабль и отвезут туда, откуда взяли, откроют клетку — и зверь скроется среди поросших мхом деревьев.
Затаив дыхание, Лукреция просунула ладонь между прутьями и потянулась изо всех сил, чуть не вывихнув плечо и прислонившись лицом к решетке.
Шерсть тигрицы была теплой и бархатистой. Лукреция мягко провела пальцами по спине зверя, почувствовала дрожь мышц, изгиб бусин-позвонков. На ощупь мех оказался гладким полотном; Лукреция думала, что черные полосы напоминают нашивки на рыжем меху, но нет: участки разных цветов плавно переходили из одного в другой.
Тигрица подняла морду — или скорее лицо, подвижное и многогранное — и принялась изучать девочку, силясь понять смысл ее прикосновения. Глаза зверя горели величием древнего божества.
Они с тигрицей долго рассматривали друг друга. Лукреция не отнимала пальцев от спины животного, окружающий мир для нее исчез. Ее жизнь, имя, семья и все вокруг померкло, растворилось в пустоте. Она лишь ощущала, как бились их с тигрицей сердца, как наполнялись алой кровью, вновь выталкивали ее и насыщали артерии. Затаив дыхание, Лукреция не моргала и не опускала глаз.
И вдруг — вопль!
— Папа, папа! — звала Мария. — Смотри!
Реальность волной нахлынула на Лукрецию: призрачно-бледная Мария грозила ей пальцем, топали ноги, звучали крики; ее схватили со спины и уволокли, оторвав от тигрицы. Отец раздавал приказы, кто-то из детей голосил, а сама она кричала:
— Нет, нет, отпустите!
Солдат отца нес ее по коридору, а Мария бежала рядом и совестила Лукрецию: дурочка, ты ведь и погибнуть могла, говорила же я вам, она слишком маленькая, а что скажет мама… Запястье Лукреции пульсировало болью, а с руки будто сняли перчатки — кожа еще помнила теплый мех и гладкие полосы.
О родных она не думала, не знала даже, где они: рядом с ней, впереди, за спиной или до сих пор у клетки со львами… Понимала только одно: ее утащили от того, что ей желаннее всего на свете, и с каждым шагом она все дальше от своей мечты. Она плакала навзрыд, умоляла отпустить ее, но никто не обращал внимания. Лукреция обернулась через плечо солдата и не отрывала глаз от клетки, пока та не растворилась вдалеке, однако перед этим (о, Лукреция могла поклясться!) тигрица напоследок посмотрела ей вслед и исчезла в темноте, сердито взмахнув полосатым хвостом.
Оленина в вине
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
— А завтра предлагаю покататься у реки. — Муж наклоняет к себе тарелку и вычерпывает остатки супа. — Ближе к западу открываются чудесные виды. Я распоряжусь, чтобы вам подогнали седло — по-моему, оно заваливается налево. Боюсь, когда вернемся, надо будет проверить копыта у вашей лошадки, и…
Лукреция внимательно смотрит мужу в лицо. Его слова теряют всякий смысл, покуда не превращаются в бессвязный лепет, бурчание неведомого зверя. Зачем он все это говорит? Как он может спокойно есть, рассказывать о конюхах и сбруях, когда в голове у него зреет план убийства?
И снова Лукреция вспоминает хриплый шепот его сестры Элизабетты: «Ты понятия не имеешь, на что он способен».
Хотя в большом камине гудит огонь, а в комнате надышала и она, и муж, и притихшие слуги, воздух холоден, как сталь. Непривычно морозная зима никак не кончается. Даже слабые огоньки в красивых латунных подсвечниках дрожат, и в зале царит полутьма. Лицо Альфонсо то расплывается, то опять становится четким. Его выражение меняется при каждом колебании свечи. Лукреция следит как завороженная: вот он задумчив, вот добр, сердит, оживлен, строг, красив, игрив и, наконец, — отстранен. Верно, она понятия не имеет, на что он способен, и выяснять не хочет.
Ее подозрение столь смешно и нелепо, что в груди булькает пузырек тайного веселья. Если не держать себя в руках, то попросту расхохочешься: в какую несуразную историю она попала! А муж сидит рядом, разглагольствует, притворяется спокойным!
Муж, замысливший ее убить — самолично или чужими руками, — стирает салфеткой каплю супа со щеки, будто это невесть какое дело. Муж, желающий ей смерти, отбрасывает непослушную прядку со лба и заправляет за ухо. Муж-убийца бросает слугам через плечо, что повар недосолил суп. Будто им сейчас до приправ! Муж, который вскоре лишит ее жизни, тянется к ней, хочет согреть ее пальцы. Тут она спохватывается. Вернувшись к реальности, она отдергивает руку, берет ложку и набирает супа.
Скукожившись, пузырек в груди сгорает и перерождается в слепую ярость. Как Альфонсо смеет?!
Она поднимает ложку ко рту, а рука дрожит от напряжения. Нельзя выдать ему своих мыслей, нельзя… Здесь главное не выдать себя. На поверхности супа блестят масляные кружочки. Лукреция вглядывается в них. Если только она увидит лицо мужа, аккуратный пробор и белые зубы, гнев ее перельется через край, и она закричит, ударит его или выбежит из комнаты.
Она не даст ему себя убить, уничтожить. Только как может шестнадцатилетняя девушка, хрупкая для своих лет, и вдобавок без друзей и союзников в этом страшном месте, одержать верх над солдатом, герцогом, взрослым двадцатисемилетним мужчиной? Ее братья ходили на уроки боевого мастерства: часами учились драться на мечах, дротиках и копьях, тренировались душить неприятеля веревками, бить палицами, колоть и резать кинжалами, отражать удары, делать выпады и калечить, блокировать атаку одной рукой, а другой отвечать противнику, уворачиваться, высвобождаться из хватки врага, убивать и выживать. Всему этому их обучали, как в свое время Альфонсо, а они с Изабеллой и Марией томились наверху, вышивая цветы шелковыми нитями.
«Тебе нужен план, — звучит в ушах шепот старой няньки Софии. — Выдашь себя — проиграешь».
План. Стратегия. София все продумывает наперед. Лукреция частенько говорила ей: родись она мужчиной, из нее вышел бы прекрасный condottiero[17].
«Так тому и быть, — отвечает Лукреция невидимой Софии. — Так тому и быть».
Она медленно выдыхает через нос. Выдавливает улыбку, поднимает ложку и прихлебывает суп.
За три года до свадьбы план у Лукреции и вправду был. Она пошла в кабинет отца («И погляди, чем кончилось», — сказала бы она Софии, будь та в комнате. Впрочем, за такое нахальство нянька могла и надрать ей уши). Решительно переступила через заветный порог, сжав руки и подняв подбородок. Она все продумала.
Секретари и писари отца изумленно на нее взглянули и вновь усердно принялись за бумаги. За окном пустым листом пергамента белело небо. С пьяццы несколькими этажами ниже долетали обрывки звуков: чуткий слух Лукреции уловил непристойную песенку, надрывный плач уставшего ребенка и отголоски звонкого девичьего смеха.
— Папа!
Он стоял у кафедры и что-то читал, быстро водя пальцем по бумаге.
— Папа!
Он не обратил внимания. Вителли заглядывал в документ через плечо отца и только выставил ладонь, прося помолчать.
Но ждать было некогда. Брачный договор в любую минуту могли закончить, скрепить печатью и выслать в Феррару. Еще немного, и станет слишком поздно.
— Папенька, — вновь позвала она, подражая Изабелле, и попыталась вспомнить хорошо отрепетированные слова. — Я не хочу выходить за него замуж. Сожалею, если вас это огорчает, но…
Не отрывая пальца от строчки, отец что-то прошептал секретарю и только потом повернулся к ней.
— Милая! — Он вышел из-за стола, странно поглядывая на Лукрецию, будто самому себе не веря: она еще ни разу не появлялась у него кабинете. Правый глаз отца косил больше обычного: он либо устал, либо рассердился. Увы, наверняка узнать нельзя.
— Подойди. — Отец поманил ее пальцем. — Сюда, давай же.
Она послушалась. Интересно, он обнимет ее или обругает? Один глаз неотрывно смотрел на нее, а другой блуждал по комнате, словно отец умел думать о нескольких вещах одновременно.
Он положил руки ей на плечи, закрыв складками мантии.
— Лукре… — Отец наклонился к ее лицу, и они оказались словно в маленьком шатре. — Я понимаю. Замужество для девушки серьезный шаг. Очень страшно, правда? Вижу по тебе, что страшно. Не тревожься! Мама тебя ко всему подготовит. А я? Я нашел тебе лучшую партию. Да разве я мог отдать родную дочь дурному человеку?
Он легонько потрепал ее по щеке, и на мгновение его глаза сошлись в одной точке.
— Ты ведь доверяешь папе, правда?
Лукреция кивнула.
— Конечно, дов…
— Разве я о тебе не заботился?
— Заботился, но…
— Ну вот! Волноваться не о чем. Альфонсо — прекрасный мужчина. Однажды станет герцогом, а как образован! К тому же…
— Он такой старый! — выпалила Лукреция. — А еще…
— Ему и тридцати нет. По-твоему, это старость? Кто же тогда я? — Отец отодвинулся от нее в притворной обиде. — Мне пора в гроб ложиться? — пошутил он, на что помощники и советники услужливо рассмеялись.
Впрочем, Лукрецию не обманул отцовский тон: взгляд его оставался пристальным и серьезным.
— Ни о чем не беспокойся. — Отец повел ее к двери. — Не сомневаюсь, брак будет необыкновенно удачный. Посмотри на нас с мамой. Сама знаешь, мы едва познакомились, как…
Лукреция прервала отца:
— А нельзя женить его на моей кузине? — разом выдала она план, который сочинила тем утром в спальне.
Козимо замер: он только теперь понял, как твердо и упорно противится дочь.
— На кузине? — с недоумением повторил он. С тем же успехом она могла сказать «на моей собаке».
— Скажем, что я болею, или от природы слаба здоровьем. Или… да что угодно! Дианора вполне взрослая и очень красива. Уверена, она сразу понравится Альфонсо и его отцу. Нельзя ли предложить ее в кач…
— Дианора, — чеканил каждый слог отец, — выходит за твоего брата Пьетро.
— Пьетро? — поразилась Лукреция. Такая замечательная девушка и Пьетро — взбалмошный мальчишка? Немыслимо! — А если…
— Все уже решено, — отрезал Козимо. Он отвернулся от нее и взглядом подавал какой-то знак своему человеку — Лукреция не видела, кому именно.
— Тогда, может… — Путь к спасению сужался, заветная дверь на свободу с хлопком запиралась на ключ. Что же придумать, что предложить взамен? Как поступила бы София? Что подсказала бы? Если Дианора и вправду обручена с Пьетро, то…
— Взгляни на сестру. — Отец настойчиво похлопал ее по руке. — Изабелла тоже боялась перед свадьбой, помнишь? А теперь расцвела!
— Наверное, — неохотно ответила Лукреция. На самом деле Изабелла ничуть не боялась, а брак почти не изменил хода ее жизни: ей разрешили жить во Флоренции, а муж вернулся к себе в Рим, и виделись они всего несколько раз в год. Тогда как ее, Лукрецию, отправляли к незнакомому мужчине в Феррару, на чужбину. Однако Козимо, как и большинство взрослых, кроил по своей мерке, а потому спорить было бессмысленно.
— Я ведь нашел ей доброго мужа, она счастлива?
— Да, только…
— И у тебя все будет хорошо. Обещаю. — Герцог улыбнулся и довольно кивнул, словно решил вопрос. — Я долго переписывался с отцом Альфонсо, мы оба уверены, что ваш союз будет прекрасен. Вот пройдет время — вспомнишь этот разговор и…
— Папа… — Голос Лукреции надломился, предательские слезы подступили к глазам. — Я не хочу за него замуж. Прошу, не отдавай меня.
Ее горячность и просьба оттолкнули присутствующих, как волна ядовитых паров. Отец развернулся на каблуках и встал за кафедру, Вителли последовал за ним как тень, а секретари с облегчением засеменили к письменным столам.
— Сил моих больше нет, — пробурчал отец или в сторону Вителли, или дочери, или вообще всем в комнате. Лукреция потом гадала, предназначались ли следующие слова для ее ушей. — Всегда в ней было нечто странное, не подходит она для семейной жизни! Как бы они не пожалели и не вернули ее обратно в первый же месяц.
Альфонсо хочет, чтобы она хорошенько отужинала, но мысль о скорой смерти портит аппетит. Однако муж настаивает на кусочке оленины в красном вине, а затем еще на одном и еще. Лукреция якобы очень похудела после недавней болезни, ей нужно набраться сил, а мясной сок полезен для кровообращения. Она съедает кусочка два, остальное мелко режет и понемногу выбрасывает в салфетку на коленях. Муж отрывает ломоть хлеба, аккуратно убирает корочку, окунает в соус и подносит капающий мякиш к ее рту. Она решает не говорить, что у нее все внутри переворачивается от мокрого куска мяса в волокнах мышц и белого жира, от лужиц чего-то красного — то ли вина, то ли крови. Поэтому съедает размякший хлеб с рук мужа и через силу проглатывает.
Альфонсо рассказывает, как еще мальчиком ездил на охоту с отцом, «лет в восемь или девять», и увидел на поляне кабана. Альфонсо согнул лук, но стрелу выпустить не решился.
— Это была самка, — объясняет он, — а с ней три кабаненка, бледно-коричневых, с полосками на спине. Не слишком похожие на мать. Я знал, что нужно выстрелить, иначе отец разозлится, но не мог. Просто сидел на лошади и смотрел, пока они не исчезли в зарослях.
— Ваш отец разозлился?
Неверный отблеск огня освещает подбородок Альфонсо. Муж то ли улыбается, то ли кривится — сложно понять точно.
— Велел меня выпороть. Я не мог сидеть три дня. Он хотел преподать мне урок: там, где требуется решимость, не место сантиментам.
Лукреция раздумывает над советом почившего свекра: вот как, решимость и сантименты. «Разве они не могут быть связаны? — хочет спросить она. — Разве решимость не бывает продиктована чувствами? Разве сердцу нет места в подобных вопросах?» Отпив глоток вина, она представляет мужа мальчиком на залитой солнцем поляне; он завороженно смотрит, как кабаниха ищет трюфели, а за ней перебирают копытцами три кабаненка. Затем воображает, как Альфонсо порют на глазах у отца.
— Мой отец, — неожиданно для себя начинает Лукреция, — держит в палаццо экзотических животных. У него в подвале зверинец.
— А! Да, я слышал. Вы видели, как они дерутся?
— Нет. Он никогда… Это зрелище он приберегал для гостей. Еще, может, для моих братьев, не знаю. Когда я была маленькой, он разрешил старшим детям посмотреть зверинец и мне заодно. Я радовалась, что меня тоже позвали, сочли достаточно взрослой — моих младших братьев оставили в детской. Понимаете, там была тигрица, и я…
Лукреция умолкает: и так наговорила лишнего. А главное, зачем? Она никогда не рассказывает о тигрице, ни с кем ее не обсуждала и обсуждать не будет.
Альфонсо, наклонившись к свету, с интересом изучает жену. Его внимательный взгляд скользит по ее чертам, ищет ответы. «Что все это значит? — думает Альфонсо. — Она так уверенно говорит… История о тигре, да, но что она пытается мне сказать? Почему замешкалась? Что скрывает?»
Она может поведать ему все. И о пытливом прикосновении к пламенному меху, и о том, как ушибла запястье о решетку, когда ее оттаскивали. Описать смрад зверинца, цепь на медвежьих лапах. Поведать, как через несколько недель после Sala dei Leoni она решилась подойти к отцу во время урока музыки, куда он порой заглядывал, если выпадала свободная минутка, и спросила, можно ли еще раз посмотреть на тигрицу, и жестокий ответ отца пронзил ее сердце, как кинжал.
— Увы, — сказал Козимо с явным безразличием, — тигра убили.
— Убили?.. — повторила Лукреция, будто не поняла это слово, взятое из языка, ей пока не ведомого. Да разве может подобное существо умереть, исчезнуть, ведь оно — само воплощение жизни? Немыслимо!
— Лев с львицей, — объяснил Козимо, — напали на тигра. Нерадивый слуга забыл запереть двери между вольерами.
— Тигр сражался до последнего, — прибавил отец, перевернув страницу партитуры. — Здорово поранил львов. Боролся за свою жизнь, но львы были сильнее. Слуги не смогли их разнять. — Он раздраженно повел плечом. — А главное, шкура у него была вся разодрана, даже не получилось снять твоей маме на шубу. Она очень расстроилась.
Лукреция могла признаться Альфонсо, что в тот же вечер заболела. Придворный лекарь сделал ей кровопускание, поставил на грудь припарку, выписал успокоительное и настойку валерианы. Он определил у нее нервную лихорадку и отправил в карантин на нижнем этаже.
— Увы, — добавил лекарь, — нельзя сказать наверняка, выживет ли она.
Несколько недель Лукреция провела в спальне на нижнем этаже и видела только лекаря и служанку, которая давала ей суп и меняла постельное белье. Лукреция пошла на поправку, лишь когда мама заглянула ее проведать. Девочка выплыла из беспокойного сна и увидела на кровати Элеонору, закрывшую лицо шарфом, чтобы не вдохнуть ненароком заразу. Лукреция удивленно смотрела, как мать разворачивает крошечные предметы, обернутые бумагой и перетянутые бечевкой. Внутри оказались разноцветные стеклянные animaletti[18]. Элеонора разложила на простыне голубую лисицу, желтого медведя, рыбу с золотистым хвостиком-веером — она заказала зверюшек из города, знаменитого своим стеклом, чтобы порадовать дочку. А еще добавила: учитель рисования видел рисунок Лукреции и дал посмотреть своему наставнику, придворному художнику синьору Вазари. А тот, в свою очередь, сообщил о нем Элеоноре. Синьор Вазари порекомендовал Лукреции заниматься живописью. Глаза Элеоноры блестели отчаянной надеждой над маской из платка.
— Хочешь рисовать, Лукреция? — спросила Элеонора, покачивая стеклянного мишку, будто он танцует.
Лукреция не понимала, о каком рисовании речь, и вообще смысл маминых слов от нее ускользал, однако же она выдавила: «Да, мама, спасибо», потому что знала, как порадует мать такой ответ.
— Тогда надо выздоравливать, правда? — манила Элеонора. — И сможешь учиться со всеми.
Лукреция вернулась в детскую и классную комнату еще более притихшей и худой, чем прежде. Она часами расставляла и переставляла animaletti на подоконнике детской. Ей разрешили рисовать с остальными детьми, и через несколько недель учитель начал оставаться с ней после занятий, давать частные уроки. Он не обучал ее, а скорее рисовал с ней вместе и время от времени говорил: «Вот так, видишь?», «Лошадь или бабочка разве так выглядят?», «Подумай еще», «Посмотри внимательнее», «Вглядись», «А теперь похоже на это или на то?»
Она больше никогда не заходила в Sala dei Leoni.
Она могла рассказать все это Альфонсо и пустить его в потаенные уголки своего сердца. И потому промолчала. Туда хода нет. Она утаит, что без уроков рисования, которые длились до самой свадьбы, ей не удалось бы выздороветь и вообще выжить — она камнем упала бы на дно незримых вод. Эти слова она бережно сохранит в глубине души, где никто их не найдет и не станет рассматривать под увеличительным стеклом.
И вот, когда Альфонсо спрашивает, что же стало с тигрицей, Лукреция сухо улыбается и отвечает:
— Не знаю. Наверное, отец ее продал. Мама не выносит зверинца — всегда жалуется на запах и шум.
Взгляд Альфонсо на мгновение задерживается на ней, затем муж берет ее за руку.
— Вы замерзли, дорогая. Возьмите еще оленины, согреетесь.
Семь галей[19] с золотом
Палаццо, Флоренция, 1550-е
В детстве Лукреция имела чудну́ю привычку постоянно спрашивать родителей, как они познакомились. Она уговаривала Элеонору, потом Козимо, затем опять Элеонору, пока мама с папой не сдавались под ее натиском. На самом деле супругам нравилось пересказывать этот эпизод: им было приятно, что их сложный пятый ребенок так увлечен романтикой — они видели в том проявление женской чувствительности, которой дочери временами не хватало. Однако Лукрецию интересовали отнюдь не романтика и нежности. Она снова и снова слушала, как родители впервые увиделись, потому что пыталась понять этих загадочных, ярких людей, благодаря которым появилась на свет и на которых была столь не похожа. Она слушала версию Козимо, затем сравнивала с версией Элеоноры, потом вымаливала у Козимо продолжение и сопоставляла сходства и отличия. Она пыталась разобраться, в чем суть брака, что заключает в себе союз мужчины и женщины.
В бессонные ночи или во время причастия она перебирала в уме обрывки и фрагменты родительской истории, словно азартный игрок — жетоны; взвешивала их, пыталась упорядочить. Пока братишки сопели во сне или родители вторили священнику на латыни, она представляла отца: вот он, пятнадцатилетний юноша, всего лишь паж, гость при дворе неаполитанского вице-короля, сквозь тонкую завесу видит младшую дочь хозяина — тринадцатилетнюю Элеонору. Лукреция воображала комнату с колоннами и тяжелые портьеры по обе стороны резного камина. Элеонора, наверное, носила блестящую длинную косу, а подбородок поднимала чуть выше, чем позволяли приличия. Взгляд ее скользил по потолку не мечтательно, а беспокойно. Лукреция так хорошо знала подробности этой давней истории, что они стали походить на потрепанные временем самоцветы: их уголки стерлись, а прежний блеск потускнел.
Конечно, необычная красота Элеоноры заинтриговала отца, а платье в испанском стиле и украшения в косе придавали ей особое очарование. Козимо вернулся во Флоренцию и два года лелеял образ юной испанки в сердце, а когда получил титул великого герцога Тосканы и возглавил династию, попросил полюбившуюся девушку в жены. Нет, какую бы политическую выгоду ни сулил брак с принцессой голландской или дочерьми соседних правителей, ему нужна была красавица из Неаполя, и больше никто! Вице-король обдумал его просьбу и предложил старшую дочь, но напрасно: Козимо от нее отказался. Он хотел жениться только по любви, а любил он Элеонору. В конце концов вице-король согласился, и молодых людей поженили по доверенности[20]. Элеонора начала учить тосканский диалект, чтобы самой переписываться с мужем, а не просить переводчика расшифровать его послания.
И вот через четыре года после первой встречи Элеонора отплыла из Неаполя в сопровождении пяти служанок, старой няньки Софии, а также семи галей приданого: золота, столового серебра, шелков, парчи, бус из драгоценных камней, масел. Папа любил рассказывать, как ему не терпелось получить весточку от Элеоноры, как он не спал ночами в ожидании глашатая, как молился о попутном ветре. Когда корабль прибыл в Ливорно, отец покинул Флоренцию и отправился за невестой. Придворные советники не одобряли его пыла: где это видано, чтобы мужчина сам ехал к женщине! Элеонора должна знать, кто в семье главный, а Козимо следует ожидать ее в палаццо. Однако герцог не слушал. Он встретил возлюбленную в Ливорно и привез домой, как желанную награду. А когда они вошли в город, жители высыпали на улицы посмотреть на новую экзотическую герцогиню.
До свадьбы Лукреция лишь однажды виделась с будущим мужем; в то время он был помолвлен с ее сестрой Марией.
Они шли мимо Лукреции по самой высокой зубчатой стене у колокольни. Сестра взволнованно щебетала, а ее жених, чуть наклонившись, слушал. Десятилетняя Лукреция, еще по-детски худенькая, держала в ладони ручного мышонка. Жених отвернулся от Марии, от ее красных щек и дрожащего подбородка, и обратил взгляд на Лукрецию, потом на зверушку, затем опять на лицо девочки и криво усмехнулся. Мария одной рукой вцепилась в зеленый бархатный рукав спутника, а другую положила ему на плечо — словно боялась, что убежит. Когда они поравнялись с Лукрецией, она вся вжалась в каменную стену, а мышонка прижала к груди. Жених Марии — будущий герцог, потомок старинного семейства, берущего начало со времен Римской империи, как неоднократно упоминал папа, — замедлил шаг и спросил:
— Что за девочка?
Мария мельком глянула на Лукрецию.
— Моя сестра, — бросила она.
Парочка обошла Лукрецию и направилась мимо колонн к противоположной стороне башни, откуда, по словам Марии, было видно купол.
А по пути жених Марии — юноша, чьи потомки защищали самого императора! — провел пальцем по щеке Лукреции, а затем быстро — столь быстро, что она потом так и не поняла, показалось ей или нет — сморщил нос, как мышка! Будто учуял вкусненькое: сыр или хлебную крошку.
Лукреция рассмеялась. Надо же, всеми почитаемый человек корчит рожицы, и до чего похоже! Откуда он так хорошо знает, как выглядят мыши? И ведь проделал свой фокус тайком от Марии, только для нее одной! Довольная Лукреция посмотрела вслед сестре и ее будущему мужу.
Конец ужина
Fotrezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
— Вы озябли, любовь моя.
Лукреция качает головой и, как нарочно, вздрагивает от холода. Наклонившись поближе, Альфонсо внимательно ее разглядывает; прядь волос падает ему на глаза, а на лице написано участие.
Вдруг муж встает, берет Лукрецию за руку и ведет к огню. Ее мышцы напрягаются под слоями юбок и промокшими чулками. Бежать немедля!
Она шагает было к маленькому креслу, но муж усаживает ее себе на колени и обхватывает руками за талию. До чего странно… Он так проявляет заботу или хочет покончить с ней прямо здесь и сейчас?
Тяжело смотреть ему в глаза, но Лукреция перебарывает себя. Альфонсо отвечает ей ласковой улыбкой. Да, он красив. Все так считают. Он крепко сложен, широкоплеч, руки сильные. А вот рассмотреть как следует его лицо не получается в тусклом свете, да еще с такого близкого расстояния. Что читается во взгляде мужа — доброта или угроза? Она видит только отдельные черты: бровь, щеку, завиток уха.
Неужто она ошиблась, неправильно поняла произошедшее в fortezza? Вдруг Альфонсо и правда человек слова и привез ее сюда отдохнуть, для перемены обстановки? Возможно, всему виной ее воображение (бурное, болезненное, как ей всегда твердили) либо причудливая игра разума, и Альфонсо вовсе не желает ей вреда?
Он не расцепляет рук, держит Лукрецию у себя на коленях, а она касается пальцами его ворота. В янтарно-желтых отблесках огня ей кажется, будто на Альфонсо та самая одежда с зелеными бархатными рукавами. Конечно, на самом деле он в дорожном костюме из камвольной шерсти.
Поддавшись порыву, Лукреция целует мужа в щеку. Губы колет щетина, отросшая за день в дороге. Альфонсо смотрит на жену с приятным удивлением.
— Зачем это?
— Чтобы… отблагодарить, — сочиняет она.
— За что?
— За то, что… привезли меня сюда. — Она лихорадочно ищет слова, способные его разжалобить, если он и впрямь задумал недоброе. — За заботу. За…
Он сжимает ее крепче, и косточки корсажа тихо скрипят.
— Не стоит благодарности. Впрочем, можете еще раз меня поцеловать.
Отвернувшись от света, он подставляет другую щеку. Замешкавшись, Лукреция чмокает мужа. Тогда он смотрит на нее и поднимает подбородок.
Она выдавливает улыбку. Наклоняется к нему. Его черты расплываются, и она закрывает глаза. Нет, Альфонсо не желает ей зла, ведь он попросил его поцеловать, и вот она касается его губами, а он в ответ давит на них своими, кладет ей на затылок свою большую ладонь — не делают так, если хотят… собираются… замышляют… Нет, невозможно, она ошиблась, наверняка он ее любит, и ценит, и уважает: нельзя ведь целовать с такой страстью, ласкать губами и кончиком языка, всю душу вкладывать в поцелуй, а самому думать об убийстве. Ведь нельзя же?..
Наверное, она заблуждалась. Утомилась после трудной дороги и недавней болезни. Дала волю воображению, а оно в очередной раз подвело. Благородный красавец-супруг желает ей только добра. Он ее любит. А как иначе? Он так долго ее целует. Ей очень повезло выйти за такого пылкого мужчину!
Он все целует ее и целует. А она позволяет. Обнимает за шею и пускает мысли в свободный полет. Температуры в разных частях комнаты не совпадают: левую щеку и руку Лукреции обдает жаром камина, а с правой стороны веет ледяными миазмами fortezza.
Альфонсо гладит рукава Лукреции. Потом вдруг отстраняется.
— Идемте. Я провожу вас в покои.
Лукреция встает и переходит к теме, которая волнует ее с самого отъезда из дома.
— Интересно, — начинает она беззаботным тоном, когда муж берет ее за руку и поднимает со стола свечу, — во сколько приедут мои служанки? Уже поздно, и…
— Завтра-послезавтра, полагаю, — отвечает он, не глядя на Лукрецию.
— Они выехали следом за нами, вы сами говорили…
— Не можете продержаться без помощниц? — поддразнивает он. — Ни одного дня?
Он открывает Лукреции дверь.
— Надеюсь, продержусь.
Она заходит в коридор, убеждая саму себя: «Он не замышляет ничего плохого. Он сказал, что любит!»
— Приедут, как только смогут. — Альфонсо берет Лукрецию под локоть и ведет по коридору; огонь свечи отбрасывает на его лицо дрожащий круг света. Лукреция едва поспевает за мужем. — Ночью на дорогах опасно. Вы же не хотите, чтобы ваши служанки попали в беду?
Он берет Лукрецию за подбородок большим и указательным пальцем и нежно поднимает ее лицо к свету. Говорит, как она красива, как загородный воздух уже идет ей на пользу.
— Скучаю по вашим волосам, — вздыхает он, пропуская сквозь пальцы ее короткую косу. — Но вам к лицу.
— Спасибо, — кивает Лукреция.
Альфонсо ведет ее по винтовой лестнице, скользкой и поросшей мхом. Лукреция опирается на его руку, чтобы не слетели туфли, чтобы не споткнуться о подол платья. Дорогу освещает лишь тусклый огонек свечи. Они поднимаются по лестничному пролету, идут по коридору, а затем опять по ступенькам, только более узким. Лукреция запоминает дорогу, мысленно строит карту палаццо — так, на всякий случай. Налево по коридору, вверх по лестнице, прямо по низкому коридору, затем под аркой, потом…
— Пришли. — Альфонсо открывает ей тяжелую деревянную дверь. — Вот ваши покои. Я велел разжечь камин, так что скоро будет и тепло, и свежо. После вас, дорогая.
Все меняется
Палаццо, Флоренция, 1557 год
К тому времени, как четверо старших детей Козимо вступили во взрослую жизнь, их будущее было расписано. Родители, эмиссары, секретари и советники работали над этими планами с самого рождения герцогских наследников.
Марию собирались выдать за сына герцога Феррары. Изабеллу просватали за Паоло Джордано Орсини, римского дворянина. Франческо суждено было стать великим герцогом Флоренции. Джованни предназначался кардинальский сан.
Старшие братья и сестры друг за другом покидали детскую. Лукреции частенько было одиноко, а теперь она и вовсе осталась одна среди младшеньких. В честь помолвки Изабелле и Марии подарили отдельные покои. Когда Франческо и Джованни исполнилось по тринадцать, им выделили комнаты на втором этаже, к тому же Франческо каждый день занимался государственными делами с отцом.
Лукреции досталась низкая кровать, на которой раньше спала служанка, а постель побольше заняли младшие братья. В классной комнате Лукреция сидела на другом конце от Пьетро, Фердинандо и Гарциа, которые только учились цифрам и буквам. По вечерам она слушала, как София переговаривается с помощницами на родном диалекте: тянет гласные, ставит необычные ударения, придумывает свои словечки, смутно знакомые флорентийскому уху Лукреции. Все в палаццо знали, что София пускает в детскую только девушек из родной неаполитанской деревни. Из них якобы получаются лучшие няни и кормилицы, но Лукреция подозревала, что София хотела разговаривать с помощницами на тайном языке, незнакомом остальным обитателям палаццо.
Старшие братья и сестры лишь изредка появлялись в жизни Лукреции: то раздавались шаги в коридоре, то мелькало на лестнице цветное пятно, то из салона звучал смех Изабеллы, то сухо кашлял Франческо, сопровождая отца на приеме. Они больше не поднимались в детскую. Лукреция бродила по переходам и собирала обрывки новостей: для Марии готовили пышную свадьбу, украшали церковь Санта-Мария-Новелла веточками мирта, пригласили сотню флорентийских дам на танцы в парадной зале, а еще задумали театр масок и акробатов с Востока. Судя по разговорам, которые Лукреция подслушала за стенами маминой спальни, все это было мелочью в сравнении с роскошным платьем Марии. Его соткали из чистого золота и шелковой нити, взятой из инсектария[21] Элеоноры. Она лично следила за работой. Когда Мария, красавица-невеста, пойдет к алтарю, золото платья будет оттенять ее фарфоровую кожу, а синий подчеркнет каштановый отлив волос. Никто на свете не носил еще такого наряда!
В тот судьбоносный день рокотал гром и шел дождь. Ливень не прекращался сутки напролет, капли отбивали стаккато по крыше палаццо. Лукреция выглянула из окна детской: пьяцца лоснилась от воды, мозаичные плиты переливались, подобно змеиной шкуре, желоба давились опавшими листьями. Река Арно вышла из берегов и покрылась илом. София несколько дней назад сказала, что Мария, обычно здоровая и крепкая, слегла в постель с воспалением легких. Воздух сегодня дурной, добавила нянька и принялась обмахиваться, будто ее ладонь могла прогнать злотворные миазмы.
Лукреция сидела в классной, перечерчивала карту Месопотамии и пририсовывала широким океанам гребни волн. Над поверхностью, извиваясь змеей, поднималось морское чудовище. Видна лишь его часть, а сколько еще таится под водой?.. Вдруг раздался шум, протяжный горестный вой, при звуке которого она подняла голову. Поначалу она списала его на собаку: может, поранилась, или ее побили; но вой перешел в однообразное причитание: «Нет, нет, нет, нет!»
Лукреция привстала, выронив штифт. Мама? Изабелла? Крик доносился с нижнего этажа, проникал сквозь стены и потолки.
И снова: «Нет, нет, нет, нет!» А потом рыдания.
Лукреция выбежала из комнаты и перегнулась через перила.
— Мама? — крикнула она.
В ответ — тишина. Хлопнула дверь. Стук стремительных шагов по коридору, шуршание мантии или платья.
— Изабелла! — позвала Лукреция. — Это ты?
Послышались тихие голоса, открылась дверь, и до Лукреции поднялись, подобно клубам дыма, судорожные всхлипывания, а среди них бормотал молитву священник.
— Мама? — хотела крикнуть Лукреция, но из горла вышел только хрип.
Случилось непоправимое, и страшная догадка стиснула ее в своих челюстях. По лестнице с грохотом спускались люди.
— Где его сиятельство? — крикнул кто-то. — Вы его видели? Позовите сюда!
Лукреция замерла, вцепившись в перила. Такой ее и нашла София. Няне пришлось силой оторвать пальцы девочки от резного мрамора и потащить в детскую. Младшеньких заставили встать на колени перед статуей Мадонны; София по обычаю отворила все окна, чтобы душа Марии улетела в рай.
Ворсинки ковра вдавились в кожу. Лукреция, сложив ладони, читала молитву и смотрела не в нарисованные глаза деревянной Мадонны, а в распахнутое окно, за которым лежал город. Мрачное серое небо разбухло от воды. Лукреция вздрогнула. Бедная Мария совсем одна уходит в эту грозную высь… Ее место тут, дома! Лукреции страстно хотелось обернуться и увидеть Марию на пороге: подбородок гордо поднят, руки скрещены на груди; она говорит о ткани свадебного платья и подготовке к танцам. Разве может человек жить, а на следующий день вдруг исчезнуть?
София потянула ее за рукав, напоминая смотреть на Мадонну. В печальном лице статуи читалось всепрощение, а у ног кольцом трепетали огоньки множества свечей. Однако Лукреция не могла оторвать глаз от неба в прямоугольных рамках окон, от волнистой линии птиц среди облаков.
Ничего похожего на душу Марии она не увидела. Ни ветерка, ни движения, ни вспышки света. Только нескончаемый дождь, бьющий тысячами серебряных игл по подоконникам в детской, по полу и зеленоватым окнам, по улицам и домам всего города.
Примерно через месяц после похорон Марии чуткое ушко прижалось к шершавой деревянной перегородке между комнатой и кабинетом великого герцога и услышало следующее: глухие размеренные шаги из одного конца комнаты в другую, скрип пера, сдавленный кашель и совсем близкий шелест дыхания. А затем голос Вителли, советника великого герцога Козимо:
— Прискорбно, — произнес он и добавил: — Хотя, разумеется, ничто не сравнится с горькой утратой госпожи Марии.
Молчание, после — неразборчивое бормотание в знак согласия. Козимо.
— Письмо из Феррары подобает случаю, — отчитался Вителли.
Послышалось шуршание бумаги: похоже, послание внимательно изучали.
— Итак… — продолжил Вителли, встав поближе к перегородке. Судя по всему, он читал из-за плеча Козимо. — Юноша и его отец, герцог, безмерно опечалены утратой и выражают глубочайшие соболезнования вам и матери госпожи Марии.
— Да-да, — слегка нетерпеливо поторопил Козимо.
Если бы обладательница ушка подвинулась левее, то заметила бы просвет в деревянной панели, а если бы прижалась к трещине как следует, увидела бы свет канделябра, очертания кресел, стоящую фигуру — вероятно, Вителли — и человека, сидящего в чем-то блестящем и коричневом, а именно великого герцога Козимо в мантии на собольем меху, которую он носил в холодные дни.
— Второе письмо, — продолжил Вителли после небольшой паузы, ибо он всегда знал, когда говорить, а когда промолчать, — пришло от некоего приближенного феррарского двора.
Козимо тяжело откинулся в кресле.
— И?
— Отправитель намекает, что герцог огорчен неудавшимся союзом так же, как и вы. Далее упоминается — и весьма тактично, должен заметить, — что герцог слаб здоровьем, и приход к власти его сына, Альфонсо — лишь вопрос времени. Потому я вынужден поторопить вас с ответом. На это место претендуют многие, значит…
— Что тут поделаешь? Я отнюдь не…
— Письмо намекает, — объяснил Вителли, — что герцог положительно смотрит на брак сына с другой вашей дочерью.
— Но… — Козимо почесал в бороде. — Ее светлость Изабелла уже обручена, я не могу разорвать такое серьезное соглашение. Как он себе представляет…
Вителли вежливо прокашлялся.
— Полагаю, ваше высочество, речь идет о госпоже Лукреции.
Любопытная девочка — если она там была — отпрянула бы от просвета. Обернись люди в комнате и заметь ее за толстыми деревянными стенами, она и то удивилась бы меньше.
— Лукреция?.. — повторил Козимо. — Она совсем еще дитя…
Вителли опять кашлянул.
— Ей скоро тринадцать.
— Тринадцать? Нет, ей… десять, да? Она еще живет в детской, с куклой играет! Не может ведь Феррара…
Вителли знаком убедил его замолчать.
— Да, она юна и мала ростом, но скоро ей исполнится тринадцать, государь. Этот брак очень выгоден, вы сами много раз говорили. Подумайте только: нам снова выпала возможность заключить союз между нашим регионом и Феррарой. Сын герцога скоро сам станет герцогом. Да, религиозные взгляды его матери усложняют дело, но все можно уладить, если сын герцога и впрямь такой способный, как утверждает мой осведомитель. А если упустить случай, наше место с радостью займут другие. Очевидно, Лукреция вскоре… — Советник тактично помолчал и продолжил: — …достигнет зрелости. Если уже не достигла. Я наведу справки. Возможно, ваше высочество обдумает предложение?
Где-то в палаццо еще один голос, погрубее, сердито позвал:
— Лукреция! Лукреция! Куда она подевалась?
Любознательная девочка отбежала от перегородки и испуганным вихрем полетела по лестнице на второй этаж.
Няня скупо разливала суп, когда встрепанная Лукреция ворвалась в комнату, будто подгоняемая стаей волков; дверь хлопнула у девочки за спиной.
— Вон она где! — София пригрозила Лукреции половником. — Куда ты запропастилась? А я зову, зову!.. Садись сейчас же.
Лукреция устроилась за столом и взяла ложку. Брань Софии пролетала мимо ушей. Она не ела, только возила ложкой по тарелке, будто работала веслом на галее. В итоге суп Лукреции съел Гарциа.
Она все думала о разговоре между отцом и Вителли. Думала о сыне герцога Феррары, его блестящих сапогах, о том, как он прошел мимо нее на вершине башни, как погладил пальцем щеку. Думала о Марии, о лекарях, которые две ночи подряд шаркали туда-сюда: то в ее опочивальню, то обратно, а потом останки сестры положили в деревянный ящик и заколотили крышкой. Они потеряли Марию; многоглавое существо, именуемое детьми палаццо, утратило одну из голов. Лукреция слышала, что отец велел перенести портрет Марии из мезонина в его покои. Она представила, как безучастные, красивые глаза сестры неотрывно наблюдают за отцовской комнатой. Интересно, смотрел ли папа на картину каждый день? Врезалась ли в его память мельчайшая черточка покойной дочери? Когда пришло письмо от отца ее жениха, стоял ли он перед портретом, гадая, отдать ли взамен другую дочь?
Что бы сказала Мария?
Сама мысль о помолвке с этим мужчиной, сыном герцога Феррары, попросту не укладывалась в голове. Как гром среди ясного неба! Лукреция не знала, что и думать. Занять место умершей сестры!.. Она застыла от страха. Мозг сам начал подбирать сравнения с Марией: Лукреция меньше, куда хуже разбирается в музыке и танцах, тушуется перед гостями и придворными, витает в облаках и спит на ходу, теряет нить разговора, уступает Марии в красоте, ничуть не смыслит в нарядах и украшениях.
Она поставила локти на стол в детской, где провела всю жизнь, но собственное тело стало вдруг чужим: руки, ноги и голова принадлежали словно бы другому человеку, ей не под силу приказать им сидеть, поднять ложку ко рту, дышать. Страх нарастал, как мох на камне. Казалось, в палаццо прокралось нечто и теперь стояло у нее за спиной. Лукреция сидела над пустой тарелкой и трепетала. Ей представилась темная студенистая тварь с неровным, дрожащим контуром; глаз у твари не было, только влажная пасть, из которой шел пар. Ни к чему оглядываться: за ней явилась смерть. Пришло внезапное озарение: если этот брак состоится, она умрет — сейчас или чуть позже. Скоро. Никуда ей не деться от этой сущности, призрака собственной гибели.
Лукреция прижалась к краю стола. Огонь свечей вдруг стал невыносимо ярким, а потом угас. Грудь мучительно сдавило: тварь схватила свою жертву за горло и накрыла рот ледяными пальцами.
Ни с того ни с сего Лукреция скользнула под стол и поползла на ощупь. От твари не убежишь, она протянет лапу и схватит; надо затаиться и незаметно пролезть на другую сторону между ножками стульев.
Лукреция вылезла наружу. Няньки кричали, София возмущалась:
— Ради всего святого, ты что вытворяешь?!
Ну конечно! Они не видят ужасную тварь, не могут ее почуять, а она, Лукреция, может! Она рванулась было вперед, однако ее схватили за руку. Наверное, та Сущность? Вот и пришел конец? Теперь ее тоже запихнут в деревянный ящик и похоронят в фамильном склепе, как бедняжку Марию.
Она вырвала руку и бросилась к выходу. Воздуха не хватало, голова шла кругом от духоты. Камин, гобелены, сундук и дверь расплывались в огненном мареве. И вдруг все померкло, как занавесом накрыло, и Лукреция рухнула на пол.
Она будто проснулась от долгого сна… Но нет, она на полу, рядом толпятся няньки, София хмурится, а братья спрашивают наперебой:
— Она живая? Очнется? Позвать папу, пусть вызовет лекаря?
Увидев, что Лукреция пришла в себя, София щелкнула пальцами и всех оттеснила.
— Уйдите! — велела она. — Все вон, сейчас же!
Братья и няньки неохотно поплелись к двери, а София принесла диванную подушку и подложила Лукреции под голову — нежно, очень нежно.
— Вечно одно и то же, — тихо ворчала София. — Попробуй пойми, что ты в следующий раз выкинешь.
Няня поднесла стакан воды к губам девочки, с трудом наклонившись на ковре, где сидела в ворохе юбок, как голубица в гнездышке. Ослабила шнуровку на платье Лукреции и осторожно убрала волосы с глаз подопечной.
— Ну, — начала София, — рассказывай. Что случилось?
Лукреция покачала головой и отвернулась, хотя знала, что София все равно вытянет из нее правду.
И конечно, когда Лукреция подняла глаза, София глядела на нее, прищурившись.
— Живот болит? — не сдавалась нянька. — Или голова? Я видела, ты ничего не съела. В чем дело?
Хотя Лукреция зажмурилась, предательские слезы все равно закапали с ресниц. С чего начать эту необъятную, громоздкую историю: с письма, со смерти Марии или с мужчины на вершине башни?
— Давай. — Няня с непривычной мягкостью взяла Лукрецию за руку. — Расскажи все старушке Софии.
— Они… — запиналась Лукреция, переплетая пальцы с шершавыми пальцами няни. — То есть отец… или Вителли… не знаю даже… Они хотят…
— Чего? — София внимательно на нее посмотрела.
Лукреция глотнула воздуха. Серое чудовище опять приближалось, но оно побоится ее схватить при Софии.
— Они хотят… сын герцога, за которого Марию хотели выдать… Они, в общем… Отец и Вителли думают, отец герцога захочет…
София наклонилась поближе и вслушивалась в каждый звук, словно пыталась не упустить тончайшую золотую нить, которую вот-вот подхватит ветром.
Обе с минуту молчали. София пристально и хмуро посмотрела на Лукрецию.
— …тебя? — наконец спросила она.
Лукреция кивнула, обрадованная сообразительностью Софии: ей даже не пришлось ничего объяснять!
— Хотят выдать тебя за сына герцога? Ты своими ушами слышала?
Призадумавшись, София шевелила губами, будто пробовала эту мысль на вкус. Ее лицо покраснело от гнева. Она перешла на родной диалект, в ее тираде прозвучали и Мадонна, и дьявол, и какие-то непонятные слова.
— Тебе двенадцать, — убеждала она скорее саму себя. — А наследнику Феррары двадцать четыре.
Она снова умолкла, затем постучала пальцем по костяшкам Лукреции.
— Даже спрашивать не стану, откуда ты это выведала.
София выпустила ее руку и, запыхаясь, встала. Затем доковыляла до окна, держась за поясницу, и выглянула на пьяццу. Подошла к камину и поворошила кочергой в огне; поленья затрещали от такого обращения, гневно выбросив целое созвездие искр из черного от сажи жерла.
— Можно… — обратилась София будто бы к дровам. — Нет, даже нужно нам с тобой быть похитрее. Как парочке лисиц. Понимаешь?
Лукреция кивнула, хотя ничего не поняла. Она осторожно привстала, опираясь на локти. София поставила ее на ноги, придерживая под мышками. Затем положила на ее щеку ладонь.
— Вителли скоро придет, — прошептала она. — Будет нас расспрашивать.
— Да?
София крепче прижала ладонь к щеке Лукреции. Необычное прикосновение — неловкое, и в то же время мягкое. Настойчивое и в то же время нежное.
— Что бы я ему ни сказала, как бы ни ответила, во всем со мной соглашайся. Ясно?
Лукреция озадаченно кивнула.
— Отвечать буду я, ты молчи. Только кивай. И никому об этом не рассказывай. Обещаешь?
— Обещаю.
— Свадьбу отменить не получится, но, с Божьей помощью, удастся отложить. Совсем немного, пока не подрастешь. У нас будет годик-два, правильно же?
На миг, всего на миг София крепко прижала Лукрецию к груди. Фартук няни щекотал девочке нос и щеку. Потом София отпустила ее и зашагала к столу, что-то ворча про бардак и грязные тарелки, дескать, никакой помощи не дождешься, за кого они ее принимают, она им не ломовая лошадь…
Конечно, София была права.
Следующим же вечером явился Вителли, обозначив присутствие двумя резкими ударами в дверь.
Младших братьев уложили спать, двум нянькам поручили заштопать зимние чулки детей, Лукреция по заданию учителя писала маслом эскиз мертвого скворца, которого нашла в мезонине; она переворачивала птицу, пытаясь запечатлеть неуловимый радужный отлив перьев. София пересчитывала постельное белье в сундуке.
Когда раздался стук, София вскинула голову. Подняла глаза на дверь, потом на Лукрецию. Затем, ко всеобщему недоумению, продолжила считать белье. Две младшие няни обменялись удивленными взглядами, но остереглись подойти к двери. В детской главной была София, и никто больше не посмел бы открыть гостю.
И снова стук, на сей раз громче и сильнее.
— Семь, — как ни в чем не бывало бормотала София, — восемь, девять. — Довольно вздохнув, она шлепнула последнюю простынь в стопке. — Десять!
Открыла сундук, затем неспешно и аккуратно уложила белье на дно.
Вновь раздался настойчивый стук.
— Минутку! — крикнула София. — Иду!
Она протерла сундук от воображаемой пыли и принялась расхаживать по комнате: то тарелку на столе поправит, то задвинет на место стул. Провела тряпкой по ручке двери, взялась оправлять капор, смотрясь в зеркало над камином.
Отворив наконец дверь, она оглядела гостя с головы до ног.
— Синьор Вителли! Вот не ждали! Зайдете?
Вителли важно шагнул внутрь и остановился посреди ковра. На советнике была отороченная заячьим мехом накидка, складками спадающая к ногам, а к груди он прижимал папку в кожаном переплете.
— Ты и ты! — Вителли указал пальцем на нянь, застывших с иголками в руках. — Уйдите.
Девушки испуганно покосились на Софию.
Та стояла на пороге, держа тряпку, и молча оглядывала посетителя, словно высматривала на его одежде грязные пятна, затем кивнула. Няни забрали штопанье с нитками и засеменили в спальню. Дверь за ними захлопнулась.
— Чем могу быть полезна, синьор? — прищурилась София. — Выпьете чего-нибудь? Мы с Лукрецией как раз собирались…
— Нет, — перебил советник и заглянул в папку. — Я вас не задержу. Мне хотелось бы обсудить с вами кое-какой вопрос. Кхе-кхе, — нарочито прокашлялся он. — Весьма деликатный.
Лукреция заерзала в кресле и пригладила мокрый ворс кисточки. Пучок она сделала из шерсти, вырванной — стыдливо, украдкой — у кошки, которая вытянулась подремать у камина. Животное даже не проснулось, а на днях Лукреция заметила, что проплешинка заросла.
Лукреция аккуратно окунула самый кончик кисти в синюю краску — ее было совсем мало, пришлось экономить, — и тут Вителли снова заговорил:
— Мы получили подтверждение, что Альфонсо, наследник герцога Феррары, Модены и Реджо, желает вступить в брак с ее высочеством Лукрецией.
Лукреция замерла, занеся над рисунком кисточку с редким и дорогим ультрамарином. Девочка не могла ни дышать, ни поднять глаз, иначе Вителли так и пронзил бы ее своим взглядом и понял бы: она все знает, есть у нее привычка слоняться по коридорам и подслушивать.
А вот над Софией, похоже, у него не было такой власти.
— Сын герцога Феррары? — изумленно повторила няня. — Нареченный госпожи Марии, царствие ей небесное? — София истово перекрестилась.
Вителли опять кашлянул.
— Именно. — Потом заученной скороговоркой добавил: — Разумеется, семья Феррары огорчена утратой госпожи Марии, однако же герцог по-прежнему ищет супругу для сына. Альфонсо сохранил самые приятные воспоминания о встрече с госпожой Лукрецией. Он избрал ее своей невестой. Женитьба на сестре покойной… — Вителли захлопнул папку, — не нарушает правил приличия и свидетельствует об уважении. Герцог желает породниться с нашим домом и таким образом выказывает почтение. Не говоря уже о том, как высоко он ценит ее высочество Лукрецию, — поспешно добавил советник.
Склонившись над столом, Лукреция осторожно обводила ультрамарином крыло скворца. Цвет, казалось, вибрировал и расходился волнами, толкал глянцевито-черную краску перьев. Если бы цвета можно было слышать, их противоборство звучало бы какофонией двух несочетаемых нот.
— Какая честь! — вымолвила София, а сама растягивала руками тряпку, вот-вот порвет. Вителли и не догадался, что она имела в виду обратное.
— Безусловно, — кивнул советник и состроил причудливую гримасу: сощурил глаза и показал зубы. «Да он так улыбается!» — не сразу сообразила Лукреция.
— Только… — София шаркнула ногой по ковру, — …герцог и его сын, наверное, не знают, как юна Лукреция.
— В следующий день рождения ей тринадцать, и…
— Ей всего двенадцать, — перебила София. — А наследнику герцога, полагаю…
— Госпожа Мария, царствие ей небесное, лучше подходила по возрасту, но Альфонсо готовится к управлению Феррарой, и женитьба здесь, конечно, играет важную роль. Этот союз благоприятен для обеих сторон.
— Она еще дитя, синьор.
— Многие женщины выходят замуж в…
София подняла голову.
— Она еще дитя, — повторила няня так многозначительно, что Лукреция покосилась на нее. София незаметно скрестила пальцы за спиной. Она была женщиной суеверной, никогда не клала шляпу на кровать и никого не обгоняла на лестнице: верила, что так можно накликать беду.
Вителли прищурился и громко сглотнул. Выпирающий кадык дернулся.
— Правильно ли я понимаю, синьора, что она еще не… — Советник тактично умолк.
София не ответила, только подняла брови в притворном недоумении.
— Еще не что? — поторопила она.
Вителли опустил глаза в пол, скользнул взглядом от окна до потолка.
— Не начала… как бы выразиться… м-м-м… У нее еще не было?..
И вновь София ничем не помогла советнику; тишина нарастала. Лукреция поглядывала на них из-под ресниц. Она понятия не имела, о чем идет речь. Только чувствовала: Вителли сдувается и весь почти опустел, как грозовая туча, что расползлась на несколько безобидных облачков.
— У нее еще не… — снова попробовал Вителли. Он был суденышком в бурных волнах прилива, а София никак не хотела принять швартов, который советник ей отчаянно бросал.
— Еще не что? — невинным тоном спросила няня.
Вителли стиснул зубы, так и не решаясь встретиться с ней взглядом.
— Синьора, у Лукреции начались… — Он закрыл глаза и призвал всю свою храбрость: — …ежемесячные кровотечения?
— Нет, — только и ответила София.
Лукреция опустила взгляд, но не на рисунок, а на скворца, лежащего около кистей и баночки с краской. Смотрела на птицу, потом — на картину. Больше никуда. На нежные, чешуйчатые лапки — никогда им не стоять на ветке или на каменном подоконнике; на сложенные крылья в нескольких слоях перьев — никогда этим крыльям не расправиться, не взмыть по ветерку, не понести птицу над крышами и улицами. Лукреция поглядела на рисунок и нашла недочеты: линия клюва получилась плохо, глянцевито-зеленые перья не совсем удалось передать.
«Нет» Софии эхом звучало в голове. Няня сказала «нет» уверенно и твердо. Посмотрела на Вителли и сказала: «Нет».
Лукреция коснулась хвостика скворца. Она нашла птичку сегодня утром в мезонине. Она влетела через открытое окно, а выбраться не смогла. Наверное, всю ночь металась по этажу, в ужасе стучала клювом о стекло, отчаянно размахивая крыльями. Лукреция погладила бархатистое горлышко пальцем. Представила, как таяла надежда в сердце птицы. Должно быть, она видела в окно, как товарки веселой стайкой кружат над землей, темным облачком парят над крышей палаццо. А потом улетают, бросив ее в плену… Нет, невыносимо! В Лукреции проснулась нестерпимая жалость к бедной птице.
София сказала «нет». Значит, она, Лукреция, обязана исполнить свою роль. Не поднимать головы, как сейчас, глядеть на скворца, на его несовершенную копию на бумаге. Не выдать Вителли, что София украдкой скрестила пальцы за спиной, что уже рассказала ей, как поступать при ежемесячных кровотечениях: подложить кусок ткани, свернутый в несколько раз; чуть-чуть нагреть в огне гладкий камень, потом обернуть полотном и положить на живот. Так кровь быстрее и легче выходит, объяснила София, пока Лукреция лежала в постели, одурманенная болью. Это случалось уже дважды. София сказала: кровотечение приходит каждый месяц, как полнолуние. Ко всем женщинам. «И к маме?» — удивилась Лукреция. Ее невозмутимая, сверкающая драгоценностями мать тоже не избежала этой напасти? София кивнула. «И к маме», — ответила она.
И вот в жаркой комнате, где стоит недовольный и злой Вителли, а напротив — маленькая, но непреклонная София, Лукреции так и хочется спросить: а при чем тут наследник герцога, замужество, ее возраст — в чем связь? Но нельзя. Надо поднять кисточку и смыть ультрамарин с ворсинок кошачьего меха; рассматривать рисунок и даже не шелохнуться, прямо как скворец на столе. Никто не должен узнать ни о кровотечениях, ни о ткани, ни о теплых камнях, ни о словах Софии.
— Ясно, — разочарованно процедил Вителли. — Что ж, она всегда была маленькой для своих лет. Хилой.
София пожала плечами. Выпрямила скрещенные за спиной пальцы.
— Мы продолжим переговоры о помолвке, но следует сообщить Ферраре, что брак придется отложить, пока госпожа Лукреция не… — Вителла махнул рукой. Он уже не повторит тех слов без крайней необходимости. — Пожалуйста, синьора, уведомите меня, когда придет время.
— Разумеется.
Она едва заметно взмахнула юбками, как бы невзначай, но это был знак триумфа, одержанной победы.
Видимо, советник тоже это понял, потому что нахмурился и разом посуровел.
— Наедине, если не возражаете.
— Конечно, синьор. — София сверкнула щербатой улыбкой. — Как только узнаю, сама к вам приду. И будем считать дни до свадьбы!
Вителли внимательно посмотрел на няню: не мог понять, всерьез она или нет. Он уже собирался выйти, как вдруг передумал и пошел к Лукреции.
С каждым шагом он становился выше; пришлось задрать шею, чтобы получше его увидеть. Во рту сразу пересохло, а сердце бешено заколотилось в груди. Вдруг он и ее спросит о том же? Получится ли соврать? Вдруг потребует ответить, правду ли сказала София? Что тогда? А если он догадается, то как поступит с Софией?
Лукреция видела каждую крапчатую ворсинку на меховой оторочке его накидки. На кончиках шерстинки были светлее, почти золотистого оттенка, а у корней — темные. Сколько же зайцев ради этого убили? Семь, восемь, девять? Старых, уже на пороге смерти, или молодых, только-только сменивших пух на «взрослую» шубку?
Вителли склонился над Лукрецией. На одно странное мгновение ей показалось: вот сейчас советник завернет ее в свою накидку — и прощайте, надежные стены детской, прощай, София; он спустится с ней в самые глубины палаццо, где поджидает герцог Феррары, и тот снимет свои рукава-буфы и уже не мышку изобразит, а хищно улыбнется и спросит грозно, почему она не спасла сестру, почему умерла Мария, да как Лукреция смела думать, что сумеет занять ее место? Как только смела?
Однако советник лишь взял ее рисунок. Поднял маленькую квадратную tavola[22] за уголок и поднес к лицу.
— Чья это работа? — спросил Вителли.
Лукреция, онемев от волнения, молча показала на себя пальцем.
Вителли этого не заметил. Он надвинул очки на кончик носа, пристально разглядывал нарисованного скворца (на трупик он даже не обратил внимания) и удивленно хмурился.
— Кто это сделал? — повторил он.
— Я, — прохрипела Лукреция. «Прошу вас, прошу, — мысленно заклинала она, — не спрашивайте про кровь. Не смотрите на меня!» Уж наверняка Вителли легко читает по лицам!
А может, и нет. Он ответил ей озадаченным взглядом.
— Вы? Нет, вряд ли. Ваш учитель, конечно? Он нарисовал, а вы закончили, верно?
Лукреция растерянно кивнула. Потом покачала головой.
— Нет, она сама. — София незаметно подошла к ним и положила руку на плечо подопечной. — Она любит рисовать на деревянных дощечках. Постоянно над ними сидит. У нас их полные ящики!
Вителли долго всматривался в Лукрецию. Взгляд его скользил по волосам, разделенным прямым пробором, по вискам, по глазам, щекам, шее, рукам, ладоням. Лукреция дрожала от страха. Он проходился по ней взглядом, как проходятся жесткой щеткой по полу.
— Хм-м, — протянул советник, по-прежнему изучая tavola. На ней скворец лежал, сложив крылья, поджав лапки, опустив голову, покорясь смерти. Лукреция обвела его рамкой из плюща и омелы. — Можно взять?
Вопрос, конечно, не требовал ответа. Советник уже развернулся, вложил миниатюру в кожаную папку и затянул шнурком. Теперь птице не суждено было взлететь, даже будь она живой.
Истинная цель поездки
Fotrezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
Без всякого предупреждения Лукреция получает знак, проблеск понимания истинной цели ее путешествия.
Альфонсо уже слез с нее и задремал, так и не вытащив руки из ее сорочки. Свечи не горят, и спальня погружена в темноту, почти живую, дышащую, с широкими мохнатыми боками.
Вдруг в незнакомой комнате на Лукрецию что-то нисходит. Нечто вроде видения, но не совсем — неуловимей, ярче и внезапнее.
Ей представляется картина — законченная, отточенная до небывалого совершенства. Картина на продолговатой прямоугольной tavola. Лукреция отпилит столько, сколько потребуется, под нужным углом, а посередине нарисует замок. Нет, белого мула. Нет, куницу-белодушку с полосками на лице. Или кентавра? Или всех сразу. Не одну картину, а серию миниатюр в резных рамках с тщательно обработанными деталями, завитками и украшениями. Надо сейчас же выпилить дощечку. Впрочем, лучше завтра, а то разбудит Альфонсо. Она хотя бы взяла нужные инструменты? Пилку, строгальный ножик? Вроде бы нет.
Разочарование острыми сосульками впивается в сердце. Идея есть, а воплотить нельзя. Как это мучительно! Ладно, завтра она сделает наброски. Или сейчас, сию же минуту! Выскользнет из постели, вновь зажжет свечу трутом и достанет из дорожной сумки рулон пергамента.
Не все потеряно. Она точно знает. Спускается на пол, заворачивается в меховую мантию мужа, шагает к свече.
Жизнь продолжается, все идет своим чередом. Альфонсо никакой не убийца и не чудовище, как ей показалось за ужином, — на нее нашло временное помешательство, прямо-таки дьявол на ухо шептал! Говорили же ей и мать, и София: слишком она мечтательная, склонная к чудны́м фантазиям и страхам, а вести себя нужно благоразумнее. Может, они и правы. Здесь она восстановится, и брак ее тоже. Муж привез ее сюда только потому, что с детства любит это место. Днем она будет с Альфонсо, окружит супруга заботой и вниманием, а по ночам станет работать.
Свеча загорается с первой же попытки. «Все будет хорошо», — думает Лукреция и с улыбкой кладет руки на стол.
Кое-что из книги
Палаццо, Флоренция, 1557 год
Софии удалось сохранить тайну Лукреции и отложить ее брак почти на целый год. Запачканную одежду и постельное белье она отстирывала в тазу и сушила в шкафу. Если пятна не смывались, она ловко отправляла вещи в огонь и вместе с Лукрецией наблюдала за горящими уликами. Если другие няньки что-то и знали, то хранили молчание из верности Софии.
Семьи продолжали переписываться, обсуждать помолвку и приданое. Лукреция подслушала разговор Вителли с писцом и узнала: для ее будущей свадьбы отец хочет сохранить те же условия, что были у Марии, но дом Феррары просит выплату побольше из-за отсрочки. А пока Лукреция ждала мать в вестибюле у отцовского кабинета, она узнала, что Вителли посоветовал приберечь золотые скудо[23] на будущее — когда родится наследник мужского пола, эту часть выкупа можно будет считать уплаченной. Отец кивнул.
Зима плавно перетекала в весну, снега таяли, в палаццо прибыл очередной nano[24] и получил имя Морганте, как и все его собратья. Поговаривали, что Элеоноре очень нравились его смешные ужимки. Горожане в шерстяных шапках и шалях и любопытная ребятня у парапета палаццо радовались: на западный угол пьяццы вернулась цветочница с полной корзиной густых веточек сирени. Отец прибыл после ежедневного заплыва по реке Арно; оказывается, на Козимо совершили покушение, но он вместе с солдатами-швейцарцами расправился с наемниками. Потом его призвали подавить восстание в городе Ареццо. Элеонора устроила прием, первый со времен смерти Марии: акробаты показывали номера, а гости танцевали под музыку. После все твердили, что в изысканности блюд Элеонора превзошла саму себя. Лукреция изучала военную тактику древних греков, рисовала сцены из Гомера, привольно гуляла у зубчатой стены и любовалась, как скворцы живой волной порхают в небе. Братьев учили правилам calcio[25] во внутреннем дворе, Гарциа вывихнул руку, когда Фердинандо слишком уж его защекотал, Пьетро взял в привычку кусать братьев, если они ему досаждали, и лекарь делал ему кровопускание дважды в неделю, дабы восстановить баланс гуморов[26]. Сторожевая собака родила щенят. Шелкопряды из инсектария Элеоноры по-прежнему поедали листья тутового дерева; между листьями тянулись тончайшие нити шелка, блестящие в свете утреннего солнца.
Неизбежная помолвка, брак, суженый и будущая жизнь в Ферраре казались Лукреции в те дни очень далекими. Да, свадьба непременно состоится — эту истину она усвоила и выучила назубок, как стихотворение на латыни в школе. А вот само значение и смысл события от нее ускользали. Жизнь в палаццо шла своим чередом. Изабелла по-прежнему расхаживала от внутреннего двора к салону в пышных нарядах, оставляя за собой шлейф серебристых смешков; Пьетро по-прежнему капризничал, ревел до хрипоты и стучал кулаками по полу; София по-прежнему наливала обеденный суп в прежние тарелки за прежним столом; солнце по-прежнему вставало за окном классной по утрам и двигалось к спальням по вечерам. Дверь в покои Марии стояла запертой. Иногда Лукреции казалось, что так будет и впредь, что она всю жизнь проведет в этих комнатах с братьями, в привычном платье и чулках.
Вскоре после тринадцатого дня рождения Лукреция встала с постели и пошла к окну посмотреть погоду, и за спиной вдруг кто-то ахнул: в дверях стояла мама, а по обе стороны от нее — две придворные дамы. Лицо матери сияло.
— Поглядите на Лукре! — Элеонора хлопнула в ладоши. — Знаменательный день!
Лукреция неуверенно улыбнулась маме. Чем это она заслужила такую похвалу и внимание?
Все взгляды в комнате обратились на нее; три няньки оторвались от работы, руки их тут же повисли. Лукреция посмотрела туда, куда показывала пальцем Элеонора. Отчего мама радуется, разве что-то в ней изменилось?.. Длинный белый camiciotto[27], босые ноги, под ними — доски.
— Смотрите! — призвала мама и развернула Лукрецию лицом к стене.
Женщины заохали.
— Поздравляю! — воскликнула одна из них.
— Видите, да? — торжествовала Элеонора, но Лукреции ничего не объяснила.
Она повернулась и так, и сяк. В чем дело? Что в ее спине удивительного?
А потом увидела. По ткани расползалось красное пятно: халат был картой, а пятно — одиноким островком посреди бескрайнего белого моря. Ну конечно, вот почему сегодня тянуло живот, будто внутри сжимался и разжимался кулак.
Элеонора послала за его светлостью. Они сейчас же напишут в Феррару и начнут подготовку к свадьбе, пусть сторона жениха приезжает во Флоренцию. Как замечательно!
Лицо Лукреции горело, будто она стояла у открытого огня, а ноги и руки онемели от холода. Слова матери падали с неба, как хлопья пепла. Она стиснула складки халата и опустила глаза на дощатый пол.
Мать вернулась к придворным дамам. Они болтали о приготовлении к свадьбе, о швее и подгонке платья, о том, как уже сегодня можно будет им полюбоваться. Лукреция подняла голову и встретилась глазами с Софией. Няня стояла у сундука, держала за одну руку Пьетро, за другую — Гарциа. Все трое смотрели на нее; братишки растерялись от шумихи вокруг сестры. Лицо Софии оставалось непроницаемым. Она только сжала руки мальчиков крепче, ее губы едва заметно зашевелились, то ли прося прощения, то ли шепча молитву.
Дамы Элеоноры сообщили новость Вителли, а тот с должным тактом передал весть отцу Лукреции. Козимо пришел в покои Элеоноры, и супруги радостно обнялись. Козимо велел уведомить двор Феррары о долгожданном взрослении Лукреции. На следующей неделе гонец доставил Козимо через всю Болонью договор, скрепленный подписью и печатью. К договору прилагалось письмо от самого герцога: тот с нетерпением ждал, когда союз их детей осветит церковь, передавал искренние поздравления великому герцогу Тосканы и его близким и обещал отныне за них молиться. Увы, его сын Альфонсо вскоре отправится во Францию сражаться во имя короля. Если великий герцог согласен, то свадьбу можно отложить до возвращения Альфонсо. А пока он будет считать каждый день до заветного события.
Откинувшись в кресле, Козимо вчитывался в письмо. Затем положил его на стол, взял брачный договор и четыре-пять раз внимательно прочел, задумчиво потирая подбородок. Поклонившись, секретарь протянул государю на выбор череду перьев на подносе, из которых герцог взял нужное и вычеркнул несколько пунктов, предложенных Феррарой. Он исправил цены и исключил требование о передаче северных земель в наследство. Пояснил причину изменений в записке и попросил согласия Феррары по этим небольшим вопросам, а еще напомнил, что уже предлагал вычеркнуть эти пункты прошлой весной. Он не возражал против свадьбы по возвращении Альфонсо с поля боя («А ведь он может вернуться через год, а то и два», — добавил герцог в сторону Вителли).
Козимо подписал документ, подержал палочку воска над огнем, и кровавые капли потекли на бумагу; потом придавил перстень с печатью к алому кружку, тем самым разрешая брак между своим пятым ребенком и наследником древнего императорского рода.
Вскоре эмиссар из Феррары доставил Лукреции официальные письма.
От ворот палаццо их отнесли в кабинет Козимо, где содержание тщательно проверили, затем — в приемную Элеоноры, где сначала сама великая герцогиня, а потом все ее придворные дамы также изучили письма, после — в новую комнату Лукреции за часовней, квадратную и с высокими потолками.
Сидя у камина, Лукреция взяла у слуги письма, разложила на столе и растерянно на них смотрела. Она до сих пор всех убеждала, что не хочет замуж за сына герцога, не хочет занимать место сестры, и все же признавала правду: безжалостный механизм помолвки уже запущен, никуда не денешься. Ее родители и все слуги, похоже, негласно решили пропускать мимо ушей ее возражения и преспокойно обсуждали свадебные планы, рецепты блюд для пиров, стоит ли сменить в большом зале стенной гобелен, подавать ли на ужин только тосканские вина или другие тоже, каких музыкантов отправить играть на балконе, а каких — в зале, какие наряды заказать у швеи на всю семью. А теперь еще новость: письмо от самого сына и наследника!
Она приподняла печать ногтем и с мимолетной искоркой недоумения заметила, что письмо уже вскрывали. С другой стороны, ничего удивительного. Естественно, родители все прочли и только потом отдали ей. Листок был сложен книжкой, она развернула его на столе. Письмо было написано размашистым почерком с завитушками, а начиналось оно со слов «Моя дорогая Лукреция».
Лицо обдало нечаянным жаром. Непонятно, что тут самое необычное: собственническое «моя», тревожащая нежность слова «дорогая» или ее имя, выведенное рукой Альфонсо. Никто еще к ней так не обращался. Она чья-то «дорогая», чья-то Лукреция; эти три слова змеей обвили ее, на миг она увидела себя в объятиях ласковых рук.
Глаза снова вчитались в «Моя дорогая Лукреция», скользнули к «Позволите называть вас так? Ибо вы есть и будете мне дороги».
Бумага дрожала в ее руках, и она положила письмо на плотную ткань юбки, но взгляд по-прежнему скакал по всей странице, цепляясь за случайные слова: «хранить», «горячо», «с нетерпением», «плодотворным», «сражаться во имя короля», «молитесь», «преданный».
Не отпуская уголков листа, Лукреция все же заставила себя читать по порядку, строчку за строчкой. Альфонсо очень радуется их скорой свадьбе. Счастливый будет день! Он, его семья и, конечно, весь двор с нетерпением ждут торжества. Увы, на этой же неделе он отбывает во Францию исполнить клятву и сражаться во имя короля Генриха. Каждый день разлуки он проведет в мыслях о ней, Лукреции. Он просит ее молиться за своего будущего мужа, за его возвращение домой живым и невредимым. Не найдется ли у нее минутки написать ему? Не расскажет ли она о своей жизни и занятиях? Он будет бережно хранить ее письма и горячо надеяться, что их брак окажется плодотворным и счастливым. Любящий и преданный жених, Альфонсо.
Первым же ее порывом было написать ему: «Простите, я не могу за вас выйти. Надеюсь, вы поймете», но не стоило даже пытаться. Отец, его секретари и помощники перехватят письмо, а мать ее накажет.
И все же она ответит. Поступит, как подобает. Мужчина написал девушке (она никак не могла примерить на себя слово «невеста»), а та ему ответит. Вот только о чем писать? Как она гуляет в мезонине? Как часами глядит на пьяццу? Учится играть на лютне, работает над переводом с греческого, ищет, что бы нарисовать? Да чем ее письма могут заинтересовать будущего герцога Феррары?..
Кто-то тихонько кашлянул, и Лукреция подняла глаза. В проходе стояла служанка, которая принесла письмо. Ой, она еще здесь!..
— Да? — Лукреция изобразила уверенный тон. Так, наверное, разговаривают девушки, когда получают письма от жениха. «Горячо», «плодотворный», «счастливый», — пронеслось у нее в голове.
— Простите, — прошептала служанка. — Ее высочество, ваша матушка, просила передать, что эмиссар ждет ответа.
— О! — удивилась Лукреция. Ждет? Надо писать немедленно? Она и не догадывалась, что ответ потребуется так срочно. Что написать? Где найти слова?
Она посмотрела на стол: астролябии, звездная карта, сложенная подзорная труба, несколько каламов[28] (она как раз их затачивала), перочинный ножик; чаша, заскорузлая от смеси льняного масла и сухой яри-медянки[29]. Лукреция отодвинула все это влево, потом вправо. Найти бы хоть один чистый листок, хоть какое-нибудь перышко! Не может ведь она писать воину короля на пергаменте в пятнах краски и дырочках от циркуля! К тому же письмо прочитает ее мать, и если получится коряво, неправильно и…
Служанка шагнула к ней и положила на край стола два предмета.
— Эмиссар передал, ваша светлость. Для вас.
Лукреция отвлеклась от поисков и посмотрела на подарки: один был маленький, завернутый в холстину и плотно перевязанный бечевкой, а другой плоский, обернутый льняной тканью. Лукреция потянулась к маленькому, собралась развязать узелок, но ее взгляд привлек подарок побольше — длинный и прямоугольный, с острыми краями. Поколебавшись мгновение-другое, она притянула его к себе за узелок бечевки.
Ну конечно, внутри лежит портрет Альфонсо. Должна ведь она знать, как выглядит жених, посмотреть ему в глаза.
Где перочинный ножик? Куда делся? Лукреция выдвинула ящик стола и принялась рыться в перьях и чернильницах.
— У тебя нет ножа? — спросила она служанку. — Или ножниц?
Та удивленно посмотрела на нее и покачала головой.
Лукреция задвинула ящик и попыталась развязать подарок острым концом циркуля. На третий раз узел ослаб и поддался. Она отбросила инструмент и развязала узел, сорвала бечеву и обертку. Слой за слоем она убирала солому и лен, пока не добралась до оборотной стороны деревянной дощечки. Ну конечно, портрет жениха. «Давай-ка посмотрим на тебя», — подумала она, перевернув tavola.
Подарок застиг ее врасплох. Вместо лица, смутно знакомого по тому дню на вершине башни, Лукреция увидела нечто иное. С дощечки на нее глядели любопытные глаза-бусинки, а у ног диковинного существа лежал свернутый хвост. Она никогда ничего подобного не видела. Блестящий мех цвета древесной коры, когтистые лапы, узкая мордочка с розовато-коричневым носом, молочно-белая грудка и тонкий пучок усов.
Вроде выдры, или норки, или крохотного медвежонка — очень похоже на них всех, и все же совсем другое животное. Лукреция невольно ахнула от удивления. Такой мужчина — и вдруг присылает столь неожиданный, необычный подарок! На помолвку всегда дарят или портреты, или драгоценности. А ее будущий муж прислал вот это. Ее сразу же от макушки до пяток наполнила нежность к забавному существу на картине. Радостно всплеснув руками, она любовалась рисунком.
Служанка незаметно подошла поднять лен и веревку и протянула Лукреции выпавшую из соломы записку.
Лукреция рассеянно взяла ее и развернула.
Еще одно письмо, на сей раз короче.
«Дорогая!
Зная вашу тягу к животным и любовь к искусству рисования, отправляю это вам.
Мне всегда нравилась эта работа; когда-то она висела у меня в детской, а теперь пусть будет ваша. Зверек на портрете — куница-белодушка, или la faina, как ее называют в наших краях. Они прелестны, но пугливы, обитают в лесах Феррары. Мы будем частенько с ними встречаться на конных прогулках.
Конечно, они животные дикие, но, быть может, вы примете в дар куницу, укрощенную кистью художника? Надеюсь, картина напомнит вам обо мне и нашей помолвке.
С любовью,
Альфонсо».
Лукреция положила письмо на стол. Осторожно провела пальцем по нарисованной спинке животного, ощутила контуры и волны масла и красителя — тайное послание неизвестного художника. Вместо скучного портрета жениха — лесной зверек. Что скажет мама? А отец? Они будут очень недовольны. Лукреция зажала рот, чтобы не рассмеяться вслух.
— La faina, — прошептала она, пробуя слово на вкус: два протяжных «a», щелевой «f»… Первое слово из Феррары. La faina — лесной дух, обитающий на деревьях, хранительница чащи — смотрела на нее озорными глазками.
Лукреция коснулась орехового хвоста, жемчужных колючек когтей. Художник накладывал краски удивительно щедро, ее рельефные слои гордо выступали на поверхности tavola. И приятным, и страшным оказалось открытие: Альфонсо как-то выяснил путь к ее сердцу. Как он понял ее характер после одной мимолетной встречи много лет назад?
С грохотом распахнулась дверь, и в комнату бесцеремонно ввалилась Изабелла. С ее запястья свисала золотая клетка на цепочке, а в клетке сидела канарейка. На солнышке эта изящная птица поднимала голову и выпускала из острого клювика звонкую трель. Изабелла любила гулять по палаццо со своей птичкой, чтобы та дышала свежим воздухом.
— Мне сказали, — заявила сестра, поставив клетку, — из Феррары привезли подарки. Дай посмотреть!
Лукреция подняла со стола рисунок.
— Гляди! Ни за что не догадаешься…
— Портрет? Покажи! — Каблучки Изабеллы громко застучали по полу. Заглянув за плечо Лукреции, она тихо взвизгнула. — Господи! Это еще что?
— Faina, живет на деревьях в…
— Какая-то крыса!.. Вот и весь его подарок? — скривилась Изабелла. — Ума лишился! Папа в курсе, что он подарил тебе старую картинку с крысой? Возмутительно! Оскорбление и нашей семье, и тебе, совершенно…
— Там еще кое-что было, — рассеянно пробормотала Лукреция, любуясь тем, как художник передал контраст между жесткими усами и мягким брюшком куницы. — Вроде бы.
— Где? — потребовала Изабелла.
Лукреция небрежно махнула рукой.
— Где-то там.
Служанка подошла, вынула маленькую шкатулку из-под кипы бумаг и протянула Изабелле.
— Хм-м… — Изабелла повертела вещицу в руках, потрясла у уха. В ответ раздалось звяканье металла. — А вот это уже интереснее!
Даже не взглянув на Лукрецию, она сорвала бечевку и холщовую ткань, бросила на пол и увидела кожаный футляр.
— Ага! — Изабелла открыла крышку.
Лукреция по-прежнему рассматривала картину, зачарованная плотными слоями краски, и забыла о сестре. Потом услышала аханье и «Лукре, гляди!».
— Что? — не оборачиваясь, буркнула Лукреция.
— Гляди же! — Изабелла хлопнула ее по плечу. — Забудь ты про свою ужасную крысу и посмотри на…
— Больно, вообще-то. — Лукреция потерла плечо. — И незачем…
— Я тебя по щекам отхлещу, пигалица! — прикрикнула в нетерпении Изабелла. — Смотри, куда просят! Ты меня с ума сведешь.
Лукреция со вздохом оторвалась от картины.
— Ну что там? — нехотя спросила она, повернувшись в кресле.
И тоже ахнула. Сестра держала в руках ослепительный рдяный камень. Огромный рубин, оправленный золотом и жемчугом, подвешенный на гладкой цепочке из множества звеньев, а на ней — рубины поменьше. «Наверное, на шею», — подумала Лукреция. Большой рубин ярко багровел, словно капля замерзшего вина.
— Вот это я понимаю, подарок на помолвку, — одобрила Изабелла.
Лукреция промолчала. Она любовалась колье: казалось, оно притягивало к себе свет, а все остальное рядом с ним тускнело. Как тяжело, наверное, носить его на шее. Оно будет давить и царапать кожу.
— Нечестно, — ворчала Изабелла, прикладывая колье к шее и нетерпеливо вертясь перед зеркалом над каминной полкой. — Вот мне Паоло такого не дарит! И цвет мне к лицу! Тебе оно незачем.
— Почему?
— Что почему?
— Почему незачем?
— Ну… — протянула Изабелла, любуясь своим отражением, — тебе ведь такое неинтересно, да?
Взгляд Лукреции вернулся к животному на картине, блестящей позолоченной раме.
— Нет, наверное.
— Хочу его себе, — объявила Изабелла, держа колье на расстоянии вытянутой руки. — Можно забрать, да? Отдай.
Глаза сестры горели жадностью, она решительно поджала губы. Помолчав, Лукреция спросила:
— Написать ему «Спасибо за подарок, моя сестра его забрала»?
Изабелла пристально на нее посмотрела, рассчитывая всевозможные исходы такого письма, и недовольно вздохнула.
— Папа не позволит, — буркнула она про себя. — Нечестно! — Кулон с цепочкой скользнули обратно в шкатулку. Изабелла уже собиралась закрыть ее, однако замерла. — Что-то выгравировано на крышке.
— Правда?
— Да. Прочитать? — Не дожидаясь ответа, Изабелла забасила мужским голосом: — «Оно принадлежало моей бабушке, тоже Лукреции. От одной Лукреции к другой». — Сестра захлопнула шкатулку и швырнула сестре на колени. — Держи! — зло выпалила она. — Живи-поживай со своим напыщенным ослом!
Изабелла сердито зашагала к кровати и бросилась на нее лицом вниз.
Лукреция поставила шкатулку на стол, приоткрыла крышку и принялась разглядывать кулон. Кожаная обивка чуть приглушала великолепие и тревожащую красоту колье. Теперь оно казалось доступнее, проще. Камень был оправлен жемчужинами, похожими на зубки, — интересно, это ювелир так решил или бабушка Альфонсо? Какой была другая Лукреция? Отец говорил, она славилась красотой, и многие художники писали ее портреты. А вдруг этот кулон даже нарисован на одном из них? Наверное, стоит спросить Альфонсо в письме. Лукреция достала перочинный ножик и принялась затачивать кончик пера.
А Изабелла так и бурчала на кровати:
— Герцог Фанфаронии! «От одной Лукреции к другой»! Вот осел. Герцог Тридевятого королевства! Кто ж дарит крысу и драгоценности? Осел.
Лукреция молча придвинула к себе кусок пергамента. Только так и можно было справиться с гневными вспышками Изабеллы: не обращать внимания, пусть беснуется. Лукреция замерла с пером в руках. Как начать? «Дорогой Альфонсо»? «Ваше высочество»? «L’Altura»[30]? «Любимый»?
Лукреция закусила губу. Чернила на кончике пера высыхали, эмиссар ждал ответа, Изабелла хрипло напевала про мужей с тугими кошельками, да маленькими…
Лукреция отрешилась от происходящего. Ничего не слышала, не замечала. Прислонила к вазе рисунок куницы-белодушки и смотрела, смотрела, смотрела. Как чудесно, непривычно! За ней наблюдали, быть может, ее даже поняли. Как странно: человек, постигнувший ее характер, самую душу, видел ее лишь раз, причем мельком.
Она вспомнила, как в Неаполе отец исподтишка любовался ее матерью через полупрозрачную завесу, как тотчас решил взять ее в жены. Неужто и будущий герцог лелеял в сердце образ девочки с мышью в руках? И когда Мария, первая невеста, умерла, свои чувства он перенес на Лукрецию?
Дня через два Лукреция засунет картину под мышку и отправится искать учителя рисования: он частенько работал над чем-то в палаццо. Мамина придворная дама неохотно ее сопроводит. Наконец, учитель найдется на лестнице в коридоре: они с синьором Вазари будут набрасывать на потолке фреску с богиней Юноной на колеснице цвета павлиньего пера. Лукреция положит картину на стол, рядом с мелками, и она тут же зачарует художников, как добыча — кошек. Учитель спустится с лестницы, бережно возьмет картину обеими руками, стараясь не задеть пальцами, а Вазари заглянет ему через плечо. Учитель скажет, что работу выполнил опытный мастер.
— Видите, как один оттенок переходит в другой, какие осторожные мазки, как запечатлели зверька в движении?
Вазари кивнет, отметит с привычной серьезностью:
— Великолепно.
Лукреция задаст главный вопрос: почему слои такие толстые, зачем художник использовал так много краски? Вазари с учителем подумают, изучат куницу-белодушку, ее живую мордочку, приподнятую лапу; Вазари возьмет у учителя картину и повернет боком. Потом объяснит Лукреции: художники иногда пишут пейзаж или портрет, а сверху зарисовывают чем-то другим. Такое частенько бывает, если художник недоволен первоначальным вариантом, или ему не хватает денег на материалы, или он по какой-то причине хочет скрыть свою работу, или просто хочет усовершенствовать светотень. На tavola или холсте может быть скрыто три-четыре картины. Как на этой.
— Я тоже так хочу. Пожалуйста, научите меня, — попросит Лукреция.
Учитель покосится на наставника, Вазари вздохнет, но даст отмашку. Учитель вытрет руки о ткань и скажет:
— Пойдем.
А сейчас, в спальне, пока Изабелла еще лежала на кровати, а ее канарейка поглядывала на стол блестящим глазом, Лукреция расправила лист, приготовила перо и впервые написала его имя:
Дорогой Альфонсо…
Где-то во тьме
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
Она просыпается внезапно, будто скатывается с горки или попадает в другую реальность.
Поднимает голову с подушки и вглядывается в плотную, гнетущую тьму. Что это за место? Глаза ищут справа геометрические окна castello, но их нет. Высматривают матовые окна палаццо — и снова ничего. А где картина с la faina, почему ее нет на каминной полке?
Потом она замечает смятый, отодвинутый в спешке полог, а за ним — угол стены в полуночном сумраке, и вспоминает: fortezza. Она в fortezza.
Куда делся Альфонсо? Его не видно. Ушел. Кровать пуста. Где-то слева стол с набросками картины, которую она вчера задумала, а по другую сторону…
К горлу стремительно подступает тошнота.
Лукреция рывком привстает и карабкается к краю постели. Скорей бы выпутаться из полога, слезть с матраса…
— Эмилия! — зовет она чужим голосом, скрипучим и глухим. — Клелия!
Ах да, их ведь здесь нет, они остались в Ферраре!
Голова пульсирует, словно челюсть слишком туго крепится к черепу. Мышцы шеи завязываются в яркие, жесткие узлы и мешают току крови. Глазницы, корни задних зубов и пазухи носа распирает — они ослепительно светятся во тьме, поют пронзительную песнь агонии.
Лукреция сжимает полог, отдергивает и тут же валится на пол. Ее сотрясает рвотный позыв; желудок, содрогаясь, выбрасывает в рот горькую желчь, и Лукреция вновь отрыгивает, на сей раз исторгая целый поток жгучих, омерзительных жидкостей. Словно извергается на поверхность земли кипящая лава.
Она ползет на четвереньках, как животное, кашляя и срыгивая, пока из воспаленного, обожженного рта не вытекает одна желчь с кровью.
Лукреция снова зовет на помощь, но толстые стены смеются над ней и отвечают еле слышным жалким эхом. Она расстегивает несколько пуговиц на сорочке и ложится обратно в кровать. Какой еще у нее есть выход? На задворках сознания мелькает мысль: никогда еще ей не было так одиноко. Всю жизнь кто-нибудь да приходил на помощь.
Минуту спустя ее охватывает дрожь. Ползет от ступней к икрам, потом к бедрам; Лукреция вертится и стонет под одеялом. Таинственная немочь хватает ее за загривок, как беспомощного котенка. Очевидно, она злится на Лукрецию. Она гневается. Лукреция чем-то ее оскорбила, и теперь она в ярости и никогда ей не простит. Она выгибает спину Лукреции, выкручивает ее зубы, напускает волны конвульсий на ноги. Окаменевшие мышцы ног Лукреции сводит судорогой. Не помня себя, она отдается в руки неведомой силе. Теперь она блошка на спине бешеного зверя, чаинка в водовороте кипятка.
Ничего не поделаешь. Она беспомощна. Жестокая сила швыряет ее из стороны в сторону; голову мотает на подушке. Руки не гнутся, пальцы скрючиваются. Воздух едва просачивается по сдавленному горлу в застывшие легкие.
Она может умереть. Как чайка внезапно налетает на человека в разгар бури, так и это озарение приходит к Лукреции, и она тупо рассматривает беспощадную истину сквозь туман болезни. Да, она может умереть. Она понимает, она соглашается. Она жаждет лишь конца мучениям, страданиям тела. Любого конца.
Герцогиня Лукреция в день свадьбы
Палаццо, Флоренция, 1560 год
В комнате полно людей, на кровати ждет свадебное платье.
На каминной полке стоят лилии на длинных стеблях — кажется, они такие высокие, чтобы все любовались их красотой. Лукреция вдыхает и выдыхает аромат цветов. Она проснулась с первыми лучами солнца, тогда бутоны были еще закрыты, а теперь они показывают всем затейливые лепестки и тычинки. Густой приторный запах наполняет легкие, выходит изо рта, наполняет снова. Ваза на столе обведена ржаво-красным кругом пыльцы.
Слуги снуют туда-сюда. Кто-то стучится в дверь: принесли деревянную шкатулку, из нее по одному достают украшения. На руку Лукреции надевают браслеты, вставляют в уши серьги, застегивают на шее свадебный подарок — рубиновое колье. Все суетятся, одна Лукреция сидит неподвижно. Она в самом центре водоворота, словно камыш в пруду.
Вокруг нее три служанки, и каждая распутывает отведенные ей пряди от колтунов, тянет и дергает волосы гребнем. Одна девушка, примерно ровесница Лукреции, со шрамом от уголка рта до самой шеи, аккуратно распутывает пряди пальцами, а не продирается через них щеткой, и Лукреция очень ей благодарна.
Она коротает время, воображая, как нарисует лилии, как передаст розовые пятнышки в центре и снежно-белые внешние лепестки, липкие от нектара тычинки, сочетание силы и хрупкости в цветке. Лукреция незаметно постукивает ногой по полу под camiciotto. Никак не может остановиться, слишком утомительно так долго сидеть. Хочется вскочить, отогнать служанок и бегать по комнате, швыряя на пол браслеты и разминая затекшую шею. А лучше — крикнуть так, чтобы все разбежались, и наконец остаться наедине со своими мыслями.
Сегодня — никаких набросков. Свадебное платье готово, а лилии скоро перевяжут ленточкой и отдадут Лукреции. Она понесет их перед собой, как копье или щит.
У ее ног появляется треугольник света, брат-близнец окна за спиной, только желтый. Он скользит по полу, вот-вот возьмет Лукрецию за лодыжку. По пути огибает все помехи, растекается по паре туфель, упавшему полотенцу, сброшенной нижней юбке.
У кровати яростным шепотом переругиваются две служанки. Спорят о платье и о том, как правильно его надевать. Одна берет рукав и заявляет твердо: сначала его. Другая качает головой и показывает пальцем на корсаж. Первая хватается за голову и злится: если бы не возились так долго с прической, все давно было бы готово. Они волнуются, потому что Элеонора приказала нарядить Лукрецию «как настоящую герцогиню».
— Ведь вскоре она ею станет, — с несвойственной ей улыбкой добавила Элеонора.
Старый герцог Феррары умер, и Альфонсо занял его место. Лукреция слышала, поэтому он и вернулся из Франции: взять бразды правления в свои руки, а вовсе не из-за свадьбы, что бы там ни говорила мама. В общем, уже сегодня она станет герцогиней, сразу после венчания. Когда рядом никого, Лукреция повторяет и повторяет это слово — «duchessa», «duchessa», — пока оно не превращается в набор звуков. Три слога сражаются друг с другом: властный «du», резкий «che», шелестящий «ssa». Подумать только, скоро ее имя навсегда будет связано с этим титулом!
Прошлой ночью в честь нового герцога в палаццо выступали актеры из театра масок, одетые в расшитый бархат. Дюжина индийцев и дюжина греков устраивали представления под божественную музыку. Танцевали флорентийские дамы, а на длинные столы в зале приемов один за другим подавали деликатесы. Понятно, почему сегодня слуги такие уставшие и нервные: им предстоит еще одна бессонная ночь. Отец устроил для горожан игру в calcio перед церковью Санта-Кроче, и пришли тысячи желающих, один мужчина из восточного квартала даже всерьез покалечился, когда защищал ворота своей команды. За храбрость и упорство подданного Козимо отправил его семье кошель золотых скудо.
Лукреция знала об этом только из пересудов слуг: и про театр масок, и про свечи, и про жаркое из свинины, и про calcio, и про скудо. Ей ужасно хотелось увидеть все собственными глазами, побывать и в залах, и даже на балконе, полюбоваться танцами и посмотреть на лица гостей. Она упрашивала и упрашивала мать с отцом, но тщетно. Потом топнула ногой и крикнула:
— Ну почему нельзя, почему?!
Родители только покачали головами, отвернулись и велели сидеть в своей комнате. Негоже юной невесте показываться на людях перед свадьбой.
Из зеркала на Лукрецию смотрят горящие глаза; щеки пылают, шесть рук трудятся над волосами: каждая служанка расчесывает и заплетает свою прядку, и Лукреция похожа на потустороннее существо — вот-вот взмахнет косами и улетит.
А свадебное платье ждет своего часа, ему невтерпеж облечь ее тело.
С кампанилы[31] раздается звон. Пять, шесть, семь ударов в колокол. Миг тишины — и за ним следуют другие, весь город отвечает эхом на собственный же зов. Стены комнаты еще дрожат от гула, а служанки заполошно носятся от двери к окну, от сундука к кровати, подгоняют друг друга. Та, что держит платье, отчитывает тех, кто делает прическу, — дескать, поторапливайтесь, из-за вас всем достанется. Служанка постарше, которая сворачивает косы в жгутики и закрепляет шпильками, велит той умолкнуть, а не то сама заткнет ей рот.
Лукрецию с самого рождения не стригли, в распущенном виде ее волосы достают до щиколоток, ниспадают на пол сверкающим медным водопадом. Она может в них закутаться, как в плащ. А еще под ними можно спрятать цветы, семена, даже маленьких животных, если собрать их покучнее. Когда ее волосы расчесывают, они оживают, распадаются на крупные завитки, а кончики потрескивают и топорщатся, как нити порванной паутины. Если прическу делают опытные служанки, вот как сейчас, то косы можно заколоть и уложить короной или венцом.
Косы Лукреции оборачивают вокруг головы, над ушами с сережками, над изгибом шеи, и закрепляют на макушке. Прикрывают лицо фатой, надевают золотую диадему, которую сам Вителли принес из крепко запертого хранилища.
Служанки препираются. Одна опускает похабную шутку про мужей, другая хихикает, а третья на них цыкает. Лукреции кажется, что диадема стискивает ей голову, так и давит на череп вместе с сотнями жестких железных шпилек в волосах. Она поджимает пальцы в домашних туфельках и вспоминает совет Софии на первую брачную ночь: пусть муж делает свое дело, а ты лежи и не брыкайся, дыши глубоко, и все скоро кончится. «Но ведь я не умею, — хотела возразить Лукреция, — уступать и поддаваться, не такой я человек».
Фату откидывают, и добрая служанка со шрамом просит Лукрецию встать.
Она оборачивается и… Платье лежит в руках служанок, как убаюканное дитя. Словно корабль, плывет на всех парусах к Лукреции, одетой в нижнее платье и фату. Ткань наряда идет рябью, подобно водной глади, а шелк играет мириадами оттенков синего, от чистой небесной лазури до цвета густых чернил. Посередине синей ткани проходит сверкающая дорожка золотой органзы.
Служанки проворно разворачивают платье, будто свернутую в трубочку карту, и на миг оно повисает в их руках — ни рельефов на этой карте не разглядеть, ни обозначений. Что же оно в себе таит?.. Потом служанки надевают на Лукрецию корсет. Одна девушка затягивает шнуровку, другая держит половинки вместе, а служанка со шрамом продевает руки в объемистые жесткие рукава и ловко их привязывает. Она явно немногим старше Лукреции, из-под капора выглядывают локоны примерно такого же оттенка, как у нее, только посветлее. У ворота ее платья и под мышками проступают пятна пота. Шрам в виде полумесяца изгибается от уголка рта до шеи и причудливым образом только оттеняет ее красоту.
Корсет затягивают все туже. Кровь приливает к щекам и шее, глаза щиплет от предательских слез. Девушка, занятая рукавами, теперь завязывает их под мышками, мельком глядит на Лукрецию и тут же отводит глаза. Неужто воображение разыгралось, или она вновь бросает на Лукрецию сочувственный, исполненный жалости взгляд? Неужто изувеченная, бедная служанка ей сочувствует?
Наконец, готово. Платье надето. Юбка достает до щиколоток, запястья прикрыты рукавами, лиф облегает стан — настоящая крепость из шелка. На ее вершине — высокая прическа и рубиновое колье, у подножия — ноги в атласных туфельках.
В отражении Лукреция видит девушку в море синих и золотых волн. Падший архангел.
Служанки мягко подталкивают ее вперед, дают букет лилий, и она делает шаг к двери.
Складки платья шуршат и ниспадают волнами, шепчут молитву на незнакомом языке; шелк скользит по грубой ткани нижней юбки, пластины корсета постукивают, манжеты натирают кожу запястий, жесткий воротник царапает и колет шею, каркас платья скрипит, как такелаж. Настоящая симфония, оркестр одежд; заткнуть бы уши, да нельзя. Надо добраться до двери, перешагнуть порог и войти в коридор, где ждут отцовские служащие и свита матери. Пора оставить позади свою комнату и палаццо: Лукреции не суждено больше спать дома.
Она проходит комнату за комнатой, арку за аркой, один мраморный портал за другим. Слуги отворяют ей двери, глядят с любопытством.
У бывшей комнаты Марии Лукреция отводит глаза, но все же успевает заметить приоткрытую дверцу. Показалось? Нет, в коридор просачивается лучик света. Лукреция стискивает букет. Неужели там кто-то живет? Неужели комнату Марии заняли?
О господи, конечно! Там герцог Феррары, кто же еще. Его больше некуда пристроить: в палаццо яблоку негде упасть, столько приехало гостей, слуг, придворных. Лишь эти покои подходят его титулу.
Комната Марии. Ее кровать, тяжелые красные портьеры, лакированный сундук, стол у высокого окна. Раньше там стояла ваза из кварца с резьбой по ободку. Весной Мария любила букеты анемонов, летом — бугенвиллии. Интересно, по-прежнему ли стоят в вазе нежные пурпурно-розовые бутоны, как при жизни сестры?
Будь Мария жива, это она шла бы от двери к лестнице в сопровождении служанок, окруженная придворными…
А вот и Вителли у подножия ступеней. Он замечает Лукрецию и кому-то кивает.
— Пришла! — говорит он невидимому помощнику.
Все хотели бы видеть на ее месте Марию. О, без сомнений! Марии предназначалось и платье, и букет лилий. А не младшей сестре, низенькой и куда менее симпатичной, да и по характеру не столь приятной и уступчивой.
Поднявшись по лестнице, Лукреция едва не поворачивает обратно. Толкнуть бы дверь — ну вдруг произошла ошибка? — и увидеть за столом Марию. Рядом стоит привычная ваза, сестра пишет письмо, солнечный свет падает на ее пышные волосы… Мария оборачивается, недовольная шумом, и сердится: «Ты что делаешь? Почему мое платье надела? Снимай немедленно!»
Лукреция незаметно спускается на ступеньку ниже, потом еще и еще — тонкие подошвы туфелек позволяют шагать тихо. Справа от нее стоит девушка со шрамом, она все замечает и аккуратно придерживает ее за талию. Наверное, думает, что Лукреция падает.
Вителли берет невесту за руку повыше локтя и ведет сквозь бархатную тьму, за которой — дворцовые ворота. До чего же странно стоять к нему так близко! Хочется наклониться и прошептать… А что именно? «Отпусти меня»? «Дай убежать»?
Ворота со скрипом открываются, и на Лукрецию обрушивается водопад звуков. Пока она не знает, что сегодня не выдастся ни единой спокойной минутки: весь оставшийся день ее ждет суета, толкучка, и разговоры, и приказы, и обязательства. Она стоит на пороге родного палаццо, а потом покидает его высокие, надежные стены, щурясь от солнца. Волна звука едва не сбивает с ног. В общем-то неплохо, что Вителли ее придерживает. Открыв глаза, она видит на пьяцце огромную толпу. Флорентийцы размахивают шарфами и флагами, кричат — и все смотрят на нее! Сколько лиц! Удивительно! Кто глядит во все глаза, а кто прищурился, кто белозубый, а кто вообще без зубов, кто кудрявый, а кто коротко стриженный. Родители поднимают малышей на руках, чтобы лучше видели, а дети постарше вытягивают шеи. Столько лиц, и каждое по-своему неповторимо: и носы, и рты, и глаза у всякого человека разные. Да, и впрямь удивительно. Вот бы остановиться и поговорить со всеми горожанами, спросить, как их зовут и зачем они сюда пришли. Какая-то женщина рвется к Лукреции, а стражник ее не пускает, и незнакомке остается только умоляюще простирать руку и кричать одно и то же слово. Лукреция присматривается к женщине. Стоит шагнуть ближе, и можно ее коснуться, потрогать ее грязное платье и спутанные волосы. Да ведь она зовет ее, Лукрецию! Откуда эта женщина знает ее имя? Какое ей до него дело, да и до самой Лукреции?
Как из ниоткуда появляется экипаж, но не открытый, в котором обычно ездят родители, а с откидным верхом. Стражник придерживает для Лукреции дверцу и вместе с Вителли помогает подняться. В экипаже появляется сначала пышная юбка и букет, а потом уже сама Лукреция. Дверца с хлопком закрывается.
Экипаж высокий и с виду не слишком-то надежный; зато легче терпеть мешанину красок и шум пьяццы. Жесткий каркас мешает Лукреции устроиться поудобнее; она не сразу замечает, что напротив сидят родители.
Элеонора восседает в облаке воздушных юбок, одной рукой подпирает голову, а другой обвивает руку Козимо. Она внимательно оглядывает дочь из-под густых ресниц.
— Да, — кивает герцогиня довольно, словно в продолжение некоего разговора, — этот цвет тебе очень к лицу. Оттеняет и глаза, и волосы. Я же говорила! А кое-кто из придворных дам не согласился: он якобы подчеркнет твою бледность!
Она рассматривает платье от корсета до самого подола и обратно, наклоняется поближе, изучая рукава. Потом выжидающе смотрит на Лукрецию.
— Даже не поцелуешь маму в такой праздник?
— Конечно. Извини, мама. — Лукреция с опаской приподнимается, стараясь не уронить лилии, кое-как удерживается на ногах (платье просто огромное, а какое тяжелое!) и осторожно целует мать в щеку.
Кожа ее нежна и прохладна, как поверхность переспелого абрикоса, такая же податливо-мягкая. Пахнет от мамы всегда одинаково: помадой для волос, фиалковым маслом, гвоздикой.
Толпа шумно ликует, увидев поцелуй матери и дочери; веселый гомон отскакивает от стен экипажа, как пружинистый золотистый мяч.
После удара кнутом лошади трогаются.
— Видишь, как они нас любят, Лукреция? — Элеонора кивает на толпу.
Мать размахивает платком, и его края нежно трепещут на теплом ветерке; она улыбается зевакам. Козимо держит спину и голову прямо, глядит серьезно, только царственно кивнет время от времени. В вороте его camicia[32] на миг блестит железо. Даже сегодня отец носит кольчугу: говорят, он никогда не выходит без нее из палаццо, опасаясь нападения. Лукреция вертит головой: вдруг убийца выскочит из толпы? Но экипаж едет так быстро, что лица флорентийцев размыты, словно капли краски в воде.
— Вижу, мама.
Экипаж бросает вправо, лошади натягивают упряжь. Лукреция стискивает букет, а то упадет и лепестки помнутся. Родителей тряска не коснулась, они сидят бок о бок и поддерживают друг друга. Мама с папой смотрят в толпу; Элеонора машет горожанам с легкой улыбкой на лице.
— Мама? — Лукреция берет ее за руку и тянет к себе, будто их близость повернет время вспять и перепишет всю их историю со дня появления Лукреции на свет. Экипаж мчит по городу, и она понимает с внезапной ясностью: не так уж крепка связь между ней и матерью, узы родства истерлись под неведомой тяжестью, запутались так крепко, что не развязать, а почему — непонятно, однако так было всегда. «Почему? — хочет она спросить Элеонору. — Разве ты не помнишь animaletti? Как я их любила, как обрадовалась, что ты их принесла? Как плакала, когда мальчики разбили их о подоконник? Помнишь, как ты договорилась с учителем рисования?»
— Мама? — снова шепчет Лукреция, сжав пальцы Элеоноры. Больше всего на свете она мечтает распутать невидимые узлы, которые им мешают. Вот бы все исправить!
Стук колес, крики толпы и свист ветра заглушают ее слова. Санта-Мария-Новелла уже совсем близко, времени почти не осталось. С каждым мгновением навсегда ускользает ее детство. Еще немного, и она превратится в замужнюю даму. Отгремели, подошли к концу ежедневные празднества, игры и танцы в честь ее свадьбы, а сегодня вечером не станет и прежней ее.
Лукреция кладет вторую руку на колено матери, постукивает пальцами по ткани, будто по закрытой двери.
Элеонора удивленно опускает глаза. Безупречной формы брови недоуменно изгибаются, впервые за день мать внимательно смотрит на Лукрецию, и тень нежности пробегает по ее лицу, смягчая черты. Голос дочери словно рушит дамбу, выпуская на волю ласковый поток.
— Да?
— Мама, я… — Лукреция ищет нужные слова. Некогда обсуждать запутанную нить, что связывает их: церковь совсем рядом, за углом; некогда рассказывать, как она напугана, как велик ее страх перед браком и будущим — до того он огромен, что занимает все сиденье, цепляется за него когтистыми лапами. Страх — пятый пассажир в экипаже. Времени на разговоры нет, но можно вернуться к надежной теме:
— Когда ты… когда… впервые увидела папу, по дороге в Ливорно… ты… Как ты…
Элеонора удивленно глядит на младшенькую. Лукреция отвечает ей молящим взглядом. Пойми меня, мама!
— Как я что?
— Ты сразу… полюбила его… тут же… или потом?
Задумавшись, Элеонора чуть заметно пожимает плечами.
— Я его впервые увидела в доме вице-короля в Неаполе, поэтому…
— Так ведь папа тебя видел, а ты его нет! — Знакомая наизусть история рушится. — Ты же смотрела в потолок!
Родители переглядываются, и между ними тоже заметна нить, но другая, шелковая — как в мамином инсектарии. Отец Лукреции сжимает белую ручку жены.
— Нет. — Элеонора качает головой, и сережки отзываются звоном. — Я только притворялась, а сама знала, что он там. Знала, что он мною любуется. Я уже тогда поняла, как все сложится.
Отец не сводит взгляда с жены и облизывает губы, как всегда ярко алеющие в густой бороде. Лукреция отворачивается. Церковь Санта-Мария-Новелла грозно возвышается над ней. Мать спрашивает возницу, когда приедет экипаж с мальчиками, и на Лукрецию извечным тяжким грузом давит понимание: маме дороже сыновья, и никто не займет их места в ее сердце, а любимица папы — Изабелла, он потакает всем ее капризам; ей же самой любви не досталось, вечно она на вторых ролях, ее в лучшем случае просто терпят. «Но почему? — мысленно взывает она к родителям. — Почему их вы любите, а меня нет? Разве вы не замечаете, какой Франческо холодный, каким жестоким растет Пьетро? Почему меня выдают замуж за чужака из Феррары, почему Изабелле можно остаться, а меня отсылают?»
Экипаж останавливается. Лукреция проглатывает свои вопросы, как горькую пилюлю. Поздно, прошло их время, это уже не важно. Вот-вот начнется ее новая жизнь. Лукреция родится заново — не пятым ребенком Флоренции, слабеньким и всеми забытым, а герцогиней Феррары!
Она поднимает глаза на каменный выступ церкви; на фоне летнего неба кампанила кажется аппликацией, искусно пришитой за коричневые края к синему полотну. Покачнувшись, Лукреция встает.
Стены церкви милосердно заглушают городской шум. Мать с отцом омывают руки в купели, Лукреция тоже тянется к воде, но замирает в восхищении, заметив убранство зала. Ничего подобного она еще не видела. Дорожка из алых плит уходит вдаль, а по обе стороны от нее торжественно высится череда арок. Из невидимых окон высоко над головой под косым углом льется свет, согревая вершины арок и обращая белую штукатурку в золотые ромбы. Огоньки свечей трепещут в маленьких ореолах света и озаряют полумрак. И линии на потолке, и проход между рядами ведут к одной точке — алтарю, окруженному окнами из разноцветного стекла и статуями святых с золотыми нимбами.
Онемев от восторга, Лукреция жадно обводит взглядом то левую сторону, то правую, силясь запомнить зал во всех подробностях, чтобы потом его нарисовать. Понадобится бумага, мелки, белая и алая краски, а еще лазурь окон, золотистый блеск нимбов, яркая желтизна солнца. По телу пробегает волна — то ли предвкушения, то ли тревоги. Хватит ли времени? Сможет ли она запечатлеть все в памяти? Поразительно, что в каменном теле здания скрывается сердце из пламени и золота, воплощение неземной красоты.
Они шагают к алтарю. Воздух пропитан благовониями, струйки дыма кольцами закручиваются в свете острых солнечных лучей, хор тихо запевает на латыни. Под ногами Лукреции лежит беломраморная надгробная плита с барельефом умершего; глаза его закрыты и почти стерты множеством ног, а тело совсем немного выступает над полом — кажется, что оно наполовину погружено в воду. «Вот уж странное место для надгробия, — удивляется Лукреция. — Пол в церкви! Все по тебе топчутся, тревожат твой вечный покой».
У алтаря стоит группка людей во главе со священником в бело-золотом облачении до самого пола. Ног священнослужителя не видно, он будто двигается на колесах или парит над землей.
Лукреция улыбается про себя, ибо в таком божественно-прекрасном месте ей ничто не угрожает, здесь не может произойти ничего дурного; ее до краев переполняет благоговейный восторг. Воображение превращает прозаичные деревянные балки под крышей в невесомые, сотворенные из света. Краем сознания она отмечает, как отходит в сторону отец, а ее руки галантно, однако решительно касается чужая рука. Длинные пальцы, широкая теплая ладонь. Черные волосы на ней растут в одну сторону: они похожи на колосья, согнутые ветром, а принадлежит рука высокому мужчине рядом с ней.
Лукреция ахает, всколыхнув фату. Значит, это Альфонсо. Стоит рядом и ждет начала церемонии. А она, дурочка, и не догадалась сразу! Альфонсо, герцог Феррары, заберет ее в свой замок заодно с вещами и приданым. Он правда здесь, он ей не привиделся.
Над головами новобрачных держат меч, затем Альфонсо завязывает на талии Лукреции золотой cintura[33], тяжелый от рубинов и жемчуга. Потом жених встает и надевает на пальчик Лукреции кольцо, затем еще одно и еще. На третьем изображен его фамильный герб — расправивший крылья орел. Оно чуть великовато, и Лукреции приходится согнуть палец, чтобы не соскользнуло. Какая непривычная тяжесть… Козимо протягивает Альфонсо серебряное блюдо и boccale[34]. Мужчины обмениваются церемонными поклонами.
Альфонсо передает дары своему человеку, поворачивается к Лукреции и поднимает ее фату все выше и выше. О, можно свободно дышать и все видеть! Ничто не застилает глаза, ничто не мешает жадно вбирать в себя каждую мелочь в церковном зале, вдыхать насыщенный благовониями воздух, нет больше преграды между Лукрецией и миром, между Лукрецией и этим малознакомым мужчиной перед ней.
Священник объявляет начало мессы, и Альфонсо становится лицом к алтарю. Спохватившись, Лукреция повторяет за ним.
Слова на латыни волной прокатываются над головами и возносятся к потолку. Лукреция никак не может собраться с мыслями, даже понять священника она не в силах. Выхватит слово-другое — «Отец», «душа», «союз», — но неясно, откуда они взяты и как связаны с остальными словами. Церемония очень серьезная, и положено ей внимать, однако Лукреция уголком глаза рассматривает Альфонсо: коричневые туфли, очертания стопы под начищенной кожей, изгиб стройной лодыжки в чулке, блестящие серебряные запонки. Волосы у него темные и чуть длиннее, чем у знакомых ей мужчин, даже падают на глаза. Память ее не подвела: он и правда высокий и широкоплечий, как настоящий солдат. Ее макушка едва достает ему до плеча.
Он тянется к кубку и передает Лукреции, а она прислушивается к дыханию жениха, шуршанию его одежды.
Священник забирает у Лукреции букет, соединяет руки новобрачных и знаком велит повернуться друг к другу лицом. Опять непонятные слова; Лукреция улавливает только «мужем», «женой» и «не разлучит вас». Свершилось: она замужем, и ничего не попишешь. Она стала другой — а какой, пока неизвестно; имя у нее теперь новое, и дом тоже. Отныне она принадлежит этому человеку и ожидает увидеть в его взгляде мрачную серьезность.
Но нет! На лице Альфонсо, герцога Феррары, иные чувства. Он проникнулся важностью церемонии не более, чем она. Заглянув в глаза невесты, он улыбается уголками губ и едва заметно косится на священника (тот все твердит о Боге и христианском долге), потом чуть приподнимает брови.
Он явно забавляется и смотрит на нее, как на сообщницу. «До чего занудный! — говорят его глаза. — Поскорее бы уже закончил!»
Станцуй Альфонсо на алтаре, Лукреция не так удивилась бы. Она невольно расплывается в улыбке.
Они еще не рассоединили рук, и он сжимает ее пальцы. А еще чуть-чуть морщит нос, будто мышка! Точно так же, как давным-давно, на зубчатой стене. «Неужели ты помнишь? — так и подмывает Лукрецию спросить. — Помнишь меня и ручную мышь?» А еще: «Не жалеешь, что не Мария стоит в этом платье, держит тебя за руку? Не злишься, что вместо нее — я?»
Хотя к чему спрашивать? Они уже идут к выходу через золотистые арки света, по алым плитам пола и мраморным надгробиям, через высокие двери; Альфонсо берет ее под руку, и все чувства до того обостряются, что она слышит потрескивание вышитой ткани его рукава, ощущает напряженную работу мышц под одеждой.
Выйдя на крыльцо, Альфонсо машет толпе, и Лукреция следует его примеру. Фата отброшена, солнечные лучи играют на ее лице, и горожане радостно кричат, размахивают флажками и платками под хмурым взглядом отцовских стражников. Альфонсо кивает флорентийцам, его черные волосы блестят. Он поворачивается к Лукреции и впервые заговаривает с ней.
— У вас еще осталась картина с куницей-белодушкой?
Вот первые слова ее мужа.
— С la faina? Конечно! — восклицает Лукреция. — Она мне очень дорога. Я поставила ее на прикроватный столик. Как просыпаюсь, первым делом вижу вашу зверюшку.
Герцог с любопытством ее разглядывает, улыбаясь уголками губ.
— «Зверюшку»? — переспрашивает он.
Лукреция кивает.
— Я решила, что куница девочка.
— Как думаете, ей хочется уехать из Флоренции в Феррару?
Лукреция поднимает глаза на этого человека, ее мужа, который два года назад нарушил традицию и вместо своего портрета прислал ей картину с куницей, отметил и запомнил любовь Лукреции к животным — к той мышке с розовым носиком! — и подарил ей первую в ее жизни картину.
— Да. Думаю, хочется.
И вот, на ступенях церкви Санта-Мария-Новелла, Альфонсо берет Лукрецию за руку, а лучи солнца освещают их обоих, толпу зевак, каменные плиты пьяццы, зубчатые стены палаццо, улицы, канавы и арки, красные крыши города и все холмы, деревья и поля вокруг.
Выжженная земля
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
Кто-то сидит у ее постели и ласково успокаивает. На лоб ложится рука, отводит волосы, подносит кубок ко рту, и в него льется вода, холодным ручейком скользит внутрь.
— Много не пейте, — просит голос. — Один глоточек.
Неужели София пришла о ней позаботиться, вновь ее спасти? Весть о болезни Лукреции донеслась до дома, София вскочила на коня и поскакала среди ночи по сугробам и льду; София, мстительная вакханка, вмиг позабыла о больных суставах и поехала верхом. Она заявит Альфонсо: Лукреция возвращается домой! Уж София от своего не отступится. И они вместе уедут во Флоренцию… Нет, не туда. В Урбино или в Рим. Поселятся далеко-далеко, в другом регионе или даже стране.
Но София никак не могла приехать. Лукреция и не надеется. Она через силу продирает глаза, щурясь от слепящего солнца.
У кровати сидит всего лишь ее камеристка Эмилия, обтирает губкой ей лоб, разглаживает ладонью свежие простыни.
— Мадам, бедная вы, бедная! Отравились? Выпейте воды, только понемножку, по глоточку, а то опять желудок расстроится.
Эмилия бросает грязное постельное в корзину. Лукреция смотрит на камеристку с тупым удивлением.
— Извините, что вчера не приехала, — продолжает Эмилия. — Мы думали, отправимся следом за вами, но нам запретили. Сказали, погода испортилась, на дорогах стало опасно. Я все переживала, как вы тут одна. Пыталась договориться с конюхом, а он ни в какую, у него был приказ от самого синьора Бальдассаре, ну и…
— Бальдассаре? — повторяет Лукреция. Рот ее пересох и потрескался, как выжженная земля.
— Да, мадам. Он велел слугам оставаться в Ферраре после его отъезда, так что…
— Он тоже поехал?
— Да, на рассвете.
— И куда?
— Сюда, конечно! Его высочество герцог без синьора Бальдассаре не ездит, вот и…
— Бальдассаре здесь?
— Да.
— В этой fortezza?
— Полагаю, что так. Он выехал рано утром с…
— Кто его сопровождал?
Эмилия вытирает пол тряпками, взятыми из-под кровати.
— Ой, дайте подумать…
— Кто? — торопит Лукреция. — Вспомни, Эмилия!
— Всего несколько человек, мадам. Синьор Бальдассаре, приближенные герцога, три стражника, один конюх. Повар отправил большой окорок, и…
— Ты поехала с ними?
— Нет, я же говорила… — Эмилия выжимает тряпку. — Нам не разрешили, а потом я узнала, что скоро отправляется еще одна группа, и тогда…
— Кто знает, что ты здесь, Эмилия?
— Ну, наверное…
Камеристка болтает без умолку, сыплет именами, подолгу все описывает; Лукреция никак не может сосредоточиться. Она пытается уследить за ходом событий, но голова будто набита сухим мелким песком — стоит наклониться, и он потечет из одного угла в другой.
— …так я и выскочила, — продолжает Эмилия, радостно намывая пол. — Вряд ли кто по мне будет скучать. Вам я, наверное, нужнее, вот и не спросила разрешения. Если не спрашивать, тебе и не откажут, правильно?
— Ты кому-нибудь рассказала об отъезде? — прерывает Лукреция поток слов.
— Нет, я же говорю!
— Кто-то видел, как ты выходила?
— Вряд ли. — Эмилия закусывает губу. — А почему вы спрашиваете, мадам? Вы…
— Подумай хорошенько, — настаивает Лукреция. — Клелия? Придворные дамы Нунциаты?
Нахмурившись, Эмилия качает головой.
— Сомневаюсь. Я собрала вещи и сбежала, пока…
— А конюхи? Ни один?
— Как же! — фыркает Эмилия. — Я слышала, они так напились вчера, даже…
— А твоя лошадь? Кто-нибудь заметил, что она пропала?
— Но я ведь уже сказала, мадам. — Эмилия поднимается с пола. — Я не брала лошади из castello. У них была лишняя, вот я и…
— Никто не знает, что ты тут?
— Нет.
— А Бальдассаре? А Его Высочество герцог?
— Нет. — Эмилия озадаченно хмурится, открывает окна и выливает грязную воду из ведра; слышится плеск о стену fortezza. — А почему вы спрашиваете? Вы такая бледная! Снова тошнит? Хотите…
— Некогда объяснять. — Лукреция закрывает глаза, собирается с мыслями. Альфонсо, fortezza, ужин… Бальдассаре выехал на рассвете, Эмилии запретили ехать за Лукрецией… Чем это для нее обернется? Как поступить? — Мне нужно… — Она шарит по кровати в поисках вчерашних набросков, платка, накидки, любого мостика между ночью и невероятным утром. — Мне нужно… — А что ей нужно? Лукреция с трудом приподнимается на подушке. — Я должна…
Эмилия кладет руку ей на плечо.
— Должны лежать спокойно. Отдыхайте. Я схожу к герцогу, расскажу о вашем недомогании, он пошлет за…
— Нет! — Лукреция цепляется за руку Эмилии. — Не ходи вниз! Оставайся в комнате, поняла? Никому не рассказывай, что ты тут! Мне надо подумать, надо…
— Мадам, вам нужен лекарь. Я попрошу…
— Эмилия… — шепчет Лукреция, притянув камеристку к себе. — Эмилия. Послушай. — С чего начать, как все объяснить?.. Не успевает она подумать, как слова сами срываются с ее губ: — Он хочет меня убить.
Лукреция удивляется ничуть не меньше Эмилии. Признание висит в воздухе, как клубы дыма. Тогда Лукреция и осознает: это правда. Она все поняла еще за ужином, однако сама себя убедила — или хитрый Альфонсо ее убедил — что ошиблась. Пора заглянуть истине в глаза. За ней пришла смерть. Уже стучится в дверь, проталкивает пальцы в замочную скважину, хочет протиснуться внутрь.
Эмилия задумчиво глядит на Лукрецию — не кричит и не ахает, только поглаживает по руке.
— Ваша светлость, при жа́ре появляются странные…
— Пожалуйста, выслушай! — сипит Лукреция, одолевая боль в горле. — Поверь мне, прошу! Он меня убьет. Понимаешь? Поэтому и привез сюда совсем одну, без тебя. Чтобы не осталось свидетелей, ясно?
— Мадам. — Эмилия переминается с ноги на ногу, нервно косится на дверь. — Вы немножко не в себе из-за болезни, может…
— Он меня отравил. — Лукреция изо всех сил сжимает ее руку. — Вчера вечером, я точно знаю. То ли олениной, то ли супом, то ли вином… Отравил. Верь мне.
В холодном зимнем свете комнаты по лицу Эмилии пробегает тень. Она смотрит на госпожу, свежевымытый пол, наброски на тумбочке, переводит взгляд на полоску реки за окном. Чуть нахмурившись, оборачивается к Лукреции.
— Не может быть. Герцог — человек чести, он вас любит. Он бы никогда так не поступил. Только не со своей женой! — Эмилия сама себя убеждает, однако слова Лукреции медленно, но верно пускают корни. Она понемногу начинает верить.
— Он же вас любит! — повторяет камеристка, на сей раз шепотом. — Любит, это всем ясно!
Лукреция молча не сводит глаз с Эмилии.
— Да как он мог!.. — восклицает та. — Разве… Кто ж на такое способен?
Она оседает на кровать и сжимает ослабшую руку Лукреции.
— Ох, мадам! Что же нам делать?
«Нам»! Как приятно звучит! Бальзам на измученный разум, лекарство для ноющего, опустошенного тела.
— Не знаю, — отвечает Лукреция, потирая лоб, словно это избавит ее от боли. — Понятия не имею.
Спит человек, правитель почивает
Палаццо, Флоренция, и Delizia[35], город Вогера, 1560 год
Подошел к концу день ее свадьбы; за окном так темно, что даже собственных рук не видно. Середина ночи, солнце давно зашло, экипаж стоит у закрытых ворот палаццо, под аркой. На улице слуги спорят, как ровнее поставить сундук, куда подвинуть мешок, как покрепче перевязать вещи, проверить упряжь.
На коленях Лукреции четки, букетик цветов и шерстяная шаль с гладкой бахромой. На сиденье лежит бархатная подушка с золотыми пуговицами, но деревянная скамья все равно слишком жесткая.
Скворцы на пьяцце оживленно щебечут: наверное, скоро рассвет. Их голоса проникают сквозь плотную пелену тьмы и тяжелые деревянные ворота палаццо. Лукреция думала, что после венчания сразу же уедет с Альфонсо навстречу новой жизни, но нет. Ей никто не сказал, что за церемонией идет бесконечный свадебный пир: длинные столы ломились от жареного мяса и хлеба с зеленью — Лукреция кое-как запихнула в себя несколько кусочков, а затем мужчины ушли смотреть колесничные бега, которые устроил ее отец, а затем, под конец пира, когда Лукреция уже надеялась встать из-за стола, мужчины вернулись, и лица их горели весельем; потом пришли музыканты и начали играть, вбежали акробаты, и nano Морганте затеял драку с одним из них, далее настало время танцев, и Альфонсо пригласил сначала Лукрецию, потом Элеонору, потом Изабеллу, потом опять Лукрецию — она к тому времени вымоталась и даже стоять на ногах не могла, но за ней наблюдали родители и все придворные, поэтому пришлось с улыбкой подать жениху руку, через силу шагать в такт с Альфонсо, держать голову прямо, не снимать с лица учтивой маски, двигаться изящно, однако без манерности, хотя она мечтала лишь об одном — вернуться в спальню, снять тяжелый золотой cintura и забыться сном.
Лукреция сжимает крест на четках, пока его уголки не впиваются ей в кожу, и закутывается в шаль. В экипаже очень сыро и холодно.
Она не успела ускользнуть в детскую и попрощаться с Софией. Как же так?.. Нельзя ведь покинуть ее молча, даже не взглянуть напоследок!
Свободная минутка выпала, только когда Лукреция вернулась к себе в комнату, однако позвать Софию все равно не удалось: сначала явился попрощаться отец и ушел как ни в чем не бывало, словно они встретятся наутро, потом мать велела служанкам поаккуратнее снять с Лукреции свадебное платье:
— Вот так! Нет же, осторожнее! Не тяни, порвешь! Через голову, через голову, я сказала, ты что, не слышишь?
И наконец сине-золотое платье с нее сняли… Какое это было облегчение! Будто солнышко выглянуло после долгого дождя. Можно дышать полной грудью и свободно двигаться. Изабелла стояла рядом, захватив с пира конфету, зевала и рассказывала матери про какую-то гостью на танцах: до чего уродливые у нее были туфли, а знает ли ее муж… Дальше Лукреция потеряла нить повествования. Потом сестра пожелала:
— Удачи, Лукре!
И вышла, позевывая. Лукрецию же не отпустили спать, только затянули в другое платье, красивое лавандово-серое, а мать наущала:
— Во всем слушай Альфонсо, веди себя благочестиво, сближайся только с людьми своего круга, а не с художниками, композиторами, скульпторами и поэтами — говорят, при феррарском дворе их много; следи за внешностью, одевайся согласно положению, ешь хорошо, но знай меру, не бросай музыку, уважай мать и сестер Альфонсо, будь с ними учтива, всегда улыбайся и вставай, когда Альфонсо заходит в комнату.
— Да, мама, — соглашалась Лукреция. — Хорошо, мама.
Мать поцеловала ее напоследок, и Лукрецию проводили вниз, а она думала лишь об одном: они с Софией не попрощались, нельзя же взять и уехать, что она подумает? Что Лукреция позабыла старую няню, небрежно отшвырнула, как собака отшвыривает обглоданную кость?
Лукреция объяснила придворным: ей надо вернуться в детскую! Они только качали головой или делали вид, будто не слышали.
— Мне нужно к Софии! — отчеканила она.
Но лестница уже закончилась, и впереди был внутренний дворик с фонтаном-дельфином, а рядом второй, где стоял экипаж.
Выхода не осталось. Увы. Ее не пустят обратно в детскую даже на минуту.
Она ступила на подножку экипажа, приподняв юбки, оглянулась — как бы убежать наверх, какой придумать повод? — и увидела чьи-то силуэты, но старой няньки среди них не было: это всего лишь конюхи попросили не стоять на холоде, закрыли за ней дверцу экипажа, и она осталась одна взаперти.
Лукреция напирает на ручку — можно обмануть охрану, что забыла наверху кое-какие вещи, и подняться к себе, — однако дверцу внезапно открывают с другой стороны, и Лукреция падает на пол.
— О! — восклицает голос. — Герцогиня лишилась чувств!
Желтый свет заливает пол кареты, обрисовывая темный силуэт.
— Нет-нет! — Лукреция пытается встать, покраснев от смущения. — Все хорошо, я…
— Подать фонарь!
Альфонсо придерживает ее за плечи, а команду отдает взвешенным, повелительным тоном. Голос, который подразумевает — нет, точно знает! — что ему немедленно подчинятся. Отец Лукреции в такой ситуации сорвался бы на крик, внезапно понимает она. Альфонсо же невозмутим и сдержан.
Слуги суетливо выполняют его повеление: приносят фонарь, помогают Лукреции подняться и усаживают на подушки.
Альфонсо, вот уже десять-одиннадцать часов ее муж, встает перед ней на колени. Трогает лоб, берет за запястье, будто проверяет пульс; он никому не позволит ее коснуться. Само его присутствие держит остальных на расстоянии, в нем читается уверенность настоящего герцога. Низким голосом Альфонсо велит:
— Отойдите, не толпитесь. Ей уже лучше.
— Я прекрасно себя чувствую, — объясняет Лукреция. — Нет, правда! Я просто хотела открыть ручку, и тут вы…
— Возьми, — приказывает Альфонсо какому-то слуге в сторонке и передает ему сумку. — Пожалуйста, приготовьтесь к отправлению.
«Пожалуйста»? Интересно… Мать и отец никогда не употребляют этого слова, когда говорят со слугами.
Приподнимая фонарь, Альфонсо наклоняется к ней: свет скользит сначала по его шее, по расстегнутому вороту рубашки, затем по горлу и подбородку, губам, носу, щекам, большим карим глазам, упавшей на лоб пряди.
Они внимательно друг друга разглядывают: Лукреция — Альфонсо, Альфонсо, в свою очередь, — Лукрецию.
Они впервые остались наедине.
— Выдержите поездку? — мягко спрашивает он.
— Да, конечно.
— Вам чего-нибудь принести? Что хотите?
— Ничего, честно!
— Возьмите еды в дорогу. Я заметил, вы почти ни к чему не притронулись за ужином.
На ее колени опускается узелок; вздрогнув от удивления, Лукреция касается его рукой. Под тканью прощупывается холмик хлеба, твердые уголки сыра, мягкая округлость какого-то фрукта — наверное, абрикоса.
— Спасибо.
Альфонсо подносит пальцы Лукреции к губам. Она наблюдает со стороны, будто это не ее рука вовсе. Прикосновение щекочет ей кожу, она ощущает губы, короткую щетину, горячее дыхание.
— Итак… — Альфонсо внимательно смотрит на нее, — раз вам ничего не нужно, можем ехать?
Не дождавшись ответа, он отдает слуге фонарь и распоряжается все подготовить, проверить, надежно ли погружены вещи, велеть открыть ворота.
Потом захлопывает дверцу и садится рядом. Лукреция старается дышать спокойно: вдох, выдох… Ворота медленно открываются. Близится рассвет. Она уезжает. Конюхи натягивают поводья, щелкает кнут. Альфонсо объясняет, что экипаж довезет их чуть дальше границ города, а там они пересядут на лошадей: иначе нельзя, на горной дороге сплошные камни. Отец уже предупреждал об этом Лукрецию, но она молчит, только вслушивается в голос Альфонсо, в его слова, описание горной дороги, красот Апеннин и Паданской равнины — конечной точки их путешествия.
Ворота скрипят, а Лукреция думает: толкнуть бы еще раз дверцу экипажа и прокричать «прощай» всему двору палаццо, белой статуе Давида, зубчатой стене вокруг кампанилы… Нет, решимости не хватает. Кучер присвистывает, вот-вот закрутятся колеса.
И тут — крик со двора:
— Стойте! Подождите! Стойте!
Альфонсо поворачивается на звук. В темноте не видно его лица, но он, конечно, хмурится: ничего подобного он не приказывал.
— Стойте-е-е!
В тот же миг распахивается дверца, а за ней стоит София; поверх ночной рубашки накинута шаль, волосы заплетены в косу. Лицо красное, грустное, глаза блестят от слез. Няня протягивает Лукреции руку, и та сразу ее сжимает. София забирается в экипаж, стискивает Лукрецию в отчаянных объятиях.
— Прощай, маленькая Лукре, прощай! — приговаривает она. — Пусть он будет тебе добрым мужем. Помни, ты заслуживаешь лучшего! — Из складок шали она достает нечто твердое и плоское, сует в руки Лукреции. — Ты оставила в детской. Я подумала…
— Это тебе, — выдавливает Лукреция и возвращает няне миниатюру. — На память, бери.
София кивает, тесно прижавшись щекой к щеке Лукреции, будто хочет впитать в себя хоть частичку своей маленькой подопечной.
— Живи долго, — горячо шепчет она в волосы девочки, — и счастливо.
Потом отстраняется и рассматривает Альфонсо, пристально и строго. Няня вот-вот откроет рот и что-нибудь ему скажет. Впрочем, нет, это лишнее. Она изучила его одним взглядом, как ученый — манускрипт.
И ушла.
Дверца закрывается, кучер щелкает кнутом, лошади пускаются в путь, экипаж выезжает из арочного прохода на опустевшую пьяццу, Альфонсо спрашивает, что это была за женщина, и лишь тогда Лукреция осознает: София впервые заговорила с ней на неаполитанском диалекте, а значит, она давно знала, что Лукреция его понимает…
— Что она хотела вам отдать? — спрашивает Альфонсо. Экипаж едет по городу; мимо скачет батальон отца, и цокот сотни копыт отдается в ушах.
Лукреция опять сжимает четки и вспоминает маленькую картину, над которой работала неделями: посреди ковра стоит ее няня и дерзко смотрит на высокого советника. У ее ног резвятся веселые зайцы, их серебристо-коричневые шубки блестят в отблесках свечей. Если присмотреться повнимательнее, то заметно, что пальцы няни скрещены за спиной. Лукреция написала эту картину в подарок Софии, хранительнице всех своих тайн.
— Ничего, — отвечает она.
Экипаж катит по опустевшей Флоренции. Лукреция прижимается к щели в дверце и глядит, как в тусклом свете мелькают дома, окна, ставни, маленькие площади, поилки, мосты, деревянные ворота церкви, спящий на крыльце пес, слабо горящий фонарь на чьем-то балконе… Папин город во власти сна.
Стены отбрасывают на улицы черные тени, лошади скользят под низкими проходами, и только по секундной темноте можно понять, что экипаж под аркой, и тотчас опять становится светло; Лукреция переплетает пальцы — свадебные кольца давят на них непривычным грузом.
Она думает о мужчине, что сидит рядом, откинувшись на подушки, а еще об узелке с едой, который он ей принес, а еще о картине с куницей, вчерашних танцах и музыке. Мысли путаются, в голове мелькают образы: сначала синий шелк, потом перевязанные лентой лилии, следом — горстка острых шпилек, движения кисти по бумаге, фонарь на балконе, тихая река посреди плодородной зеленой равнины…
Просыпается Лукреция многим позже, уже одна; пуговицы на подушке больно впиваются ей в шею. Яркий луч солнца проникает в экипаж через открытую дверцу. На улице кто-то тихо переговаривается, поют птицы, лошади щиплют траву.
— Альфонсо? — робко зовет Лукреция. Можно ли так запросто к нему обращаться? — Ваше высочество? — пробует она чуть громче.
Удивленное восклицание, стук шагов по камням — и перед ней появляется стражник, одетый не в красную ливрею отцовских солдат, а в серебристо-зеленый камзол. Стражник кланяется, что-то объясняя на незнакомом языке, и протягивает Лукреции руку. Судя по всему, ей нужно выйти из экипажа.
Она берет руку стражника, пока тот бойко лопочет на феррарском диалекте — а на каком еще? — и спускается.
Дорога здесь размыта прозрачным ручьем, лошади жадно пьют из него, позвякивая сбруей. Впереди раскинулись горы, череда вершин и склонов холодно лиловеет на фоне зимнего неба. Воздух постепенно наполняется дневным теплом. Фигура Лукреции отбрасывает на землю короткую тень — маленькую версию ее самой. От влажных камней у берега поднимается пар; птица с синей полоской на крыле выписывает узкие круги над водной гладью.
У экипажа стоят стражники и слуги, все до одного в серебристом и зеленом. Они оживленно переговариваются, кланяются перед Лукрецией и поглядывают на нее с любопытством, даже с радостью. Некоторые держат сундуки и сумки — похоже, с ее вещами. Она улыбается слугам и стражникам, приветливо склонив голову, и те жестом подзывают ее.
— Альфонсо? — На всякий случай она держит руку на дверце папиной кареты. — Герцог?
Слуги довольно кивают и знаками просят подойти.
— Его Высочество? Феррара?
«Да-да, — говорят их жесты. — Феррара, точно. Идите за нами, сюда!»
Альфонсо куда-то пропал. Лукреция оглядывается, поворачивается кругом. Навстречу ей идет стражник, ведет в поводьях лошадь цвета свежих сливок. С ее боков свисают две седельные сумки. Наверное, феррарский двор послал ей послушную кобылку в дорогу, потому что отцовских солдат нигде не видно, а его экипаж разворачивается обратно во Флоренцию без Лукреции.
Она переминается с ноги на ногу. Непонятно, как себя вести. Ни мамины советы, ни уроки Софии, ни школа не готовили ее к такому повороту событий. Ее бросили на дороге с людьми, которые говорят на чужом языке! Где Альфонсо? Как он мог взять и уехать один?
Светлая лошадка высокая, не так-то просто будет на нее забраться.
Сесть бы обратно в карету да вернуться домой!.. Конечно, ничего не выйдет. Лукреция окидывает взглядом знакомые сумки на земле, извилистый ручеек, оживленные лица слуг, их зеленую форму, уздечку лошади, расписанную грифонами и орлами.
— Феррара? — повторяет Лукреция волшебное слово, которое понимают все.
— Феррара! — кричат в ответ. — Феррара! — И снова яростно кивают, подзывают Лукрецию.
Один слуга выскакивает ей навстречу и куда-то ведет. Хлопнув в ладони, он повторяет какое-то слово, и тогда из-за угла экипажа выходит девушка. Поначалу Лукреция ее не узнает: кто это, родственница Альфонсо? Наверное, сестра? Решила составить ей компанию в поездке? Ее походка, коричневое платье и фартук чем-то неуловимо знакомы. Боже, так это ведь служанка из палаццо! Та, со шрамом!
— Ты, — выдавливает Лукреция. Как странно видеть ее здесь, в заброшенном уголке у Апеннинских гор.
— Ваша светлость, — приветствует девушка, отвесив поклон.
— Что ты тут делаешь?
— Я отправляюсь в Феррару, госпожа.
— Правда?
— Да, с вами, — почтительно добавляет служанка, потупив глаза.
— Кто тебе велел?
— Ваш папенька, госпожа.
Лукреция оглядывается. И слуги, и лошадь не отрываясь смотрят на нее, и она отворачивается.
— Как тебя зовут?
— Мать окрестила меня Эмилией, госпожа.
— Эмилия, — повторяет Лукреция. Приятно говорить на тосканском диалекте, родные слова так и льются. — Ты знаешь, где герцог?
Эмилия переминается с ноги на ногу и показывает в сторону гор.
— Он… — Лукреция умолкает. Почему Альфонсо бросил ее одну? — …поехал дальше?
— Да, госпожа. Очень торопился. Думаю, ко двору.
— А почему, не знаешь?
Замешкавшись, служанка отвечает:
— Ему передали письмо… — шепчет она, и Лукреция невольно пододвигается ближе, хотя их явно никто не понимает. — С холмов примчался гонец, очень беспокойный. Герцог прочел письмо и…
— И?..
— Не хочу показаться грубой, мадам, но он… — Эмилия подбирает нужные слова: — Рассердился.
— Из-за письма?
— Да. Он швырнул перчатки на землю, а потом… — Служанка снова умолкает. — Может, мне послышалось, но он обругал…
— Кого?
— Свою мать, госпожа, — потупившись, договаривает Эмилия.
Лукреция молча смотрит на служанку и кивает. Надо подумать, надо разобраться и ничем не выдать своих мыслей слугам, ибо они всегда сплетничают между собой. Несмотря на усталость, ей ясно, что своим поступком муж выказал ей неуважение, и множество глаз сейчас за ней следят; все гадают, как она себя поведет. Лукреция прячет взгляд, рассматривает дорожное платье, ноги в тонких кожаных туфельках на каменистой дороге, крепко сжатые ладони. «Его мать, мои ноги, гонец, ругательство… — мелькает у нее в голове. — Послушная кобылка, перчатки на земле, я совсем вымоталась, его мать…» Она встряхивает головой, прижимает пальцы к вискам. Думай, думай… Мать Альфонсо наделала феррарскому двору много бед, потому что… Что там рассказывал отец?..
…Она родилась во Франции, исповедовала протестантизм, но ради герцога отреклась от веры. Да, точно! А потом? На этом история не заканчивалась. Отец объяснял, а Лукреция слушала вполуха, разглядывала тайком диковинки и сокровища на полках: нечасто можно было попасть в святая святых — отцовский кабинет. Ах да! Несколько лет назад выяснилось, что мать Альфонсо посещала протестантскую мессу, водилась со сторонниками протестантизма.
— И в наказание, — добавил отец, к изумлению Лукреции, — герцог отнял у жены детей и заключил ее в темницу где-то в castello. — Отец пригрозил Лукреции пальцем и в шутку предупредил: — Так что смотри в оба, Лукре!
Они посмеялись вместе, а свита их слушала. Потом эта история не давала Лукреции покоя. Вопросов было больше, чем ответов. Как можно посадить собственную жену в темницу? Неужели дети герцогини не страдали от разлуки с матерью? Отец успокоил Лукрецию: герцогиню уже выпустили, потому что она поклялась навсегда порвать с протестантизмом, но вся эта ситуация казалась совершенно непостижимой. Как с герцогиней, предшественницей Лукреции, могло такое случиться? И как теперь ее приветствовать? Сделать вид, будто ничего не знаешь о ее религиозном протесте и заточении? А самое главное: что же было в письме, почему Альфонсо уехал, бросив Лукрецию одну?..
— Его высочество велел вас не будить, — нарушает молчание Эмилия. — Сказал, вам надо выспаться. Просил вам передать, что разберется с делами при дворе и встретит вас на вилле.
— На вилле?
Служанка закусывает губу и умоляюще смотрит на госпожу.
— Да, мадам.
— Но мы едем в castello, в Феррару! — срывается на крик Лукреция. Отец ведь ей обещал, не мог же он соврать! — Сначала будет официальный entrata[36] в город, затем его мать и сестры встретят меня и menare a casa[37], потому что…
Девушка качает головой.
— Простите, ваша светлость. Мне очень жаль. Его высочество герцог решил, что вы поедете в delizia, загородную виллу. — Эмилия показывает на сливочно-белую кобылку. — Его высочество выбрал для вас лошадь. А еще у меня ваша картина.
Служанка держит в руке продолговатый сверток, который Лукреция сама перевязала в родном палаццо, спрятав куницу-белодушку под слоями ткани.
Дальше поездка по горам походит на сон — мимолетное, эфемерное событие, словно из другой жизни.
Следующие недели образы и впечатления будут являться к Лукреции непрошеными гостями. За письмом ли, за разговором с придворными — ее не оставят воспоминания о седле, его скрипучей коже, ямках на шее кобылки, за которые Лукреция держалась, о мерном стуке копыт по горной дороге. За ужином, перед тарелкой жареной свинины на ложе из артишоков, в голове промелькнет корочка хлеба, съеденная за камнем на ветреном перевале, пока стражники разминались и дули на озябшие руки. А в постели, когда Эмилия будет встряхивать и складывать одежду, она станет воскрешать в памяти, как через несколько часов езды Лукреция попросила посадить Эмилию на свою лошадь, и они ехали вдвоем весь остаток пути — госпожа и служанка; Эмилия держалась за талию Лукреции, и ее пальцы дрожали от страха. Оказалось, уснуть (или хотя бы задремать) на скаку ничуть не трудно. Едешь себе, поводья твоей лошади придерживает конюх, голова твоя медленно наклоняется и ты думаешь: «Закрою глаза на минуточку», а потом раз! — поднимаешь голову, а солнце уже скрылось за скалами, деревья укутались в шали тьмы, а ночное небо вас всех накрыло, как перевернутая миска.
Днем путешествие по Апеннинским горам продолжается. Лукреция держится за луку седла, Эмилия — за нее, а куница-белодушка спрятана в седельной сумке. Лукреция не раз рисовала горы, но только в миниатюре, на заднем фоне — для правильной художественной перспективы и композиции. Вблизи она их никогда не видела, никогда по ним не ездила и не подозревала: то, что издали кажется зеленым или серым, на поверку состоит из многообразия цветов и текстур: густой черно-коричневой глины, сочной зеленой хвои, дрожащей на ветру листвы с серебристыми «спинками», серых камней, рыжеватой воды из луж, откуда пьют лошади.
Эмилия сидит за спиной Лукреции, стучит зубами — то ли от страха, то ли от холода — и лихорадочно шепчет молитвы.
— Не бойся, — твердит Лукреция.
— Хорошо, мадам, — отвечает она.
Но вот они спускаются с гор, и их вновь накрывает темнота; Флоренция остается далеко-далеко позади, а впереди — вилла, где то ли ждет, то ли не ждет Лукрецию Альфонсо. Теперь уже не Эмилию, а Лукрецию подводит мужество. Где Альфонсо? Как можно бросить жену посреди дороги?
Пока лошади отдыхают, Лукреции дают сыр и сухую лепешку с кусочками оливок. Наконец, слуга жестами показывает, что пора продолжить путь, и в душу Лукреции закрадывается страх.
— Феррара, — опять говорит она, с трудом поднявшись, и слуги радостно кивают в ответ. — Его высочество? Герцог?
Они отзываются целым потоком слов, различимы в нем только «Феррара», «delizia», «герцог» и еще одно — то ли «сад», то ли «игра».
Лукреция берет Эмилию за руку, и служанка стискивает ее пальцы в ответ. Так они и стоят, взявшись за руки, перед людьми Альфонсо. «А ведь мы похожи, — замечает Лукреция про себя, — и волосами, и ростом». Одень их одинаково или накинь на обеих мантии, и не различишь со спины, кто есть кто. Однако Лукрецию это открытие ничуть не успокаивает, даже наоборот: это весьма странно, опять судьба расставляет ей непонятную ловушку.
— Что думаешь? — шепчет Лукреция.
— Здесь оставаться нельзя, — отвечает Эмилия. — Уже темнеет.
— Знать бы наверняка, что они отвезут нас к герцогу…
— Феррара? — в очередной раз спрашивает Эмилия громким голосом.
Да, да, кричат слуги в ответ, знакомое всем слово возвращается эхом. Они показывают на лошадь, чья грива сияет в сумерках, подобно белому мрамору. Лукреция идет к лошади, не выпуская руки Эмилии.
Лукреция теперь герцогиня, ей и решать.
— Поедем. Иного выхода нет.
Она ставит ногу в стремя. Слуги рвутся помочь, но она сама устраивается в седле и помогает Эмилии. Та ворчит, но Лукреция уже направляет лошадь в нужную сторону, бьет пятками по бокам и продолжает путь.
Ночь сгущается, темнеет, словно с неба льют черную краску. По обе стороны широкой дороги стоят бесконечные ряды фруктовых деревьев. Сначала были различимы ветви, тяжелые от округлых плодов — скорее всего, персиков, — и силуэты лимонов, похожих издалека на слезинки. Теперь же не видно ничего. Слуги в конце процессии окликают тех, кто впереди, они отзываются, и голоса стрелами проносятся мимо Лукреции. Влажное дыхание Эмилии и ее руки на талии хоть немного, но успокаивают. Вопреки всему Лукреция надеется: вот-вот из тьмы покажется арка — допустим, каменная, с факелами на стенах, — а за ней будут открытые ворота, залитые яркими отблесками свечей. А внутри ее ждут кровать, своя комната, ужин и теплая одежда.
Увы, они сворачивают на другую дорогу, поуже, и теперь рядом нет фруктовых деревьев, только молодые посевы шелестят и шепчутся на ветру; временами мелькнет черная крыша за оградой, и сердце Лукреции екает. Но нет, они проезжают мимо, да и сразу понятно, что родовитому герцогу не место в таком маленьком домишке.
И вдруг слуги разом сворачивают с дороги, обрамленной с обеих сторон кипарисами, и Лукреция понимает: сейчас решится ее судьба. Их с Эмилией схватят, надругаются над ними, похитят. Ей уже все равно, где Альфонсо, увидятся ли они вновь. Пришел коне…
Перед ними арка, открытые ворота, и люди с факелами подзывают всадников.
Чьи-то руки помогают Лукреции спешиться, потом ведут по внутреннему двору, и двое мужчин в простой одежде провожают ее вверх по лестнице в комнату, объясняя что-то на чужом языке. Они зажигают свечу на низеньком столе и уходят, непонятно улыбаясь.
Лукреция с Эмилией проходят в покои: в одной руке служанка несет свечу, а другой держится за руку Лукреции. Спальня похожа на темную пещеру, в каждом углу которой затаилось неведомое чудовище. Слабое пламя безуспешно борется с ночным мраком. Из глубин души Лукреции поднимается таинственная мощь — наверное, сила духа: необузданная сторона, сокрытая ото всех, даже от самой Лукреции, спрятанная под складками дорогих платьев и погруженная в спячку, покуда не придет ее час. И тогда эта сила оживает, выползает на свет, щурясь и щетинясь, стискивает грязные кулаки, скалит алую зубастую пасть. Мгла незнакомой комнаты пробудила эту непостижимую мощь, она всколыхнулась и теперь с воем поднимает голову.
Лукреция храбро задирает подбородок, вырывает свечу из рук Эмилии, сама осматривает спальню. «Внутри меня зверь, сильный и смелый», — мысленно приговаривает девушка, заглушая перепуганный стук сердца. Пусть нечисть в углах знает, кому бросила вызов! Лукреция — пятый ребенок правителя Тосканы, она гладила тигрицу, она добралась сюда по горным хребтам. Вот тебе, ужасная темнота!
Стены спальни, покрашенные бледной темперой[38], едва видны в сумраке. Высокий сводчатый потолок изобилует фресками: мужчина с густой бородой и ярким посохом мчится на колеснице сквозь жемчужные грозовые тучи, подле резвятся в водопаде дриады в полупрозрачных одеждах, в углу потолка рыжеволосая богиня с рассыпанными по плечам кудрями изящным движением руки создает переливчатую радугу.
Эмилия показывает в правый угол.
В полумраке виднеется нечто квадратное. Лукреция всматривается в таинственный предмет. Большой, выше ее. Длинное плоское основание, сверху чем-то накрыто. Совсем вымотанная, перепуганная, она даже не понимает, на что глядит. «Ящик, — шипит ей встревоженный разум. — Клетка!»
Трепещущий свет свечи падает на загадочный квадрат… Лукреция нервно смеется, рассмотрев его как следует.
Кровать! Ну конечно! Чего еще ожидать в спальне? Всего лишь кровать, а на ней — пухлые подушки, набитые гусиным пером, покрывало из нежного розового шелка, тяжелые пологи, перевязанные золотыми шнурами.
Такая знакомая, родная вещь и вовсе не страшная; девушки заливаются смехом и сжимают друг друга в объятиях, как сговорившись.
— А я-то думала… — задыхается Лукреция.
— Знаю! — перебивает служанка.
— Клетка!
Обе хохочут. Тут Эмилия вспоминает о своем положении, отходит от госпожи, развязывает корсет ее дорожного платья.
Лукреция мечтает поскорее лечь в уютную постель. Поставив свечу на столик, она поднимает руки, чтобы помочь Эмилии стянуть платье. Служанка запирает комнату изнутри большим железным ключом; обе девушки слышат щелчок замка.
Они в безопасности. Наконец-то!
Лукреция протяжно выдыхает, словно не давала себе воли с самой Флоренции. И рушится на кровать. Накатывает нестерпимая усталость, нет сил даже накрыть ноги одеялом, но Лукреция перебарывает лень. Подушка проваливается под головой, перья еле слышно потрескивают.
Эмилия бродит по комнате, собирает с пола одежду и кладет на стул. Лукреция закрывает глаза, и тут же перед ними проносятся образы: волнистая лошадиная грива, ряды деревьев у дороги, холодный горный ветер. Сонливость как рукой снимает.
Эмилия укладывается у ножек кровати, накрывшись плащом и подложив свои туфли вместо подушки.
— Эмилия!
— Да, ваша светлость? — поднимает голову служанка.
— Ты не можешь там спать.
— Нет, все в порядке, я…
— Ложись сюда. — Лукреция похлопывает по месту рядом с собой.
— Нет, мадам, негоже это. Не тревожьтесь, мне…
— Эмилия, пожалуйста! Тут… Комната очень большая, а я… все равно не усну. Прошу тебя. Мне страшно одной.
Эмилия встает и на цыпочках подходит к кровати. Матрас чуть проминается, когда служанка ложится в постель.
Лукреция задувает свечу.
— Спокойной ночи, — шепчет она в спину Эмилии.
Глубокая ночь. За окном то непонятный шорох, то уханье лесных птиц, то внезапные вскрики. Наверное, мелкий зверек угодил в лапы хищника. Служанка мерно дышит во сне, а вот ей, Лукреции, не спится. Какой тут сон?
И все же он приходит. Лукреция внезапно падает, словно с башни, в глубокое и полное забытье. Во сне кажется, будто ночной лес подступает к стенам виллы, окружает ее обитателей густой зеленью, кипучей жизнью, вплетает в их грезы треск ветвей, обильный лишайник, хрупкие побеги листвы в паутине прожилок. Насыщенный резким глинистым ароматом воздух проникает в дремлющие легкие.
Лукреция спит, когда из зарослей выпрыгивает олень, тихо скачет к аллее близ виллы и вскидывает голову на шорох фрукта, упавшего с ветки в траву. Спит, когда вепри расталкивают колючие кусты щетинистыми, толстыми боками, обнюхивают землю пушистыми рыльцами. Спит, когда ранние пташки расправляют крылья, а дикобраз, посапывая, семенит по своей тайной тропинке из сосновых иголок; когда просыпаются слуги, подбрасывают хворост в печь, высекают искры кремнем, ставят на огонь горшки, добавляют дрожжи в муку. Спит, когда крестьяне одеваются, нахлобучивают соломенные шляпы, идут в поле. Спит, когда мальчишек-слуг в таверне посылают к колодцу за водой, долину освещают еще робкие лучи солнца и приходит тепло.
Она отсыпается после долгой подготовки к свадьбе, причесывания волос, платья на кровати. Отсыпается после мессы, пира, танцев, акробатов. Отсыпается после прощания с родителями, равнодушной сестрой, Софией. После двух бессонных ночей. После долгих, тревожных месяцев перед свадьбой. После поездки с Альфонсо по Флоренции, после его исчезновения, после подъема по Апеннинским горам, после спуска с другой стороны долины. Она спит, спит и спит, и крепкий сон, как обычно, развеивает все печали.
На вилле готовят завтрак, потом съедают. Полы вымыты, окна открыты настежь, столы протерты, собаки выпущены на улицу, хлеб испечен, съеден, снова испечен, крытые галереи подметены, ручки отполированы. Полдник приготовлен, съеден, посуда убрана со стола. Тарелки вымыты, высушены, поставлены в шкаф. Собаки дремлют в теньке, уткнувшись носами в пол, крестьяне спасаются от жары под деревьями, в блаженной прохладе своих домов. Слуги сидят на стульях, если находятся свободные; повариха кладет уставшие ноги на бочонок.
Когда Лукреция просыпается, комната залита медовым светом. Все вокруг отполировано, окрашено теплым, многоцветным сиянием: и пологи, и золотистые шнуры на них, и сундук у двери, и стол с вазой желтых роз, и два кресла по обе стороны камина, и резные дриады, что танцуют и гоняются друг за другом на дверном косяке. Лукреция лежит и вбирает в себя окружающее.
Похоже, на рассвете она отправилась в путешествие, покинула спальню — зловещую темную пещеру — и по волшебству перенеслась в светлый, теплый и прекрасный уголок. Эмилии не видно, ее сторона кровати гладкая, подушка взбита, словно никто и не лежал. Подхваченные зефирами, на лепном потолке парят небесные создания с лирами и трубами. Нептун стоит на страже над дверным проемом, держа в руке оплетенный водорослями трезубец; борода повелителя морей блестит от влаги, а пенистые волны накрывают его по бедра. И только златоволосая Ирис, богиня радуги, подтверждает: никакой дух Лукрецию не похищал, она в той же комнате.
Она привстает, медленно потягивается. Который час? За окном стрекочут цикады, в животе пусто. Сквозь щели ставней проникает жар, но вряд ли перевалило за полдень. Или перевалило? Лукреция никогда еще не спала так долго.
Она хочет сбросить одеяло и встать, но тут раздается стук в дверь. Сейчас еще утро — наверное, это служанка (скорее всего, Эмилия) принесла ей завтрак и одежду, вот Лукреция и отвечает:
— Входи.
Дверь открывается, и в комнату заходит мужчина. От изумления Лукреция не сразу вспоминает, как его зовут; лишь погодя разум подсказывает: это герцог Феррары. Да, это Альфонсо, непохожий на себя с завязанными в хвост волосами, и короткие пышные рукава смотрятся непривычно, колышутся от его шагов.
— В-ваше высочество… — Лукреция привстает, ищет рукой шаль или мантию. Чем же прикрыться? Кроме сестер и матери, она никому никогда не показывалась в ночной сорочке. — Это вы! Я не знала… понимаете… я… Позвольте…
Он подходит к ней и преспокойно садится на кровать. Матрас вздрагивает и продавливается под его весом.
— Ваше высочество? — удивляется Альфонсо. — Так и будем друг друга называть?
— Я… — Лукреция завязывает ленты на горлышке сорочки. — Видите ли, меня всегда учили…
— Забудьте, чему вас учили, — отмахивается он. — Вы же знаете, мое имя — Альфонсо, именно так меня зовут друзья и семья. Те, кто меня любит. Надеюсь, вы тоже в их числе.
Молчание. Альфонсо выжидающе приподнимает брови. Смысл его слов ускользает от Лукреции. Это вопрос? Он правда пододвигается ближе или просто воображение разыгралось?
— Позволите?
— Что позволю? — теряется она. Ей только одного и хочется: узнать, что случилось при дворе и почему Альфонсо бросил ее на дороге. Он ведь говорил об именах? Тогда при чем здесь позволения?
— Назвать вас в числе тех, кто меня любит.
Лукреция молча на него смотрит. Она совсем одна с этим незнакомцем в развязанной рубашке. Под влажной от пота кожей его груди видны мускулы; костяшки у Альфонсо широкие, пальцы длинные, элегантные, но сильные, ногти подстрижены опрятными полумесяцами. И не скажешь, что ему сообщили дурную весть! От него пахнет потом, жаром, улицей, вдобавок овощами и чем-то свежим, вроде листьев, или коры, или сока трав. Запах сильный — и приятный, и противный. Хочется и вдохнуть его посильнее, и отпрянуть, с головой накрыться одеялом, сплести кокон из ткани и навсегда в нем исчезнуть.
Он повторяет вопрос. Надо ответить, того требуют приличия. В мыслях проносятся мамины уроки хороших манер и этикета: на любой вопрос отвечай сразу, не заставляй собеседника ждать, говори приятным тоном, с улыбкой, если потребуется — соглашайся.
— Да, — кивает Лукреция. — Разумеется. — Она едва не добавляет «ваше высочество», но вовремя спохватывается.
Он улыбается игриво, фамильярно; в глазах — огонек скрытой радости. Лукреция отчетливо ощущает: он или испытывает ее, или попросту забавляется.
— Отлично, — отрывисто кивает герцог.
А потом приближается к ней, касается коленом ее бедра, накрытого одеялом. Ужасная мысль, которую Лукреция подавляла с самого приезда, как ядовитый цветок распускает свои лепестки.
Альфонсо возьмет ее здесь и сейчас. Всем существом она боялась этого ужасного акта еще с того дня, когда рисовала скворца под взглядом Вителли. Альфонсо ждал ее пробуждения, и вот теперь пришло время.
Мгновенно пересохшее горло перехватывает, сглотнуть не получается. Когда Лукреция в последний раз пила? Кажется, прошлой ночью, на привале у подножия гор. Много-много часов назад, и не сосчитать.
Альфонсо говорит, что пришел пожелать доброго утра. Он ходил гулять с наместником, потом устроил поединок на мечах со своим другом Леонелло… Кстати, Леонелло сопровождал Альфонсо во Флоренцию. Возможно, Альфонсо представит его Лукреции за ужином. Леонелло горячо желает с ней познакомиться.
Желает… Слово обрушивается градом. Оно схоже с «желанием» — именно это мужчины испытывают к женщинам, этого ждут после свадьбы; церковь позволяет такие отношения между супругами, хотя иметь их вне брака — смертный грех; Лукреция не раз замечала, как мужчины при дворе и на пирах смотрят вслед женщинам. Ей знакомо это выражение: полумечтательное, полурешительное, взгляд рассеянный, однако пристальный, веки потяжелевшие, рот приоткрыт, будто на языке тает сахар. Теперь этот мужчина смотрит так же. Ее муж. Альфонсо. Он думает, она в числе тех, кто его любит…
«“Желает”, — лихорадочно твердит про себя Лукреция. — Однокоренное с…»
— У вас чудесный цвет волос, очень редкий. — Альфонсо разглядывает ее косу, будто проверяет на подлинность. — Выспались? Отдохнули?
Опять вопрос. На сей раз легкий.
— Да.
— Долго вы спали.
— Извините, я…
— Не стоит извиняться! Я попросил не беспокоить вас. Хотел, чтобы вы набрались сил. Для того мой прадед и построил виллу — отдохнуть от испытаний и забот в кругу семьи. А вы теперь в нее входите.
Он ждет ответа. Что тут скажешь? Лукреция только кивает.
— Да.
Он поглаживает ее косу, подносит к глазам, выпрямляет, будто хочет измерить. Корни волос немного тянет; Лукреция вынуждена сесть прямее, наклониться к Альфонсо.
— При дворе… — она ищет нужные слова: — …все хорошо?
— О да, — отвечает муж. — Конечно.
— Я волновалась, ведь… — Она умолкает в надежде, что он поймет все сам, успокоит. А может, объяснит, что случилось с его матерью.
Альфонсо наклоняет голову набок.
— Волновались? Почему?
— Вы уехали… — Лукреция запинается, не найдя в лице мужа ничего, кроме вежливого недоумения. Может, Эмилия сказала неправду и мать Альфонсо тут ни при чем? Вдруг его вызвали совсем по другому вопросу, а она ставит себя в глупое положение? — Вы уехали, вот я и…
Альфонсо улыбается, будто она ничего и не говорила.
— Вы сегодня другая, — замечает он, не выпуская косы.
Лукреция не сможет отодвинуться, даже если захочет.
— Правда? — Ее охватывает дрожь. Хоть бы он не заметил, не почувствовал по трепету косы!
Альфонсо кивает:
— Да. Вчера вы были такая бледная, прямо белая голубка. А сейчас розовенькая и красивая. Чистый ангел, а волосы!.. Я и не знал, до чего они длинные. Очень рад, что отдал вам эту комнату.
— Спасибо, — шелестит Лукреция.
— Ангелы на небе… — он показывает на потолочные фрески свободной рукой, — …и ангел на земле.
Его ладонь скользит от косы к щеке; он мягко приподнимает лицо Лукреции к свету. Та крепко сжимает зубы, чтобы не клацали. Она никогда не сидела так близко ни с одним мужчиной: ни со священником, ни с двоюродными братьями, ни со слугой. Никому не дозволялось ее коснуться. В ноздри проникает запах тела, потного после фехтования, аромат полей и леса, где Альфонсо гулял. Его ладонь на щеке тверда, непреклонна, давит своим жаром на ее скулы.
А она ждет, натянув одеяло до груди. Нептун бесстрастно взирает на них со стены, морская вода капает с его трезубца.
— Обязательно закажем ваш портрет, — решает Альфонсо; слова слетают с его губ, маленькими волнами воздуха разбиваются о щеки. — Придворные художники будут вызываться наперебой! Для каждого это большая честь. Сама краска станет вашей поклонницей. — Он изучает взглядом ее брови, глаза, подбородок. — Портрет… или сцену из мифа, а героиню напишут с вас. Хм-м…
Похоже, герцог рассуждает вслух. Лукреция решает промолчать.
— Как-то раз мои люди попросили вашего отца прислать ваш портрет. И тогда… — Альфонсо задумчиво покачивает головой, — …он отправил портрет маслом в красивой рамке. Кажется, то была копия, выполненная подмастерьем, а оригинал хранился в кабинете вашего батюшки. На картине вы в черном платье, жемчужном ожерелье, и рука у вас поднята вот так. И фон немного мрачный. Помните?
Лукреция кивает. Ужасная копия портрета, которую она терпеть не может. Да и оригинал мастера Бронзино не удался, хоть она и позировала по многу часов, несмотря на боль в поднятой руке, затекшей спине и шее. Лукреция сама себя не узнает на этой картине, даже смотреть на портрет ей неприятно.
Пытливый взгляд Альфонсо проникает в мысли Лукреции; он читает в ней, как в раскрытой книге.
— Знаете, что я подумал, увидев этот портрет?
Она качает головой.
— Я сказал: «Быть не может. Наверное, это другая девушка! Или она тяжело болела после дня нашего знакомства, или виноват портрет».
От удивления Лукреция прыскает и тут же прикрывает рот ладонью.
— Я его ненавижу, — шепчет она. Как приятно сказать это вслух!
Альфонсо добродушно усмехается.
— Правда?
— И оригинал тоже! Он немногим лучше копии. Я там желтушная и унылая, а…
— …а на деле вы ничуть не такая. Почему ваш отец не потребовал новую картину?
Как ему ответить, как выразить в нескольких словах всю неприглядную правду? «Отцу безразлично»? «Его не заботит, достигнуто ли сходство»? Оригинал портрета висит в пустом углу палаццо, никому не интересный, заброшенный. У братьев и сестер по два-три портрета на каждого — и детских, и посвежее, а ей сказали, что она непоседа и не сможет долго позировать, и потому портрет с нее писали только один, причем в унизительной спешке, сразу после помолвки. Старая рана тупой болью отзывается в груди.
— Я отправил бы такую работу обратно в мастерскую. Ваших родителей не волнует точность изображения?
— О нет! — восклицает Лукреция. — Волнует! Моих сестер несколько раз писали еще девочками, а потом уже взрослыми. У моего брата Джованни еще в годик был свой портрет! Возможно, вы их видели у отца в кабинете. Мама дважды позировала с братьями для Бронзино, а отец…
— Получается, вас рисовали только раз?
Вопрос ранит ее осколком стекла, и внимательные глаза Альфонсо с необычайно широкими зрачками это замечают. Да, наверняка. Он уже знает ответ, улавливает глубинную суть во всей ее сложности.
— Только раз, — шепчет Лукреция.
Альфонсо кладет ладони на ее щеки.
— Уму непостижимо, — доверительным голосом отзывается он. — Верх глупости! Подождите немного, мы все наверстаем. Вас напишет настоящий мастер, лучший придворный художник. И если хоть малейшая деталь будет далека от совершенства, картину переделают.
Лукреция поражена. Он назвал решение отца «глупостью»? Посмел сказать такое о великом герцоге Козимо Первом? Критиковал его выбор?
— Отлично, — выдавливает она.
— Вы боитесь. — Альфонсо проводит пальцем по ее щеке.
— Нет-нет…
— Боитесь меня.
— Ничуть!
— Не спорьте. Не надо бояться. Я не обижу. Обещаю. Верите мне?
— Я…
Он с минуту глядит на нее, затем поясняет:
— Я не лягу с вами в постель. Понимаете? Я не животное. Никогда не принуждал женщин, и никогда не стану. Вам нечего страшиться. Не будем торопить события. А пока вставайте, я пошлю за служанкой. Поешьте, ладно? А потом осмотритесь на вилле, полюбуйтесь видами.
Внезапно отпустив ее, Альфонсо идет к окну и распахивает ставни.
— Только взгляните на солнце! — восклицает он. — Так и зовет на прогулку. Все вокруг сияет!
Альфонсо уверенно идет к двери, полы его рубашки развеваются; потом он вдруг спохватывается и возвращается к постели Лукреции. Склонившись над ней, кладет руку ей на шею, прижимается к ней губами — мимолетно, однако настойчиво. Так отец ставит на письма печать — знак принадлежности его двору.
Она гуляет в мягких туфлях и струящемся желтом платье. На голове у нее голубая шляпа, робко обласканная солнечными лучами: они осторожно касаются лба и макушки, словно гладят прирученного зверька.
Она шагает, поглаживая пальцами зеленую изгородь по обе стороны тропинки. Усердное, неутомимое светило находит ее руки, жаркие лучи покалывают кожу.
Она ступает медленно, неторопливо, оставляя четкие следы на гравии. Ей позволили гулять без спешки, куда заблагорассудится, хоть весь день. Здесь некому ей мешать, докучать расспросами, обижать. Ходить можно, где душе угодно — Альфонсо сам так сказал, этими самыми словами. Куда душе угодно.
Мысль о такой свободе бурлит внутри, клокочет в горле, выходит изо рта чем-то средним между смехом и писком.
Вокруг раскинулся сад, бесстрастный и равнодушный. Лукреция одна, не считая мужчины с кривоватыми ногами и слегка изогнутым ножом; Альфонсо сказал, что он будет сопровождать ее на всех прогулках, но держаться поодаль, поэтому можно о нем и не думать, а если вдруг что-то понадобится, стоит только поманить, и он мигом подойдет.
Пока что она бродит у клумбы с пышными пурпурными цветами; они колышутся волнами и дрожат в такт сотням трудолюбивых пчел, перелетающих с места на место. Лукреция обходит беседку, где благоухают белые звездочки жасмина, — подол юбки скользит по земле, цепляя веточки и опавшие лепестки, — проходит мимо гряд зелени, персиковых деревьев, незнакомой вьющейся травки и удивленно замирает: она сама не заметила, как вернулась к фонтану посреди сада — многоярусному овалу из узорчатого мрамора, в центре которого морское чудовище весело выплескивает воду в прозрачный, ароматный воздух.
Какая свобода, даже не верится! Лукреция позавтракала пирожными из молока и меда, оделась при помощи Эмилии, а потом, в сопровождении слуги, зашла в длинную комнату. Альфонсо сидел за столом, читал бумаги и отдавал распоряжения мужчине со шляпой в руках.
Завидев Лукрецию, Альфонсо встрепенулся, отпустил помощника, проводил Лукрецию в сад и позволил гулять «где душе угодно». А еще добавил: сад разбили «на усладу и отраду» дамам.
Альфонсо ведет ее под руку, Лукреция пальцами ощущает гладкую ткань его рукава. Муж и не знает, что прежде ей не дозволяли бродить «где душе угодно». Родители твердо считали: девочек нужно воспитывать под строгим присмотром, пускать только в определенные комнаты, следить за ними до самого замужества, не оставлять одних.
«А вот семейная жизнь — совсем другое дело, — подумала Лукреция. — Мужчина держит тебя за руку, гуляет с тобой, рассказывает, какой архитектор построил крытый переход и беседку, откуда привезен мрамор для фонтана. Ты живешь на вилле, обнесенной стеной; на потолках — ангелы и боги, вокруг — холмистые поля, густые чащи, а вдалеке виднеется извилистая бронзовая нить реки».
Альфонсо прошелся с Лукрецией по первому саду и повел во второй. Походка, слова, жесты — все в Лукреции живо интересовало его; он следил взглядом даже за тем, как она прикрывает глаза от солнца. Альфонсо повел ее к воротам третьего сада, своего любимого, но вдруг молча отстранился, услышав вежливый кашель: из ряда миндальных деревьев как по волшебству возник мужчина с большой стопкой бумаг.
Лукреция замешкалась, опустила руку. Ждать Альфонсо, подойти к нему или остаться здесь? Как лучше поступить? Альфонсо махнул рукой, дескать, идите без меня. Дважды просить не пришлось. Лукреция втайне радовалась, что можно хоть минутку побыть одной. Она пробежала под цветущим деревом миндаля и оказалась в третьем саду, переплетенном паутиной симметричных тропинок; по обе стороны каждой тянулись низенькие живые изгороди; Лукреция с удовольствием гладила их листву.
Прохладные вечнозеленые листья глянцевито блестят, покалывают кожу. Тропинки разветвляются налево, направо и прямо. Смешиваются в несочетаемый букет ароматы цветов. Бескрайняя синь тянется от горизонта до горизонта. Впервые Лукреция видит небеса во всей полноте: во Флоренции над крышами и окнами вечно клубятся туманы и дым, лишь изредка проглядывают клочки неба.
Лукреция поворачивается к вилле. У красноватого бока здания, где рядком растут деревья, стоит Альфонсо и слушает человека с бумагами, внимательно склонив голову. Альфонсо высокий, в темных кальцони[39] и светлой рубашке, а незнакомец пониже ростом, в серой рубашке и шляпе, небрежно накинутой на светло-рыжие волосы. Ни дать ни взять львиная грива!
Их силуэты двигаются на фоне густой зеленой листвы, и Лукреция понимает: а ведь мужчина в шляпе точно не слуга… Она всю жизнь наблюдала за людьми со стороны — такой у нее дар или же приобретенный навык. Одним взглядом она оценивает осанку, одежду, движения, подбородок — у одних он опущен, другие гордо его поднимают; выражение лица; еще с порога она видит, кто самый влиятельный в комнате, кто кому соперник, а кому союзник, кто таит от других секреты.
Лукреция бродит среди цветов и плодовых деревьев, украдкой поглядывая на Альфонсо, своего мужа, и на человека напротив, которому Альфонсо зачем-то понадобился. Одет незнакомец благородно, не как слуга: тонкого кроя рубашка из драпированой ткани, узорчатой на складках; на шляпе блестят заостренные ciondoli[40]; да и осанка у него уверенная, он не тушуется под взглядом Альфонсо, даже наоборот — наклоняется к нему, выставив ногу. Видно, старые приятели. Они вместе читают бумаги, и незнакомец едва не задевает Альфонсо локтем, но муж не отстраняется.
Интересно… Наверное, это друг, с которым Альфонсо упражнялся в фехтовании? Или брат приехал? Должно быть, двоюродный: ей говорили, у Альфонсо только один родной брат, кардинал, и живет он в Риме.
Мужчина молитвенно складывает руки, в ответ Альфонсо задумчиво на него глядит. Неужели опять неприятности с матерью или при дворе что-то стряслось? Отец предупреждал, что первый год герцогства станет для Альфонсо нелегким испытанием: всегда немало желающих испытать молодого правителя, проверить его стойкость.
— Придется твоему Альфонсо, — сказал тогда Козимо, — убедить и своих людей, и другие герцогства, что инакомыслие он пресекает на корню и достоин править Феррарой. Пусть докажет силу и храбрость делом, так уж заведено.
Альфонсо что-то говорит, решительно кивает, хлопает собеседника по плечу и возвращается к Лукреции: идет прямо, уверенно сворачивает направо, потом налево.
Таинственный мужчина исчезает среди деревьев, словно и не было.
Увы, Альфонсо придется ее покинуть, дела не ждут, а она пусть гуляет по саду, сколько пожелает.
— Очень жаль, — улыбается Альфонсо. — Увидимся ночью.
Внутри все обрывается. Забыты цветы и пчелы, потускнел сад, перед глазами стоит только потолок во фресках, а под ним — постель и откинутое одеяло.
— Да, — шепчет Лукреция. Сегодня, сегодня…
— Вы не против? — Альфонсо пронизывает ее взглядом.
— Конечно, нет. Прошу, не волнуйтесь обо мне. Я здесь очень счастлива!
— Не ходите долго по жаре. — Альфонсо подносит ее руку к своим губам. — Солнце коварно.
— А что за мужчина? — переводит она тему.
— Какой?
Он выпускает ее руку, и та безвольно повисает между ними.
— Тот, с письмом.
— Ах, он! — Альфонсо оглядывается на высокую изгородь. — Ушел, наверное. Это Леонелло.
— Он… ваш друг?
— Очень хороший, с детства. Мы выросли вместе. Отец позволил ему учиться с нами. Леонелло мой двоюродный брат, но близок, как родной. Помогает мне с государственными делами, берет на себя… — Альфонсо умолкает, прикрыв глаза ладонью. — Куда он делся? Я ведь просил подождать!
Стремительным шагом Альфонсо идет к концу тропинки.
— Леонелло! — зовет он и пронзительно свистит, будто охотничью собаку подзывает. — Лео!
Из кустов гулко доносится голос:
— Что?
— Куда ты запропастился? Иди сюда!
Шуршит листва, звучит глухой стук, а потом голос непринужденно отвечает:
— Хорошо!
— Выходи, познакомься с моей женой. Где твои манеры?
Расталкивая ветки плечом, Леонелло возвращается все с той же стопкой бумаг. В отличие от Альфонсо, он идет не тропинками, а прямиком по растениям: наступает на клумбы, словно их там и нет, перешагивает низкую живую изгородь и цветы, задевает лепестки и спугивает пчел. «Нет, он никому не служит и всегда получает свое», — решает Лукреция, следя за ним взглядом.
Леонелло останавливается в нескольких шагах от нее.
— Леонелло, позволь представить мою супругу, новую герцогиню Феррары. Лукреция, это мой друг и двоюродный брат, Леонелло Бальдассаре.
Леонелло отвешивает глубокий поклон — пожалуй, даже слишком глубокий и галантный, издевательский. Лукреция подмечает насмешку. У Леонелло острые скулы, желто-карие глаза, тонковатые губы, выгоревшие на солнце волосы. Он прекрасно сложен: плечи широкие, бедра, напротив, узкие; несложно вообразить, как сверкает в его ловких руках рапира.
— Госпожа, — вальяжно тянет он. — Я ваш покорный слуга.
— Очень рада с вами познакомиться. Друзья моего мужа — мои друзья.
Леонелло задумчиво ее разглядывает, обдумывая эти слова. «Да, — решает Лукреция, — имя у него вполне подходящее. И вправду лев!» Лицо обрамляет рыжеватая грива, кожа гладкая, золотится загаром. После недолгого молчания Леонелло согласно кивает, однако улыбкой Лукрецию не удостаивает. Он совсем не похож на других consiglieri ducali[41]: нет в нем сдержанности ученого мужа, как у Вителли, нет почтительного покровительства. Леонелло — натура беспокойная, не хотелось бы оставаться с ним наедине.
— Ну разве не красавица? — Альфонсо щиплет Лукрецию за подбородок. — Глаза ясные, а кожа! Не говоря уж о волосах.
И вновь желто-карие глаза изучают ее, но на сей раз Лукреция не встречается с Леонелло взглядом; вместо этого смотрит на мужа.
— О да, — с непроницаемым лицом соглашается Леонелло. — Ее светлость — великолепный образчик женщины. — Он постукивает свернутыми бумагами по подбородку. — Сбылись наши надежды, верно? Вы были правы, портрет не слишком удачен.
— Правда, и я немедленно закажу новый! Аллегорическую картину или религиозный сюжет. А знаешь что? Может, просто портрет в три четверти — пусть пишут, как есть? Супружеский портрет! Что думаешь?
Мужчины отходят на пару шагов и разглядывают Лукрецию. По лицу Леонелло сложно прочесть чувства.
«Я ему не нравлюсь», — растерянно говорит себе Лукреция. Почему же? Они ведь только познакомились! Откуда враждебность? Чем она его так обозлила? Чем не оправдала ожиданий?
— Нам пора, — бросает Леонелло, многозначительно показывает на бумаги.
— В самом деле.
Альфонсо поспешно целует ручку Лукреции, а потом они с Леонелло уходят по хрустящему гравию. Лукреция остается одна посреди сада; цветы колеблются под облачками пушистых пчел, фонтан рассказывает истории на своем таинственном наречии.
Сначала она ложится в постель. Ничего необычного, но почему-то ногти судорожно впиваются в обшивку рукавов на ночной сорочке, пока муж осторожно шагает по комнате, стараясь не уронить книгу в одной руке и свечу в другой. Альфонсо говорит о переменчивой погоде: ставни лучше запереть, а то ветер крепчает.
Уже поздно, очень поздно. Лукреция поужинала тушеным кроликом с жареным радиккьо[42], помазалась настоем мальвы и легла на простыни, благоухающие розмарином и лавандой.
Она знает, что ее ждет. Наверное. Ее предупредили. Суть она уловила, более-менее представляет себе, как все пройдет. Да ей повезло выйти за такого внимательного и доброго мужчину, не говоря уже о приятной внешности! Он ведь обещал ее не обижать, верно? Не каждой девушке выпадает подобное счастье! И потом, у нее сильный, стойкий характер, она выдержит. Ее так просто не напугаешь; страх, неудобство и боль она переносит легко. Надо чуточку потерпеть, и все кончится. Надо — значит надо, она сможет.
Она не представляла себе, что он подойдет к постели и будет снимать одежду, и с каждой снятой вещью ей будет все страшнее, а потом с улыбкой окажется перед Лукрецией совершенно голый. Только не смейся. Только не плачь. И страшно, и любопытно, однако смотреть она не решается. Не представляла, что он ляжет рядом, подвинется ближе, еще ближе. Не представляла, что заведет непринужденный разговор, что станет спрашивать о поездке на виллу, о еде, о том, нравится ли ей та или иная фреска, и какая больше всех, какую музыку она любит, какой инструмент приятней уху — лютня или виола, по вкусу ли ей мадригалы, ведь Флоренция славится мадригалами. Задает светские вопросы — о таком беседуют в салоне или за ужином, — а сам касается нитей ее волос неугомонными пальцами, гладит ее по лицу, обводит контур губ, словно пытается ее прочесть. Нет, такого Лукреция не представляла.
В палаццо жили собаки и кошки, иногда она заставала их в процессе: самец поглощен своим делом, ничего вокруг не замечает, смотрит куда-то в сторону, а самка под ним, покорно опустивши морду. София тоже ее мало-мальски подготовила: показала пальцем пониже пупка Лукреции и засунула палец в тесно сжатый кулак. А еще дала пузырек мази, заткнутый воском, и велела первое время смазываться этим средством перед приходом мужа. Мать молитвенно сложила руки и туманно намекнула о «воле Божьей», «супружеском долге» и «части брака». Поэтому Лукреция знает, что сейчас будет.
Муж удивительно спокоен, деловит, сосредоточен, неспешен.
— Не волнуйся, — шепчет он, прижимая ладонь к ее щеке; голень его скользит между ее ступнями. — Ничего не бойся.
— Я и не боюсь, — шелестит в ответ Лукреция.
Он гладит ее бровь подушечкой пальца.
— Я не сделаю тебе больно, обещаю.
— Спасибо.
— Ты мне веришь?
— Да.
Как иначе? Иного выхода у нее нет. Родные остались далеко позади.
— Ты мне веришь? — повторяет он, поместив ее ладонь себе на грудь.
Раньше она не дотрагивалась до него, не касалась голой кожи. До чего твердая у него грудь, как железо! Странно, непривычно осязать жар его тела, крепкие мышцы, ощущать кости ребер, мощный стук его сердца.
— Конечно, — отвечает Лукреция, и он улыбается, довольный ответом. Одной рукой Альфонсо крепче прижимает ее ладонь к груди, а другую вдруг кладет на ночную сорочку Лукреции, прямо на ложбинку между ее грудей. Не сдержавшись, Лукреция вздрагивает, но ладонь Альфонсо остается на прежнем месте. Воображение разыгралось или на лице мужа мелькает тень сочувствия? Хоть бы так… О, хоть бы! Конечно, мужу позволено трогать жену, где вздумается, и София ее предупреждала, и все-таки Лукреция поражена до глубины души. Альфонсо заметил, как ей тягостно происходящее, и все понял. Значит, больно не сделает, ведь он обещал. И бояться нечего.
Он с улыбкой направляет ее руку себе на горло, щеку, ребра, талию и сам скользит пальцами по тем же местам ее тела; его прикосновения и обжигают, и обдают холодом, оставляют на сорочке следы, будто невидимыми чернилами. А рука Лукреции изучает Альфонсо: колючую щетину, сборчатую кожу губ, атлас обнаженного плеча, кудрявые волосы на груди. Интересная, убаюкивающая игра — повторять друг за другом: грудь, плечо, горло, щека, талия, снова грудь… Разговор идет о нраве трех охотничьих собак Альфонсо, о любимой еде Лукреции. Да, странно все это, зато спокойно. Повторять и повторять… Пожалуй, такое занятие ей по силам. Может, дальше он и не зайдет, ограничится забавной игрой?
Следующий шаг Альфонсо застает ее врасплох: погладив талию, муж не возвращает ладонь Лукреции обратно к груди, а опускает ниже, намного ниже — к месту, которое она не рассматривала, постеснялась остановить на нем взгляд.
По всему родному палаццо стоят скульптуры обнаженных мужчин и богов, поэтому никакой тайны в этой части тела нет. К тому же Лукреция росла с братьями. Много раз она видела, как няньки их купают, и знала о кожаном мешочке и довеске к нему — смешном и беззащитном, спрятанном в забавный чехольчик из собственной кожи, прямо как пугливое морское создание. Изабелла по секрету обмолвилась, что мужчины отличаются друг от друга размером, а Лукреция наивно спросила сестру, откуда она знает, ведь кроме мужа, Паоло, она ни с кем не была, на что Изабелла почему-то звонко рассмеялась и пребольно шлепнула Лукрецию по ноге.
Однако Лукреция не ожидала, что придется трогать это рукой. Что кто-то возьмет ее пальцы — те самые пальцы, которые перелистывали страницы, завязывали ленты, вышивали, отламывали хлеб, поднимали кубки, писали, делали наброски — и мягко, но решительно сожмет вокруг него, чтобы Лукреция привыкла. Она и не догадывалась, что эта часть тела подвижна, изменчива, может принять другую форму.
Не догадывалась, что и весь мужчина тогда меняется, становится иным человеком; порабощенный, он теряет себя, и с этой минуты неспешная игра заканчивается. Разговоры прекращаются. Никаких больше вопросов о любимых фресках. Альфонсо хрипло спрашивает, можно ли снять с нее сорочку, и Лукреция позволяет: разве может она отказать? Он стягивает сорочку, как в лихорадке, а его руки настойчиво и жадно шарят по ее телу, словно хищные звери в поисках добычи.
Она понятия не имела, что он на нее ляжет, навалится всем телом. Не знала, что придется так несуразно расставить ноги, как цикаде, или что спина и таз затрещат под его весом.
Альфонсо внезапно охрипшим голосом заверяет: больно не будет, бояться не надо, он не сделает больно, не сделает, честное слово.
А потом все равно делает.
Боль пронзительна, необычна. Обжигая, она прокладывает путь в сокровенный уголок тела, о котором прежде Лукреция только смутно подозревала. Никогда еще ей не было так мучительно неудобно: грубое вторжение распирает изнутри. Лукреция морщится с невольным всхлипом.
Конечно, Альфонсо ее слышит. Подкладывает ладонь ей под голову. Наверное, так он извиняется и тотчас прекратит. Он ведь обещал, что не будет делать ей больно, а сам сделал, хоть и случайно. Он уже выполнил свою часть супружеского долга, как и она. Альфонсо заботится о ней, может, и любит ее, а потому не станет мучить. Сейчас все наконец закончится; он добился, чего хотел, а она покорилась своей обязанности, и Альфонсо отпустит ее.
Она ошибается. Он не слезает. Не прекращает ее мук, только подбавляет новых. Твердит: все будет хорошо, не двигайся, ничего страшного, все хорошо, все хорошо. Да как он может такое говорить или хотя бы думать? «Ничего хорошего, — шипит она мысленно. — Мне больно, зачем ты это делаешь, ты ведь обещал!»
Она-то думала, что все знает, что готова, а на самом деле — ничуточки. Изабелла говорила: минутку поболит и перестанет, а потом ей даже понравится. Она снова и снова прокручивает эти слова. Ни о чем другом не позволяет себе думать.
И тело, и все ее существо стиснуты между периной и мужем, как листы книги между обложкой; ее потрясение переходит в ступор.
Жар потного тела, сами движения и звук отвратительны — она смутно воображала себе слияние двух тел и душ в едином божественном порыве, полную тишину, а нескончаемые ритмичные толчки мужа похожи на яростные удары, вторжение; лицо Альфонсо искажено, дыхание прерывистое и хриплое, словно он одержим бесами.
Она догадывалась, что так будет. Конечно, догадывалась. И знала, и не хотела знать. А ведь когда-то мужской орган казался ей застенчивым, пугливым… Воспоминание столь далекое, будто принадлежит другой девочке — той, что стояла у нарисованной отцом картины с Юпитером и украдкой разглядывала любопытную трубочку плоти, выглянувшую из гнезда волос.
Лукреция считает удары сердца. До двадцати, до сорока. Теряет счет после шестидесяти. Сколько еще терпеть? Кто знает. Надо было спросить Софию, или маму, или хотя бы Изабеллу!
От тяжести чужого тела — ее мужа — сдавливает грудь.
За окном поднимается ветер. Норовистый порыв заявляет о себе: хлопает ставнями, скользит пальцами под черепицу, гремит замками. Дует в дымоход, обдает коврик у камина сажей. Скребется о черепицу, вот-вот оторвет настойчивыми пальцами.
Волосы лезут на глаза и в рот, но Альфонсо такой широкий, тяжелый; пригвоздил к месту сильными руками, давит локтями на волосы — не пошевелиться. Лукреция вслепую касается то ли его спины, то ли бедра, но ладонь обжигает потная горячая кожа, под ней играют мускулы, — и Лукреция тотчас одергивает руку.
До этого, еще в обеденном зале, когда слуги убирали посуду из-под тушеного кролика, Альфонсо попросил Лукрецию его порадовать и распустить волосы. Она послушалась. Сидела за столом и распускала свадебную прическу на одной стороне головы, а Эмилия помогала с другой. А еще раньше, под конец ужина, Альфонсо тянулся за персиком в блюде с фруктами и смотрел на Лукрецию, зажав в руке ножик для чистки. Муж настоял, чтобы Лукреция попробовала сочные фрукты: он велел их собрать нарочно для нее в плодородной равнине из его владений; почва для земледелия на ней идеальная. При слове «плодородной» Лукреция отвернулась, а муж того и ожидал: когда она повернулась обратно, он улыбался и добродушно протягивал ей кусочек розовато-желтой мякоти.
— Ну же, попробуйте.
И вложил ломтик между ее губ, как ни в чем не бывало — пришлось открыть рот и есть с рук Альфонсо. Вкус мгновенно наполнил рот, сок заструился в горло; она чуть не поперхнулась. Нежнейшая мякоть была мягче мха, а сок — сладким, как нектар, с легкой кислинкой.
— И как вам? — поинтересовался Альфонсо, оперевшись на локти и следя за ней взглядом.
— На вкус как солнце.
Судя по всему, ответ ему понравился: он рассмеялся и повторил про себя ее похвалу. Распущенные волосы Лукреции еще хранили форму праздничных кос и струились по спине мелкой волной, подобно цветкам на колосьях пшеницы.
Кровать — когда-то место для сна или бессонных ночей, наполненных мерным дыханием братьев и сестер, ночным шумом палаццо. А теперь в любую минуту мужчина вправе отдернуть полог и сделать это.
Ветер просачивается через щель в оконной раме. Прохладное дуновение, что-то нашептывая, ласкает щеку Лукреции: то ли приглашает пойти за ним, то ли дает совет.
Оказывается, если повернуть голову набок, дышать легче, можно не делить с Альфонсо воздух в узком пространстве между их головами.
С первым вдохом приходит ощущение, будто расходятся продольные и поперечные нити на ткани, и часть Лукреции — лучшая часть, пожалуй, — отвечает на зов ветра. Сбрасывает оковы. Воспаряет над пологом, покинув тела на кровати — пусть делают свое дело, — и улетает. О, как приятно выбраться из постели! Сущность Лукреции, покинувшая тело, бесформенна и неуловима. Она бесшумно ступает по половицам и в то же время парит под потолком. Бестелесная Лукреция скользит мимо балок и нарисованных херувимов, обводит пальцем радужные полосы. Она разделилась надвое: есть Лукреция величественно-огромная, а есть крошечная, скрытая в тени.
Далеко внизу распростерлись на кровати два человека, один накрывает другого. Там тьма и тень, и незачем туда глядеть. К ней это не имеет отношения. Распавшись на мельчайшие частицы, дух Лукреции растворяется в лепном потолке, балках и брусьях, штукатурке, кирпиче — и вновь собирается из этих частиц снаружи, за стенами виллы.
Ночь-художница изобразила долину смелыми штрихами густо-синей краски, а теперь порывы ветра оживляют ее загадочный пейзаж, накрытый тенями; ветер трясет кроны деревьев, подбрасывает птиц в чернильного цвета воздух, гонит сердитые кляксы облаков по бесстрастному лику небосвода. Лукреция шагает по волнистой черепице, ползет по желобам и трубам, а мощный ветер услужливо подгоняет ее в спину; ее ступни щекочет слой мха. И в то же время она внизу, на земле, где ветер клонит деревья то в одну, то в другую сторону. Где острые камешки впиваются в ноги. Где за аккуратной живой изгородью темнеет и ждет, затаившись, лес.
Все чувства Лукреции обострены. Ничто больше ее не сковывает. Она может бежать так быстро, как захочет. Может рвануться изо всех сил и мчаться по садам, перепрыгивая живые изгороди и тропинки. Она цветным пятном пронесется по ночной тьме, а когда достигнет леса, деревья сомкнутся вокруг нее, а все звери и птицы станут вопрошать небо криками и воем, и она будет ждать с ними первых лучей холодного утреннего солнца, что восстановят и смягчат тонкий шелк ее кожи.
Ахнув, Лукреция пробуждается от странного сна, в котором Мария тянет ее за собой по коридору, а Лукреция не может высвободиться: обе они застряли в одном жестком, тяжелом платье; Лукреция едва поспевает за сестрой и вот-вот споткнется о подол. И в самый миг падения, когда переплетаются их с Марией ноги, а лбы почти стукаются о пол, Лукреция вырывается из хватки кошмара.
Она лежит, свернувшись на краешке кровати, в незнакомой комнате; над головой высится потолок, а на стенах мерцает непостоянный желтый свет. Мария исчезла, одно на двоих платье исчезло. Волосы Лукреции рассыпаны по подушке и по всей кровати. Как же так? Золотые ручейки стекают на пол, путаются в пальцах и лезут в рот. В чем дело? Наверное, что-то случилось. Она никогда не ложится, не заплетя волосы в длинную косу, которая послушно лежит рядом с ней всю ночь, как домашнее животное или фамильяр ведьмы.
За спиной раздается непривычный, жутковатый шум; по голове Лукреции пробегают мурашки. Вдохи и выдохи. Размеренно вздымается грудь. Монотонные, глубокие звуки сна.
Лукреция разглядывает свои руки, и ее мысли скачут от линий и складок на внутренней стороне ладоней до тянущей боли внизу живота (внутренности будто привязали к веревке), до распущенных волос, до края кровати, до ковра под ней, до облачков пыли в лучах солнца, до боли, до чужого дыхания за спиной, до боли — и снова до рук.
Она чуть приподнимает голову, совсем капельку, чтобы не шуршать простыней и не разбудить человека рядом.
Вот и он. Лукреция потрясена непривычным зрелищем: черные как смоль волосы на подушке, лицо без всякого выражения, черты разглажены сном; щетина пробивается на щеках и подбородке, как подлесок на горном склоне.
Лукреция задумчиво разглядывает его, прикидывая название наброска. «Спит человек, правитель почивает». Когда Альфонсо проснется, уже не выйдет долго на него смотреть. От присутствия герцога теряешься: он ничего не упускает, неутомимо оценивает происходящее, изучает каждый миг. Альфонсо умеет выхватить любую твою мысль, потаенную или случайную, понять, поглотить и сберечь в памяти. Наверное, так устроены правители. А вот когда глаза у него закрыты, а разум отдыхает, можно без всякого стыда его рассматривать. Сейчас он не герцог Феррары, не молодой властитель могущественного герцогства, а спящий человек, только и всего.
На подушке лежит очередная версия мужчины, за которого ее выдали. В одном теле таится множество разных Альфонсо. Наследник, гулявший по зубчатой стене в тот памятный день детства; человек, что подарил ей картину с куницей и два года перед свадьбой писал ей письма из Франции витиеватым почерком; герцог, взявший ее в жены у алтаря; человек в экипаже; мужчина, проводивший ее по саду в жилете с маленькими рукавами. А теперь появился еще один — спящий сатир с обнаженной грудью, пугающая нижняя часть его тела прикрыта складками одеяла.
Какое везение, какая удача проснуться раньше и спокойно его разглядывать!
На правой руке Альфонсо два кольца: одно простое и перстень с печатью — зеркально повернутым орлом с семейного герба; среди волос на груди блестит золотая цепочка. Губы приоткрыты, зубы острые, ровные и белые, но слева на нижней челюсти одного не хватает: то ли случайно выбил, то ли что-то другое приключилось. Волосы на руках светлее, чем на торсе. Завитки на груди растут в двух направлениях и сходятся посередине, напоминая кованые пики на воротах. Из-за этого кажется, будто его вылепили из двух половин и скрепили их посередине. Ногти чистые, коротко подстрижены. Ресницы черные. Глаза закрыты веками, двигаются, будто он и во сне читает и обдумывает послания со двора, письма государственной важности, донесения о мятеже в герцогстве.
Медленно, едва дыша, Лукреция сползает под одеялом на пол и оставляет позади эту постель и все, что в ней произошло; собственная нагота безумно смущает, между ног болит и жжет. Она находит нижнее платье и туфли, поспешно натягивает поднятое с пола верхнее платье.
На миг ее взгляд задерживается на картине с la faina на каминной полке. Белые стены подчеркивают цвета миниатюры, и место самое подходящее: зверек словно наблюдает за ней. Лукреция поднимает задвижку, открывает дверь и выходит.
Она неслышно скользит по коридору в туфельках из ягнячьей кожи; мимо каморки для слуг, в которой спит Эмилия, мимо черной лестницы и дальше, потом спускается по лестнице и попадает в крытую галерею.
В свете утреннего солнца колонны и деревья отбрасывают длинные тени; во дворе болтают слуги, пользуясь отсутствием господ. Еще совсем рано.
А вот Лукреция не спит. Впрочем, она умеет быть незаметной: научена вылазками в потайные ходы палаццо.
В первом внутреннем дворе, настежь распахнув окна, служанки вытряхивают веники и совки, и Лукреция прячется в тень. Куда теперь? Ответ находит ее за углом.
Она никогда ничего подобного не видела. Не думала даже, что так бывает. Какой чудесный, неожиданный подарок!
Тяжелые деревянные ворота виллы стоят открытыми.
Ни одного стражника. Ни солдат с оружием, ни мужчин в форме; никто не бежит поскорее запереть ворота на железный засов от врагов и наемников. Здесь не боятся угроз, нападения, воров, непрошеных гостей. Вилла стоит на природе, ей незачем грозить силой — она создана для удовольствия и не зря зовется delizia.
За прямоугольными воротами со стрельчатой аркой вьется дорожка из гравия, а острые вершины кипарисов пронзают небо, залитое румянцем рассвета. Пучки полевых цветов у дороги склоняют голубые, красные и желтые головы.
Лукреция делает шаг, потом другой. Поспешно косится через плечо. Никто ее не остановит? Не затащит обратно, не захлопнет двери?
Она мешкает на пороге, глядя на высокую стену деревьев. И выходит.
Вчерашний ветер снова здесь, но ей не хочется думать о прошлой ночи и о случившемся — нет, только не в такое славное утро! И потом, ветер переменился, съежился, притих — вспомнил хорошие манеры. Он низко стелется по земле, как ползущий зверь, он шевелит каемку цветов у тропы, шелестит нижними ветками кустов, играет платком Лукреции, кончиками ее волос.
Лукреция отходит от виллы, ускоряет шаг — надо же, как просто! Она прошла испытание, которого страшилась больше всего на свете. Она думала, будет ужасно, невыносимо — и, по правде говоря, не ошиблась, — а все-таки выдержала и гуляет под солнышком за воротами виллы. Она выполнила свой долг, не подвела семью. Жаль только, не спросила маму или Софию, сколько раз ей придется это делать. Может, одного раза хватает надолго?..
Бескрайнее небо простирается над вершинами кипарисов до самых Апеннинских хребтов, виднеющихся где-то в далекой лилово-серой дымке. Небосвод меняет оттенки: розовый восход постепенно алеет и горит оранжевым.
«Вот оно», — думает Лукреция. — Вот оно». Кипарисы, похожие на огромные перевернутые кисти художника, низкий покорный ветер, зубчатая линия гор, нарисованная углем на горизонте, приглушенные голоса слуг за спиной, открытые двери виллы, звон колокольчиков на шее скота, нескончаемые вереницы фруктовых деревьев — а когда отходишь подальше, они растут уже двойными рядами. Вот что ей нужно! Красота насыщает ее, как дождь иссохшую землю. Ради этого она выдержит еще один раз, все стерпит. Согласится на обмен.
Где-то сбоку раздается треск, потом шорох. Лукреция оборачивается. К счастью, это не голодный хищник. Из густых деревьев появляется силуэт. На мгновение Лукреции чудится кентавр — получеловек-полуконь, посланец мифических сил. Она отшатывается, запахнув платок.
Затем появляется всадник на взнузданном коне. И не кентавр вовсе, а охотник: отправился выслеживать добычу ранним утром, вооружившись луком, ножом и дубиной.
По ярким волосам под охотничьей шляпой она узнает Леонелло, друга и consigliere Альфонсо. Поперек седла свешиваются три заячьи тушки: глаза зверьков навек закрыты, передние лапки беззащитно болтаются.
Он останавливает коня и рассматривает Лукрецию сверху вниз. Взгляд у Леонелло неприветливый, Лукреции так и хочется спросить: «Почему я тебе не нравлюсь, чем ты недоволен?» Он невзлюбил ее с первой минуты, безотчетно; Лукреция и раньше сталкивалась с подобным и никак не могла взять в толк, почему люди вдруг начинают ее ненавидеть. Она ничем не оправдала такой враждебности, и боль обиды хоть и не слишком серьезна, но упрямо жжет, как укус крапивы.
Конечно, вслух Лукреция ничего не произносит. Только поднимает голову, приветствует Леонелло взглядом, как учили (мать-испанка гордилась бы ее невозмутимой смелостью!), и желает советнику мужа хорошего дня.
Тот отвечает кивком; конь под ним переступает с копыта на копыто. Бока животного раздуваются, влажно блестят.
— И вам доброго дня, — цедит Леонелло, едва шевеля губами. — Герцогиня, — добавляет он нарочито.
Его заминка, пусть и небольшая, отнюдь не случайна. И он, и Лукреция это понимают. Вокруг этого слова, титула — пустое пространство, в нем роятся недоговорки и скрытые намерения.
Лукреция знает, как поступить. Старшие братья и сестры постоянно обижали ее, одергивали, не принимали в свои игры, обзывали и дразнили… Конечно, она кое-чему научилась! Ей не впервой подобное отношение. Она умеет уклоняться от невидимых ударов.
— Как вы, дорогой кузен? — спрашивает она вполголоса. Захочет услышать — наклонится. — Вижу, охота удалась.
Как он воспримет слово «кузен»? Так непринужденно могут обращаться только родственники, и потом, Лукреция подчеркивает, что брак с Альфонсо состоялся вопреки советам и пожеланиям Леонелло. О да, в этом Лукреция немного смыслит. Скорее всего, у Леонелло есть сестра или другая родственница, и брак с Альфонсо помог бы ей достичь высокого положения. А может, Леонелло предлагал союз с иностранной принцессой или герцогиней из другого региона, а Альфонсо пренебрег советом друга и выбрал Лукрецию. Или дело в неприязни к дому Козимо и его влиятельности. Кто знает? Лукреция не станет спрашивать и никому не станет жаловаться на Леонелло, особенно Альфонсо. Равнодушие — худшее наказание.
Леонелло, не слезая с коня, неспешно отвечает:
— Весьма. — Он поправляет веревку, которой зайцы привязаны к седлу, и зверьки шевелятся, на миг пробуждаются к жизни. — Вам хорошо спалось?
Внешняя невозмутимость подводит Лукрецию, ее щеки краснеют. Конечно, ему все известно; он прекрасно понимает, что случилось прошлой ночью. Однако Лукреция твердо выдерживает его взгляд, с дерзким спокойствием смотрит в золотисто-карие глаза.
— Хорошо, благодарю. Здесь так тихо.
— Вас не побеспокоил… ветер?
— Ничуть. — Лукреция одаривает собеседника приятной светской улыбкой, позаимствованной у матери. — Вижу, мы оба ранние пташки. — Помолчав, она столь же подчеркнуто, как он когда-то, добавляет: — Кузен.
На его лице мелькает удивление: неужто Лукреция парирует? И тут ее осеняет: она ошиблась, Леонелло не прочил другую девушку Альфонсо в невесты. Леонелло просто не нравится, что в строгой иерархии двора кто-то занял место между ним и братом; ему приятно оставаться единственным приближенным нового герцога. Он по натуре собственник и ни с кем не хочет делиться, даже с молодой супругой Альфонсо. Смешно! Такая ребяческая обида, такая мнительность!
Леонелло вынимает ноги из стремян и сходит на землю.
— Позвольте проводить вас до виллы. Опасно ходить здесь одной.
— Поверьте, нет причин для…
— Альфонсо будет недоволен.
— Он же…
— Для Альфонсо вы — приобретение весьма ценное, сами понимаете. Возможно, и самое ценное, учитывая обстановку при дворе.
Леонелло называет ее дорогой вещью шутливо, будто припоминает давнюю дружескую остроту, но его тон Лукрецию ничуть не обманывает: каждый слог Леонелло неслучаен, он хочет ее смутить, отнять душевное спокойствие.
— О чем вы? Какая обстановка?
Леонелло усмехается, хлопая поводьями по кожаным перчаткам.
— А вы не знаете?
— Я едва…
— Альфонсо вам не рассказал? Речь, разумеется, о его матери. Она открыто нарушает требования Альфонсо, водит дружбу с протестантами прямо у него под носом. Эдикт Папы Римского предписывает ей вернуться во Францию. А теперь она хочет забрать с собой сестер Альфонсо.
— Папа? — с ужасом повторяет Лукреция. — Приказал ее изгнать?
— Да. Я полагал, вы знаете.
— И Альфонсо… противится его воле?
— Не совсем так. — Леонелло щурится от утренних лучей. — Не противится, но и не подчиняется. Он объявил, что герцогиня-мать уедет, когда он сам того пожелает. Альфонсо всем дает знать, что мать последует только его приказу.
— И не боится неудовольствия Папы?
— Оно его мало волнует, — пожимает плечами Леонелло. — Если сестры Альфонсо поедут с матерью во Францию и выйдут там замуж, их наследники смогут претендовать на титул. И тогда герцогство перейдет к французам. Он может потерять все. А вот если…
— Пусть убедит сестер остаться в Ферраре! Допустим, его мать выслана, но необязательно ведь…
— Альфонсо необходимо как можно скорее произвести наследника. — Леонелло смотрит на нее в упор. — И тогда… — он машет рукой, — …вопрос решен. Вот вы и приехали. Наконец-то. Великая надежда Феррары. — Леонелло склабится. — Дело срочное, вы и сами понимаете. За право наследования… как бы выразиться?.. некому будет соперничать.
Лукреция на шаг отступает от советника и его коня.
— Я не совсем…
— Он прежде не совершал, скажем, опрометчивых поступков. Не оставил побочной ветви.
— Простите… — Лукреция качает головой.
— От него не рождалось детей.
Лукреция опускает глаза, потом смотрит в сторону. Как постыдно, возмутительно! Вот бы заткнуть уши, защитить себя от этой грязи. Однако бесстрастный голос продолжает:
— Вам ли не знать, что большинство мужчин в его положении имеет хотя бы одного-двух бастардов, плодов беззаботной юности, запасных вариантов на крайний случай. А наш Альфонсо — нет. Люди понемногу сплетничают о его, гм… несостоятельности. Разумеется, этот слух необходимо опровергнуть. — Леонелло по одной стягивает перчатки. — Теперь у него есть вы, дочь знаменитой La Fecundissima Флорентийской, и тревожиться больше не о чем.
Леонелло тянет лошадь за уздечку и подает Лукреции руку.
— Позволите? — говорит он, указывая на виллу.
Лукреция не обращает внимания на его любезность. Не станет она к нему прикасаться и никуда с ним не пойдет.
— У каждого своя роль, согласны? — равнодушно добавляет Леонелло. — Моя роль — по крайней мере, сейчас — следить, чтобы с вами не случилось ничего предосудительного.
Лукреция молчит, обескураженная выслушанными откровениями. Рассказ о сестрах, которые собираются покинуть двор, о возможных детях-претендентах на герцогский титул Альфонсо, о срочной необходимости в наследнике угрожает пробить броню, что защищала ее от язвительного тона советника, от его борьбы за положение.
«Я вижу его таким, какой он есть, — напоминает себе Лукреция. — Он хочет всегда быть на первом месте, выиграть состязание за Альфонсо». Нет, это соревнование ей ни к чему. Она не будет слушать его гнусный шепот и намеки. Не будет, и все тут!
— Страж вас не охраняет? Вы ушли из виллы одна? — Леонелло притворяется, будто ищет стража глазами. — Он хороший человек, семейный, я сам выбирал. Жаль, если его накажут за промах, правда?
Сгущается тишина; молчание Лукреции исполнено достоинства: герцогиня выше такой мелочности, она обдумает ситуацию и сообщит ответ, когда сочтет нужным.
И взглядом его не удостоит.
Тропинка впереди петляет между полями и ограждениями, ведет к лесу, сужается и, наконец, исчезает вдалеке. А за спиной алеют габли[43], и череда облаков отражается в квадратах окон.
— Хорошо, — кивает она и разворачивается в сторону виллы.
Леонелло дергает коня за уздечку и шагает рядом с Лукрецией. Мертвые зайцы покачиваются в петле.
Изгиб реки
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
— Надо вставать. — Лукреция сбрасывает одеяло.
— Нет-нет! — Эмилия пыталась разжечь огонь в камине и теперь обернулась на госпожу: — Оставайтесь в постели.
— Нет, хватит лежать.
Лукреция сползает с края кровати и замирает, ступив ногой на пол. Комната покачивается, углы подступают, будто в танце, а потом возвращаются на место. Ноги дрожат от слабости, словно в них нет костей; Лукреция с трудом поднимается, и Эмилия укутывает ее меховой накидкой.
Пошатываясь, Лукреция падает в кресло, стискивает голову руками. Что теперь? Она вопрошает себя так спокойно, будто речь о выборе наряда или списке приглашенных на прием. Надо что-то решать, что-то делать, только что именно? Как поступить жене, которую хочет убить муж? К кому ей обратиться?
Она просит Эмилию подать чернила. Рука Лукреции трясется, пытаясь заточить перо: помнит мощь болезни, дрожит в страхе перед ней.
Перочинный ножик легко срезает лишнее. Повезло. Хороший получился кончик — крепкий, острый, не развалится, едва коснувшись бумаги. Она прижимает его к подушечке пальца, и тот бледнеет, — кровь оттекает, испуганная силой пера.
Лукреция опускает перо в ожидающие чернила и с трудом выводит:
«Мне нужна помощь».
Снова обмакивает перо в чернила.
«Пожалуйста, пришлите подмогу».
Кому она пишет? Неясно. Кому послать свою мольбу? Мама только отмахнется, скажет, что Лукреция преувеличивает, как обычно, воображает то, чего нет. Остается отец. Даже если письмо дойдет вовремя, прочтет ли его Козимо? Или бросит в кипу писем на столе?
И как его отправить? Ни один придворный не осмелится послать конверт, не посоветовавшись сначала с Альфонсо. Кроме Эмилии нет у нее союзниц, да и та приехала тайком и не должна себя выдать.
Конечно, лучшая помощница — София. Спросить бы ее: «Скажи, что мне делать? Как справиться? Как сбежать? Мне нужен план. Помоги, прошу!»
Письмо совершенно бесполезно: Эмилию с ним не отправишь, ее тут же заметят — и все же Лукреция не сдается, иначе она не может; рука царапает строки уже увереннее, крупнее, на греческом, который она изучала вместе с братьями и сестрами в классной комнате под крышей палаццо.
«Я боюсь за свою жизнь. Времени мало. Он хочет меня убить».
И подписывается одной-единственной «Л» с завитушками, а на верху листа добавляет:
«Моей сестре Изабелле».
Эмилия кладет письмо на каминную полку, как всегда поступает с письмами в castello. Обычный день, обычная история: госпожа отдает письмо, а служанка следит, чтобы отправили.
Эмилия обещает отправить его попозже, но отводит глаза. Она прекрасно понимает, что мольба госпожи никогда не дойдет до Флоренции.
Лукреция с трудом идет к окну, за которым виднеется река. Надо подумать, взвесить все «за» и «против», найти путь к спасению.
Река здесь медленная, благодушная, широкой лентой вьется у основания fortezza. Темные воды вздуваются от потоков невидимых глубинных течений, облизывают берега ленивыми охряными языками, несут листья, ветки, раздутые животы утонувших мелких животных, вязкий ил; пытаются утащить за собой и прибрежные травы, но те упорно вцепляются в землю длинными корнями, их сочные стебли гнутся по воле течения и тут же выпрямляются вновь.
Здесь река По ничуть не похожа на узенький, торопливый приток в городе или журчащее мелководье рядом с delizia. Невероятно, и эта река за окном потечет по каналам Феррары и виллы, помчится дальше, к берегу, и там ее поглотит величавое, всемогущее море…
Лукреция укладывается на подушку, закрывает глаза, и вдруг у мостков раздается цокот копыт.
— Кто это? — вскидывается Лукреция. Надежда шепчет: солдаты из палаццо, стражники отца приехали спасти ее. Конечно, весть о беде Лукреции никак не могла дойти до ушей Козимо, и все равно сердце бешено стучит о ребра, а воображение рисует, как Изабелла чудом получает ее письмо на греческом (на самом деле оно так и лежит на каминной полке), поднимает тревогу, и отец отправляет весь полк на защиту дочери.
Эмилия откладывает штопанье и выглядывает из узкого окна.
— А… Приехал наконец.
— Кто?
— Как бишь его… — Эмилия щелкает пальцами, силясь вспомнить. — Ну, художник?
— Что? — Лукреция поднимает голову: вдруг ослышалась?
— Да-да, он, — отвечает камеристка и возвращается к штопанью чулок. — Я с ним приехала.
— Себастьяно Филиппи? — пораздумав, спрашивает Лукреция.
— Кто?
— Il Bastianino?[44]
— Точно. Он…
— Ты приехала с Бастианино? С художником?
Эмилия кивает, смачивает слюной кончик нитки и продевает в игольное ушко.
— Да, я же сказала.
— Разве? — недоумевает Лукреция. — Когда?
— Когда вы в кровати лежали. Бальдассаре и еще несколько человек уехали со двора, но меня с собой не взяли. А потом этот Бастианино заявился в castello с вашим портретом. Только забрать картину никто не смог: герцог-то, конечно, был здесь, а Бальдассаре в пути. А потом…
— Постой. — Лукреция жестом прервала поток слов. — Откуда ты все это знаешь?
Эмилия пожимает плечами, мол, разве не понятно?
— Я ведь стояла во внутреннем дворе, уговаривала конюха дать мне лошадь — за вами поехать. А когда поняла, что он герцога ищет — ну и вас, конечно, — то вмешалась. Это я про Бастианино, не про конюха. Я ему сказала, куда вы с герцогом уехали. В какую-то fortezza неизвестно где, под деревней Бондено.
— Да как ты узнала?! Даже я не…
Эмилия скусывает нитку острыми зубами.
— Бальдассаре сказал секретарям, а я подслушала. Я сказала Бастианино: если он так хочет отдать герцогу портрет, пусть возьмет меня с собой. Если согласится, я скажу, где вас искать. По правде говоря, — добавляет Эмилия, — мне кажется, его волнуют только деньги, то есть плата за портрет. Знаете, он…
— Эмилия! — Лукреция затыкает уши. — Я не понимаю. Ты приехала сюда с Бастианино?
— Да, — с легким нетерпением отвечает камеристка. — И что? Я уже три раза вам сказала, мадам. Я пообещала ему рассказать, где вы, если возьмет меня с собой, а он велел сесть на коня с одним из его людей, раз уж я попала в беду…
— Но… — Непонятно, что именно в этой запутанной истории ее смущает. — Почему он только сейчас приехал? Ты уже час, как прибыла…
— Не поверите: мы добрались до самых ворот, а он захотел в лес. — Эмилия неодобрительно морщится. — Решил посмотреть, как свет на ветки падает. Чепуха какая-то. А я слезла с коня и говорю: свет там или не свет, а я пойду. Поднялась к воротам и проскользнула через черный ход. На кухне стоял шум и гам, все спорили, что готовить на завтрак герцогу и гостям со двора. Никто даже не спросил, кто я такая и зачем явилась. Я спросила поваренка, где вас искать, и все. Нашла.
— Нашла… — эхом отозвалась Лукреция. — Ты куда умнее меня!
— Скажете тоже! — Эмилия откладывает штопанье. — Прошу, мадам, ложитесь под одеяло. Как бы вам не простудиться. Простуда при такой…
Лукреция знаком просит ее замолчать.
— Тсс! Оставь меня. Надо подумать в тишине.
И вот Лукреция думает. Думает о приезде Леонелло Бальдассаре, верного consigliere мужа. О вчерашнем ужине. О мясе в красном вине, о ночном приступе рвоты. О неожиданном визите придворного художника, Бастианино; о ее портрете, который живописец привез с собой в castello. О том, как Эмилия договорилась, чтобы он взял ее с собой. И об Альфонсо. Да, об Альфонсо. Почему он ушел из комнаты? Почему не заглянул повидаться утром? Где он сейчас: внизу, в обеденном зале? На охоте? Или с Бальдассаре? Каков его следующий шаг? Наверное, уверен, что вчера она съела достаточно и уже мертва. Или хотя бы очень больна, на грани смерти. На то он и рассчитывает; прямо сейчас говорит Бальдассаре, что затея с ядом удалась, Лукреция ничего не заподозрила и не вышла утром, как они и задумывали. И скоро он придет к ней, в надежде увидеть труп молодой жены, поднять тревогу, вызвать лекаря, но увы, тот ничего не сможет поделать, слишком поздно… Они продумали каждый шаг до мелочей. Прекрасно, только она вчера не слишком проголодалась. Прекрасно, только в тайное убежище Альфонсо прибыл незваный гость — художник. Наверное, его внезапный приезд и задержал Альфонсо, потому он еще не зашел к ней и не узнал, что она вполне себе жива.
Своей поспешностью и жаждой наживы Бастианино дал ей отсрочку. Конечно, небольшую, но, может, Лукреции хватит времени переиграть Альфонсо? Не останется она в этой сырой комнате, как овечка в загоне, с трепетом ждущая удара топором. Нет уж, Лукреция удивит мужа.
Закрыв лицо руками, она спрыгивает с кровати.
— Эмилия, помоги мне одеться.
Вода с медом
Delizia, город Вогера, 1560 год
Жизнь в delizia поразительно вольготна. Лукреция приучена к деятельным дням, подчиненным строгому распорядку ее матери: обязательная месса, религиозное обучение, обеды по расписанию, уход за собой, уроки этикета, уроки музыки, манер и языков. Здесь же никто не говорит, что делать, что носить, в какую комнату идти; учителя не заставляют переписывать манускрипты. Никто не делает замечаний. Дремли себе в постели до самого полудня или просто лежи, предавайся мечтам. Носи, что пожелаешь — мама не ворвется в комнату, не станет отчитывать: дескать, платье не то, и о чем она только думала, надень это, да побыстрее, поторопись, гости ждут, почему не сделана прическа, куда подевалась служанка, чего ради она постоянно рисует на дощечке одну картинку, а потом зарисовывает другой, что за странная выдумка?.. В delizia, если захочется, дозволено хоть день-деньской рисовать далекие Апеннинские горы и каждому пику добавлять забавную мордочку, или делать маленькую картинку со шмелем в цветке (а под этой картинкой была другая: девочка с распростертыми крыльями вот-вот взмоет в небо, но это тайна). Даже есть разрешено, когда вздумается; только проголодаешься — позвони в колокольчик, и в комнату примчится слуга с целым подносом сыров, фруктов, варений и пирожков. Все, что душе угодно.
Альфонсо приходит и уходит; иногда заглядывает к Лукреции по утрам или прогуливается с ней по крытой галерее, когда спадает дневная жара. Уезжает в лес с Леонелло под охраной своих людей. Подолгу сидит в приемной, а придворные, сменяя друг друга, к нему заходят. По ночам Лукреция видит, как горит окно его комнаты. Она никогда не беспокоит Альфонсо, молча проскальзывает мимо, опустив глаза.
Лукреция и Альфонсо только приступили к обеду, и Альфонсо рассказывает о семействе оленей, которое видел сегодня в лесу. Возможно, он возьмет ее полюбоваться животными. Едва Лукреция хочет ответить, как по раме открытого окна вежливо стучит секретарь. Альфонсо встает, не договорив, и тотчас уходит. Лукреция остается в компании ваз и представляет, как будет кататься по лесу с мужем. Пробует блюдо, поправляет ленты на воротничке, а слуги снуют из кухни в обеденную и обратно, убирают тарелки и приносят новые. В конце концов стол ломится от еды, Лукреции никогда столько не осилить. А яства не кончаются, и Лукреция посмеивается в кулачок, а потом уже и в голос. Слуги довольно улыбаются, радуясь шутке и смеху маленькой герцогини. Многим позже Альфонсо возвращается к настоящему банкету нетронутых блюд.
— Надеюсь, вы нагуляли аппетит! — весело говорит Лукреция, повернувшись к мужу. — Поглядите, сколько…
Альфонсо помрачнел и даже осунулся. Сев за стол, он поднимает салфетку, словно она весом с камень.
Двое слуг на пороге весело кричат:
— Поглядите, ваше высочество! — И вносят еще блюда на потеху герцогине. Заметив лицо господина, они умолкают, ставят тарелки и поспешно уходят.
Альфонсо жует кусок ветчины, опустив голову и ерзая на стуле.
— Наверное, совсем остыла, — мягко журчит Лукреция. Таким тоном успокаивает отца мама, когда тот поглощен заботами о своей провинции. Лукреция ведь тоже так сумеет, верно? — Я попрошу подогреть ветчину, и…
— Не нужно. — Альфонсо вынимает застрявший кусочек хряща и кладет на каемку.
Лукреция оглядывает комнату. Чем бы его занять? Примерные жены всегда отвлекают мужей от всех тревог. Вот только как? Мама иногда поглаживала пальцем отцовскую бровь или бороду, но Лукреция не осмелится на такую дерзость.
— Прошу прощения, — вдруг нарушает молчание муж. — Я надолго вас оставил.
— О, меня это ничуть не обидело! Я понимаю, у вас много забот. — Глубоко вдохнув, она поглаживает его пальцы. — Ничего удивительного. Мой отец тоже не знает свободной минутки, его всегда зовут государственные дела. Мне лишь грустно, что вы так много работаете.
Он следит за движениями ее руки, будто за крадущимся зверем, скользит взглядом по лицу жены, силясь понять тайный смысл ее слов.
— Скажите… — Лукреция решается переплести пальцы с пальцами мужа. — Тот мужчина принес дурные вести? Если вы не против, я бы хотела знать, в чем дело. Вдруг я смогу как-нибудь вам помочь…
Альфонсо то ли фыркает, то ли усмехается.
— Значит, хотите мне помочь?
— Да, — с достоинством отвечает она. — Конечно.
Он криво усмехается и отпивает добрый глоток вина.
— Если вас тревожат дела при дворе, — продолжает Лукреция, — или семейные неурядицы, я могла бы…
Альфонсо с грохотом ставит кубок на стол. Взгляд мужа горит подозрительностью; слова застывают у Лукреции на губах.
— Что вам известно о моей семье? — чеканит Альфонсо низким голосом. — О моем дворе?
— Ничего.
— Что вы слышали? Что вам рассказали?
— Ничего, уверяю вас.
Он наклоняется к Лукреции, стискивает ее пальцы холодной рукой.
— Ваш отец? Он что-то говорил?
Она качает головой.
— Кто-то еще из Флоренции? Ваша мать?
— Нет.
— Кто-нибудь здесь?
Перед глазами встает мужчина, ведущий лошадь за поводья, и связка с тремя мертвыми зайцами на его седле. Она чувствует, что слова Бальдассаре должны остаться тайной.
— Нет! — повторяет она.
Альфонсо молча рассматривает Лукрецию, не ослабляя хватки, не двигаясь с места. Она отвечает ему твердым, непоколебимым взглядом, но за ним таится внутренняя борьба: нужно изгнать из головы все мысли, забыть все, что ей известно, превратить разум в чистый кусок пергамента. Она не выдаст своего тайного знания. Бальдассаре говорил о возможном отъезде сестер Альфонсо во Францию, отец и Вителли предупреждали: со смертью старого герцога феррарский двор раздирают религиозные противоречия, Альфонсо не может сладить с матерью-вдовой, ходят слухи о ее восстании, о саботаже, о неподчинении провинции его приказам. Но Лукреция ничего не знает, ничего не слышала, а если слышала, то забыла; впрочем, нет — вообще ни о чем не догадывается. Личико у нее милое, неискушенное. Простодушная молодая женушка, даже представления не имеет о делах Феррары.
После невыносимо тягостной тишины Альфонсо наконец смягчается. Откинувшись на спинку стула, он берет еще ломтик мяса.
— Я не стану обсуждать с вами подобные вопросы, — заверяет он, жуя. — Ни к чему обременять вас…
— Что вы! — перебивает Лукреция. — Разве это бремя, я только рада…
Он встречает ее слова ледяным молчанием.
— Это не входит в обязанности жены.
— Но я могу помочь! Ведь…
— Возможно, я неясно выразился. — Альфонсо поднимается и встает за стул Лукреции. — Это не входит в обязанности моей жены, моей герцогини.
— Понимаю.
Он кладет руки ей на плечи.
— У моей жены… — Альфонсо наклоняется и на каждом слове целует ее под ушком, — …совсем другое предназначение. Надеюсь, скоро она его выполнит.
Страх переполняет ее, как снег — лощину, наметает огромные незримые сугробы. Лукреция окидывает взглядом еду на столе: запеченное мясо, открытые миндальные пироги, молочный пудинг, разрезанные пополам абрикосы, начиненные творожным сыром, жаренные в масле бутоны цветов…
— Хотите чего-нибудь? — спрашивает она. — Нагуляли аппетит?
— Не к еде, — шепчет Альфонсо. — Идемте со мной.
Жизнь в delizia дает Лукреции полную свободу днем, но очень требовательна к ночи: с наступлением темноты Лукреции нужно покоряться и отдаваться, вверять себя в руки мужчины, дарить ему допуск и доступ к своему телу — и так каждую ночь без исключения. Он одержим одним стремлением — произвести на свет наследника, продолжить род. И, как всегда, непоколебим в своей решимости.
По ночам Альфонсо меняется до неузнаваемости. Переступив порог спальни, он вместе с одеждой сбрасывает личину герцога. Ему нравится откидывать с Лукреции одеяло и любоваться ею. Воздух касается обнаженной кожи, и Лукреция подавляет дрожь. Нельзя ежиться от смущения, прикрываться руками или закрывать глаза: мужу это не по душе. И потом, он больше не тот Альфонсо, что ужинал с ней за длинным столом. Ночной Альфонсо сбрасывает маску и становится существом из мифов — сплошь кожа да жилы, удивительно густая поросль волос; речное божество, морское чудовище из реки По, что вьется лентой по долине. Приняв человеческий облик, он проникает в спальню Лукреции, в постель, скользит под одеяло и сжимает ее перепончатыми пальцами, трется чешуйчатой кожей о ее кожу, овладевает Лукрецией с силой, приобретенной в долгой борьбе с морскими течениями; прикрытые волосами жабры на его шее пульсируют, жадно вдыхая земной воздух.
Теперь можно закрыть глаза: Альфонсо вступил в такое состояние, когда он и с ней, и бесконечно от нее далек. Нет, его присутствие ощущаешь остро, только разум его где-то блуждает. Лукреция нет-нет забудется и откроет глаза, и видит над собой до нелепости искаженное лицо — яростное, решительное, с выражением неутолимой потребности. Лукреция давно забыта. Ей остается лишь ждать, считать минуты. Речной бог исполняет ночной ритуал, упорно ищет утоления загадочного желания, острой тяги к слиянию с человеком; он вторгается толчками, словно хочет оставить в Лукреции свою метку; речная влага просачивается сквозь его кожу и капает на Лукрецию, будто в его теле бушуют илистые воды, и он хочет передать их Лукреции — и тогда она станет, подобно ему, морским созданием, русалкой.
Она научилась правильно дышать, расслаблять мышцы, вдавливаться посильнее в перину, чтобы не прижиматься так тесно к Альфонсо, не вздрагивать от прикосновения его руки или другой части тела. Оказывается, Изабелла не обманывала: со временем уже не так больно, а еще ему не нравится, когда она лежит неподвижно, отрешившись от происходящего. Он куда довольнее и заканчивает быстрее, если она повторяет его движения, улыбается, когда улыбается он, тяжело дышит, когда тяжело дышит он, и смотрит ему в глаза.
В такие минуты она может стать кем угодно.
Однако она не кто угодно. Она жена Альфонсо, отдана в его власть отцом и католической церковью. Она заняла место умершей сестры. Она связывает герцогство Тосканы и герцогство Феррары и родит наследников, претендующих на обе провинции, на оба дома. Такова плата за вольготную жизнь в delizia.
Но так будет не всегда. Нельзя жить в delizia вечно. Вскоре Альфонсо придется уехать в Феррару, и она поедет с ним, поселится в castello с матерью и сестрами мужа. Лукреция не представляла, как ее встретят, как отнесется к ней семья Альфонсо — приветливо или холодно, а то и с подозрением; не знала, каким окажется двор — гостеприимным или полным интриг и разногласий. Сказочная delizia, увы, лишь временная радость. Совсем скоро они навсегда переедут в Феррару; замужняя жизнь начнется по-настоящему, и Лукреция приступит к обязанностям герцогини.
А еще ей предстоит беременность. Может, она уже наступила.
Эта мысль живет в ней, как медная пуговица, которую она еще ребенком проглотила на спор (Мария с Изабеллой заставили) и больше не видела. Она вспоминает, как разбухало и уменьшалось тело матери под одеждой, разбухало и уменьшалось, снова и снова; как многочисленные беременности ослабили маме спину, и лекарь прописал ей железный корсет. La Fecundissima. Еще Лукреция вспоминает женщин, умерших в родах, и как исчезают многочисленные кузины, тетушки и жены придворных господ, и говорят о них только шепотом, а в часовне молятся за упокой их душ. Неужто Лукрецию постигнет такая судьба? Или она окажется из везучих и будет любоваться, как взрослеют дети?
Иногда ей хочется спросить Альфонсо прямо посреди их ночных сношений, когда он вертит ею то так, то эдак, будто решает загадку или приглядывается к участку земли, который нужно завоевать, когда он уже готов излиться в нее, когда прижимается к ней, словно тонет или задыхается в жаркой духоте спальни, а Лукреция — его последняя надежда на превращение в морское существо. Ее подмывает шепнуть в раковину его уха: а если я не выживу? А если роды меня убьют? Об этом ты думал?
Если он и слышит ее тихие вопросы, то никогда не удостаивает их ответом.
На вилле полдень, Лукреция ходит по комнате, перекладывает с места на место вещи: щетку для волос, расшитый бусинами кошелек, резное деревянное блюдо, кубок в форме рога. Выглядывает то из окна, выходящего во двор, то из другого, на противоположной стене, выходящего на горы. Надевает zimarra[45] и сразу сбрасывает: слишком жарко. Прошлой ночью Альфонсо не остался с ней спать. Иногда он тотчас погружался в сон и так лежал до самого утра, раскинувшись на кровати. А иногда акт бодрил его, вселял странную живость; если Лукреция засыпала во время такого настроения мужа, он тихо вставал с кровати, одевался и уходил. А перед уходом всегда наклонялся и легонько целовал Лукрецию в висок. В первый раз она вздрогнула от неожиданности, чуть не вскочила с постели; теперь привыкла, даже в какой-то мере ждала этой мимолетной ласки. Никто прежде не целовал ее на ночь.
Лукреция любуется нарядным садом, математически точными углами живой изгороди, подметенными дорожками. А за ними раскинулся густой лес, где охотится Альфонсо, еще дальше — равнина, а совсем в отдалении — горы. За горами идет Флоренция, ее семья, родное палаццо, но она не станет думать о родных, представлять их всех вместе без нее.
Лучше уж рассмотреть отражение в оконном стекле. На нее смотрит цветущая незнакомка с блестящими глазами и розовыми щечками. Синие полумесяцы под глазами исчезли, а с ними — усталость и настороженность на лице. Лукреция никогда не считала себя красавицей вроде Изабеллы или Марии. Она похожа на обеих сестер: те же томные веки, та же точеная верхняя губка, только черты сестер всегда казались правильнее. Различие тонкое, однако оно есть: глаза у нее глубоко посаженные, щеки худее, подбородок острее. Во всем ее облике — тревога, задумчивость, и даже в спокойные минуты с лица не сходит тень озабоченности. А вот девушка в отражении вполне привлекательна. Даже красива.
Лукреция поворачивается в разные стороны. Откуда эта чудесная перемена? Кожа утратила восковую бледность, и мама уже не сможет ущипнуть за щеку и назвать маленькой затворницей.
В голове стрелой мелькает тревожная догадка. Нет, не может быть! Лукреция прижимает ладони к животу. А вдруг?.. Но в этом положении женщины теряют красоту, а не наоборот.
Она ощупывает упругий живот, гадает, изменился он или нет?..
Вдруг — стук в дверь.
Вздрогнув, Лукреция отнимает руки от живота. Альфонсо? Уже вернулся?..
Вряд ли. Еще рано, у него много работы, писем, документов.
Кашлянув, она скрещивает руки перед собой. Нет, быстро прячет за спину. Нет, ставит в бока.
— Заходите!
Дверь открывается, и в комнату почти врывается Эмилия. Лукреция с облегчением выдыхает при виде камеристки.
— Мадам, с вашего позволения… — начинает Эмилия, растерянная таким приемом. — Его высочество велел вас подготовить. Я предупредила, что вы, наверное, спите, а он сказал, что хочет вам что-то показать…
— Хорошо. Спасибо, Эмилия. Давай приступим.
Эмилия кивает, берет льняное полотенце и растирает кожу Лукреции. Потом, нагрев в руке бутылек фиалкового масла, втирает его в ноги, грудь и спину госпожи. Лукреция молча терпит процедуры; поднимает руку, поворачивает запястье, сгибает ноги в коленях, поворачивает шею то в одну сторону, то в другую. Этот ритуал всегда напоминает ей о матери: в конце концов, она его и придумала, составила строгий порядок действий, велела обучить ему всех служанок в палаццо, чтобы дочери всегда представали в лучшем свете.
Лукреция вздыхает. И она, и Эмилия знают, что после фиалкового масла последует мытье ног, чистка ногтей, протирание цветочной водой, расчесывание волос. Уход за собой ужасно утомителен, напоминает однообразные заботы садовника, что пропалывает клумбы и подстригает живую изгородь. К чему им с Эмилией этот ежедневный ритуал? Какая разница, соблюдать его или нет? Ее вдруг осеняет: необязательно терпеть, если не хочется! Никто ведь не проверит, не отметит зорким взглядом.
Догадка наполняет ее, живительная вода цветов, и поднимается по ногам до самого пояса. Потрясающее открытие! Она ничуть не удивится, если оглядит себя и увидит совсем другого человека.
— Оставь. — Лукреция отнимает руку.
— Но… — удивляется Эмилия, застыв с палочкой из орешника в руках — ею камеристка собиралась отодвинуть кутикулу госпожи. — Меня учили…
— Просто займись волосами, пожалуйста.
Эмилия нерешительно кладет палочку и тянется к флакону с цветочной водой.
— А ее?..
— Только волосы.
Лукреция сидит на стуле, гордо выпрямив спину; кровь стучит в висках.
— И не надевай scuffia[46]. Сегодня слишком жарко. Заплети волосы в косу, только не туго, и не закалывай, пусть лежат на спине.
Эмилия открывает было рот, но решает смолчать. Берет щетку и гребни, разделяет волосы на пряди.
— Женщинам разрешено не покрывать голову в первый год замужества. — Лукреция поднимает подбородок и с вызовом глядит на собственное отражение: дескать, попробуй поспорь.
— Да, мадам.
— Так мне сказал герцог. Феррарский обычай.
— Да, мадам.
— Мы уже не во Флоренции.
— Верно, мадам.
Они встречаются взглядами в зеркале; Эмилия едва удерживается от улыбки, и Лукреция прыскает.
— Уж не знаю, что скажет ваша матушка, — невнятно мычит Эмилия с полным ртом шпилек.
— Ее здесь нет.
— Тоже верно.
Лукреция наблюдает за собой и Эмилией в зеркале.
— У нас похожие волосы, не находишь?
Эмилия пожимает плечами.
— У вашей светлости волосы рыжее и красивее. И намного длиннее. Мой отец был солдатом из Швейцарии, мама сказала, волосами я пошла в него.
— Хороший был человек?
— Я его не знала, мадам.
Лукреция вспоминает швейцарских стражников — рослых, широкоплечих мужчин с голубыми глазами — и их казармы в подвале палаццо.
— А почему я до свадьбы не видела тебя в палаццо? — удивляется Лукреция, вертя в руках шпильку.
Эмилия на миг замирает и принимается расчесывать с удвоенным усердием.
— Не знаю, мадам.
— Ты прислуживала в другом месте?
Эмилия удивленно вскидывает голову.
— Нет-нет, я родилась в палаццо. Я прожила там всю жизнь.
— А почему мы никогда не пересекались?
Эмилия дважды проводит щеткой по пряди, прежде чем ответить.
— Я вас частенько видела, мадам, — осторожно выбирает она слова, — когда вы были еще малышкой. Вы, наверное, и не помните. И когда повзрослели, я вас иногда встречала. Мы с мамой прислуживали на нижних этажах, редко попадались вам на глаза.
— А где прислуживает твоя мама?
— На кухне.
Лукреция отвлекается от шпилек и поднимает глаза на камеристку, удивленная ее уклончивым ответом. Красивое, но изувеченное личико Эмилии непроницаемо, словно ставнями закрыто.
— Так твоя мама?.. — нерешительно продолжает Лукреция.
— Она умерла, мадам.
— О, мне очень жаль, Эмилия! Я…
— Три месяца назад.
— Упокой Господь ее душу.
— Спасибо, мадам. Я… Она… — Эмилия хмурится, закусывает губу и скороговоркой выпаливает: — Моя мама вас любила. Когда София попросила меня стать из простой служанки вашей камеристкой, мама очень обрадовалась. Ей приятно было… что я буду при вас.
— Твоя мама меня любила?..
— Да… Она… — Эмилия снова мешкает. — София не рассказывала?
— О чем?
— Моя мама была… вашей balia. Молочной матерью. Вы не знали?
— Нет! — изумляется Лукреция. — Я помнила женщину, но никто не говорил… Прости, я и не догадывалась! Так ты моя…
Эмилия улыбается и отточенным движением разделяет волосы Лукреции на три пряди.
— Я года на два старше вас. Помню вас еще маленькой. Я с вами играла. Мы были вместе, когда я… — Эмилия показывает на шрам. — Поранилась.
— Как это произошло?
— Мы с вами играли в прятки. Нам запретили бегать у огня. Мы уронили котел с кипятком. Еще бы вот столько, и на вас попало. — Эмилия приблизила большой палец к указательному, оставив чуточку места. — Вы так закричали, будто сами обожглись, и обняли меня крепко-крепко.
— Эмилия, какой ужас! Я…
Камеристка грустно улыбается.
— Уж лучше я, чем вы.
— Ну нет, лучше никто.
— Да, но раз так вышло, то хорошо, что изуродовало меня, а не вас.
Обе умолкают. Лукреции отчаянно хочется возразить, она пытается вспомнить тот случай — игру в прятки, звон упавшего на пол котла, кипяток и пар.
Эмилия продолжает:
— Потом, когда вы подросли, уже заговорили и ходить начали, София вас утаскивала на кухню.
— Утаскивала? Зачем?
— Вас тогда переселили в детскую. Вы все плакали и плакали, и никто вас не мог успокоить, только… — Испугавшись, Эмилия добавляет: — При всем уважении к вашей матушке, то есть ее высочеству… Мадам, поймите, я ничего дурного не имела в виду…
— Рассказывай, я не обиделась. Почему София меня утаскивала?
— Ну, она приводила вас на кухню. Вы плакали да плакали, а при виде моей мамы сразу улыбались и на ручки просились, а на глазах еще слезы не высохли! Все смеялись. Я вас учила прятаться под стол, мама давала нам котлы и ложки, и мы баловались с мукой. А иногда…
Чудесный рассказ прерывает открытая дверь — ее настежь распахивает Альфонсо; его лицо скрыто под тенью мягкой шляпы.
— Готовы?
Эмилия вздрагивает, роняет щетку и тянется за ней, почтительно склонив голову.
— Почти, ваша светлость.
— Уже иду. — Лукреция успокаивает мужа взглядом: пусть идет, а Эмилия закончит прическу.
— Я вам кое-что приготовил, — манит он. — Приходите побыстрее.
Альфонсо разворачивается и уходит прочь по коридору.
Эмилия наклоняется к Лукреции.
— Я слышала, при дворе не все ладно, — шепчет камеристка.
— Во Флоренции?
— Нет, мадам. В Ферраре.
Лукреция поворачивается на стуле.
— Не все ладно? Что ты слышала?
Эмилия косится на открытую дверь — вдруг Альфонсо подслушивает?
— Этим утром из Феррары приехал эмиссар, так вот его слуга рассказал конюху, а тот — служанке, которая в комнатах убирает, а она уже мне, что ее высочество, мать герцога, прямо сейчас готовится уехать со двора, тайком от всех. Его высочество герцог знать об этом не должен, но его люди, ясное дело, за ней следят, и один…
— Зачем ей это? Альфонсо сказал, что она дождется нашего приезда, а потом уже, в нужное время…
— Нет. Оказывается, она давно задумала уехать, еще когда его высочество в последний раз появился при дворе. Помните, когда он вдруг исчез посреди гор? Тогда его высочество с матерью ужасно поссорились, вот она и решилась. Шпион герцога сказал, что она велела приготовить вещи и лошадей на завтра, и…
— Бедный Альфонсо! Я должна… — Она привстает и тут же снова падает на стул. Что она должна? Он ведь ясно объяснил: его дела ее не касаются. — Надо…
— Я слышала, сам Папа приказал ее выслать, — благоговейно шепчет Эмилия, — но его высочество герцог всем хочет показать: мать уедет, когда он сам того пожелает.
— Да, знаю.
— Но теперь ее дочери тоже хотят уехать, ну и…
— Она собирается забрать сестер Альфонсо? — прерывает ее Лукреция. — Ему не понравится. Он никогда не позволит…
— Почему? Разве запрещено дочерям поехать с матерью, если…
— Не важно. — Лукреция качает головой. — Продолжай. Рассказывай, что еще знаешь.
Эмилия пожимает плечами.
— Я слышала, герцог с матерью повздорили из-за религии. Странное дело, конечно, а с другой стороны, старая герцогиня ведь француженка, вдруг…
— Она протестантка. Обещала оставить прежнюю веру, но похоже…
Эмилия истово крестится, защищаясь от ереси.
— В общем, герцог очень расстроился, когда эмиссар все ему открыл. Слуга эмиссара сидел в соседней комнате и сказал: герцог что-то бросил в стену и обещал посадить мать с сестрами в темницу да вдобавок высечь за неподчинение. Представляете? Родную мать…
— Не мог он такого сказать, — перебивает Лукреция. — Наверное, слуга ошибся. Вероятно, Альфонсо говорил о придворном или о… о лакее. Его мать — сама Рене Французская. Она поступает так, как считает нужным. Он бы никогда… о благородной женщине…
— Да, мадам, — склоняет голову Эмилия. — Вы правы.
Лукреция резко встает. Шпильки давят на голову, camiciotto тянет под мышками. День, начавшийся так хорошо, стал зловещим и мрачным.
— Все уверены, что герцог скоро поедет в Феррару, — болтает Эмилия, поправляя ворот платья Лукреции. — Не знаю…
— Спасибо, Эмилия. — Лукреция жестом отпускает ее. — Ты свободна.
Потом встает и выходит в коридор, оставив служанку наводить порядок в комнате.
Лоджия встречает ее ослепительным белым светом. Солнечные лучи безжалостно заливают двор до краев, а небо за арками бурлит от жара и пылает, как раскаленная печь, обжигает виллу свирепым дыханием.
Глаза Лукреции, привыкшие к прохладному полумраку комнат, никак не приспособятся. Она идет на ощупь, смежив веки и опираясь на колонны. Ей видятся выбеленные силуэты троих людей: двое стоят напротив третьего. Жара и свет лишают их цветов и контуров; они напоминают скелеты или голые деревья. Густой воздух доносит переливы их голосов. Низкий голос — ее мужа, голос повыше — незнакомый, и еще один, бесстрастный и гнусавый — должно быть, Леонелло.
Лукреция напрягается, навостряет уши. Подобно цветку, тянущемуся к свету, она готова впитать все, что витает в воздухе.
— …сумасбродство, и с каждым днем все хуже, — недоволен муж.
— Докажите всем, что не потерпите подобного! — отзывается Леонелло. — Накажите ее… нет, их всех, чтобы другим неповадно было.
А третий собеседник, эмиссар, добавляет:
— Допустим, ее высочество и дочерей…
От говорящих отделяется высокая стройная фигура и шагает к Лукреции. Чем ближе силуэт, тем четче он становится, приобретает отдельные черты. Искусно вышитая рубашка, копна черных волос.
— Лукреция, — приветствует Альфонсо супругу, как обычно, едва разжимая губы, и тянется к ее руке.
По нему и не скажешь, что пришли дурные вести из дома, что с матерью у него разлад, а при дворе — опасные волнения. На лице только благородная сдержанность. Неужто Эмилия сказала правду? Нет, наверняка ошиблась.
— Пойдемте? — Альфонсо слегка кивает недавним собеседникам, показывая: их присутствие утомительно. Он умеет сказать многое лишь одним маленьким жестом.
— Конечно.
Он берет ее под руку, и они вдвоем гуляют по лоджии. Лукреция чувствует на себе взгляды Леонелло и второго мужчины, но упорно смотрит на конец галереи и на мужа, пока он рассказывает об утренней охоте. Незачем оборачиваться на тех двоих: пусть думают, будто она их вообще не замечает, пусть Альфонсо думает, что она ни о чем не догадывается. Уж такую малость она может ради него сделать.
В конце лоджии Альфонсо удивляет Лукрецию: вдруг становится ей за спину и закрывает глаза руками. Она ничего не видит; почти все ее лицо спрятано под ладонями мужа. Он всем телом прислоняется к ее спине и так сдавливает ее плечи, что она не может шелохнуться.
Лукреция испуганно вдыхает. Она не выносит этой игры, но как повежливее объяснить это Альфонсо? У Марии была привычка хватать Лукрецию со спины, закрывать глаза руками или завязывать платком и забавы ради водить по комнате — пусть себе врезается в кресла и каминную решетку.
Лукреция невольно поднимает руки. Вместо собственных черт — выступа носа, гладких щек и бровей — она нащупывает пальцы, волосатые кисти, рельеф крупных костяшек. Она пытается игриво отодвинуть руки мужа, но сердце так и бьется в груди. Что он делает? Зачем? Это как-то связано со старой герцогиней и разногласиями при дворе?
— Я приготовил вам подарок, — шепчет Альфонсо.
— Мне? — Лукреция едва сохраняет спокойный тон. Впрочем, к чему волнение? Альфонсо не допустит, чтобы она наткнулась на что-нибудь твердое. Не допустит, чтобы набила синяки на голени или колене. Не допустит ведь?..
— Да. Мне… — Он внезапно умолкает, хотя обычно не склонен к заминкам. — Мне нужно срочно уехать.
— Куда? — спрашивает она, хотя знает ответ.
— В Феррару. Всего на день-два, не более. Увы, без меня не обойтись, иначе я отправил бы Леонелло. Придется поехать, голубка моя. Ненадолго.
— Может… я тоже поеду? — отзывается она. От ее дыхания ладони Альфонсо потеют, ресницы Лукреции щекочут ему кожу.
— В другой раз. Совсем скоро я отвезу вас в Феррару и представлю ко двору. Я думал, мы погостим здесь еще примерно месяц, но планы изменились, нам пора домой. Мы вместе проедем через городские ворота, будет пышный праздник, толпа зевак, и все увидят, какая вы красавица. Но сегодня я отправлюсь в путь быстро и без всякой пышности.
— Так вам угодно, чтобы я осталась?
— Вам здесь ничто не угрожает. Я забираю только Лео. И стражники, и слуги, и священник никуда не уйдут…
Он заводит Лукрецию за угол, убирает руки с ее лица и кладет ей на талию.
Лукреция моргает от безжалостных лучей, припекающих голову.
Перед ней стоит какой-то зверь, ослепительно-яркий в свете солнца; его тень чернеет на земле. Огромная собака. Нет, лошадь. Нет… Что же это?
Она прикрывает глаза от солнца. К орешнику привязано животное вроде лошади, но поменьше, с изящной узкой мордой и длинным подвижным хвостом. Шерсть у него снежно-белая, от длинной гривы до гладкой щеточки над копытом. На спине зверя красное дамское седло, тисненное позолотой, с золотыми колокольчиками на бахроме.
— Это мне? — шепчет Лукреция.
— Вам. — Альфонсо обнимает ее со спины и кладет подбородок ей на голову. — Очень редкое животное, помесь лошади и осла. Ее вывел местный крестьянин. Самка белого мула. Такие рождаются примерно раз в сотню лет. Как только я про нее услышал, сразу велел купить. Это мой подарок.
Не теряя времени на разговоры, Альфонсо подхватывает Лукрецию на руки, ведет к мулице и опускает в красно седло.
— Вот, — говорит муж и поправляет стремя, чтобы Лукреции удобнее было вставить ступню. — И вот. — Он передает ей красно-золотые поводья, затем берет уздечку и щелкает языком. Мулица трогается с места.
Они гуляют по нижнему двору, вокруг орешника, чьи ветви колышутся под тенью крыши. Мулица ступает в неспешном ритме, высоко приподнимает копыта с грацией танцовщицы. Лукреция крепко держит поводья и выпрямляется: приятно качаться в такт шагам животного. Она гладит белую бархатистую гриву, наклоняется посмотреть, как бледные копыта осторожно притаптывают землю.
Альфонсо ведет ее в одну сторону, затем в другую. Завидев их, Леонелло и эмиссар тотчас умолкают. Когда Лукреция проезжает мимо под скрип тисненого седла и звон колокольчиков, эмиссар отвешивает ей низкий поклон. Альфонсо объясняет, что мулицу будут содержать в конюшне для лошадей, так как их успокаивает присутствие мулов; Лукреция может кататься, когда захочет.
Лукреция наблюдает за затылком мужа, движениями его плеч под рубашкой; он уверенно и свободно держит уздечку, поглаживает мулицу по молочно-белой шее и целует в мягкий нос.
Они беседуют, как любые супруги. Он хвалит ее умение держаться в седле, она объясняет, что конюхи по приказу отца учили ее ездить на пони — то была часть обучения всех герцогских детей. Одобрительно кивая, Альфонсо обещает также обучать своих детей верховой езде с ранних лет. Лукреция краснеет; Альфонсо, заметив ее смущение, добавляет: мулица отлично ей подойдет, когда она будет в положении. Конечно, он не позволит ей кататься на лошади, рисковать жизнью наследника — да и какой муж в здравом уме решился бы на такое? А вот езда на муле — весьма полезное упражнение, легкое и спокойное, подводит итог Альфонсо, гладя свой подарок по гриве.
Взгляд Лукреции цепляется за пятно чернил на запястье мужа и еще за одно, на указательном пальце. Она старается не думать о наследниках, уроках верховой езды и о животном, которое купили специально для ее будущих беременностей. Альфонсо просовывает палец под ремешок уздечки — наверное, смотрит, не натирает ли.
Он волнуется, удобно ли животному, и в то же время грозит сестрам и матери заточением и поркой. Как такое возможно?..
Узнать бы, какие у него заботы, правда ли мать не подчиняется его приказам и хочет уехать во Францию вопреки запрету, как он ее остановит, действительно ли его сестры уедут со двора и поклянутся в верности другому государству. Осмелься Лукреция дать мужу совет, она сказала бы: «Попросите мать остаться дома. Скажите, что будете скучать без нее и без сестер. Попробуйте нежность вместо приказов». Если они нарушат волю Альфонсо и уедут со двора, скандала не миновать: ее отец и его советники много раз насмехались над мужчинами, неспособными уследить за членами семьи. Как распоряжаться провинцией, если и женщин поставить на место не можешь? Такая слабость дорого обходится, ибо враги бдительны и замечают каждый промах. Так говорил отец. Хочешь понять мужчину — узнай, как он решает семейные неурядицы, часто повторяла мать, София и придворные, причем не без гордости: отец Лукреции не сносил предательства и мятежа ни при дворе, ни в провинции. Наверняка и Альфонсо таков.
Как он поступит? Как удержит мать и сестер от отъезда? Неужто свои приказы он считает выше воли Папы?.. Вопросы так и рвутся наружу, вот-вот вылетят, причем не важно, в каком порядке.
— Совсем скоро, — продолжает Альфонсо, ведя мулицу от лоджии к открытым воротам, — начнется работа над вашим портретом. Эскизы и так далее.
Почему он так удивительно собран, так невозмутим?
— М-м-м, — только и произносит она, размышляя об инакомыслии при дворе и сестрах Альфонсо.
— Вы недовольны?
— Довольна! — поспешно заверяет Лукреция. — Очень довольна.
— Мне казалось, вам будет приятно, — немного огорчился он.
— Конечно! Простите мою рассеянность. Я задумалась… кое о чем. О портрете. Хотелось бы… поскорее его увидеть.
— Я знаю, вы увлечены живописью, поэтому…
— О да, — соглашается она, хотя увлекаться — это одно, а часами позировать художнику — совсем другое. Впрочем, она удерживается от замечания. — Вы правы.
— Я решил начать с простого супружеского портрета. Конечно, в свое время появятся и другие, на них вы будете с детьми. Я уже выбрал знакомого художника, он расписывал многие комнаты в castello. К тому же обучался у величайшего из мастеров, самого Микеланджело. С формой пока не определились. Лучше всего, полагаю…
Альфонсо говорит и говорит, но Лукреция уже не слушает: ее внимание привлекают голуби, что ходят по крыше и, забавно наклоняя голову, воркуют одну и ту же мелодию из пяти нот. Крошечные насекомые собираются в стайки над кроной орешника, будто обсуждают какой-то важный вопрос и никак не могут прийти к согласию. Мулица отводит мягкие треугольники ушей то назад, к Лукреции, то вперед к Альфонсо, то обратно к Лукреции, словно прислушивается к их разговору и не понимает, что же происходит между супругами. Вдалеке стоит Леонелло; в отличие от Альфонсо, он поглощен делами: приказывает слугам уложить в седельную сумку одежду, бумаги, тканевые мешки; его нога в гибком кожаном сапоге беспокойно постукивает по утоптанной земле двора, жилы на шее напряжены.
Лукреция наблюдает со спины своего редкого белого мула, как мальчик-слуга с открытым детским личиком спотыкается о низенькую каменную ступеньку и падает вместе с поклажей. Сундучки и мешочки валятся из его худеньких рук. Бумаги и сургучные печати рассыпаются по иссохшей земле. Мальчик встает на колени и поспешно собирает вещи, стряхивая с них грязь. Старший слуга — секретарь герцога — громко бранит его и дает подзатыльник. Бедный мальчик! Наверное, эти бумаги очень важны. Интересно, зол ли Альфонсо?.. Тут Леонелло Бальдассаре не глядя поднимает мальчика за воротник и бьет его лицом о твердую деревянную крышку упавшего сундука — один раз, другой, третий.
Ясный день тотчас мрачнеет, будто солнце спряталось за тучи; звуки жестокого наказания, ударов мягкого о твердое, отдаются эхом по всему двору, отскакивают от каменных плит, стен, изумленных лиц остальных слуг. Звук такой, будто на пол вновь и вновь падает кочан капусты.
Лукреция привстает в сиденье, упершись ногой в стремена, и тянет руку к мальчику.
— Ради бога! — срывается с ее губ. — Довольно! Хватит!
Бальдассаре не спеша поворачивается к ней. Его лицо неподвижно, глаза тусклые, как два камешка. Мальчик до сих пор висит в воздухе, поднятый безжалостной рукой, — окровавленная, пищащая от страха марионетка. Конечно, Альфонсо этого не потерпит, он прикажет Леонелло отпустить мальчика.
В действительности же Бальдассаре, не спуская глаз с Лукреции, напоследок еще раз бьет мальчика лбом о сундук, потом швыряет ребенка наземь, берет у секретаря платок и вытирает пальцы. Несколько слуг бросаются к мальчику и уносят несчастного с глаз долой.
Альфонсо ничего не делает. Альфонсо ничего не говорит. По Альфонсо и не скажешь, что он видел нечто предосудительное. Альфонсо ведет мулицу по террасе к концу двора и дальше, к тропинке в сад.
Лукрецию потряхивает, дрожащие руки едва не роняют узду. Что делать, что сказать? Она никогда не видела ничего подобного. Конечно, дома слуг тоже наказывали — и родители, и другие знатные придворные, но чтобы так… Могли прикрикнуть, самое большое — дать легкую затрещину, и все. К подобной жестокости Лукрецию не готовили.
— Альфонсо, — начинает она, когда они с мужем остаются наедине. Судя по непреклонному виду, первым заговаривать он не намерен. — Вам не кажется, что это… чересчур? Бедный ребенок ни в чем не виноват, все же видели. Вы могли бы поговорить с Леонелло, объяснить ему…
Резко натянув вожжи, Альфонсо останавливает мула и с улыбкой рассматривает Лукрецию. Та отвечает ему недоуменным взглядом. Как можно улыбаться после случившегося? Чем он объяснит поведение Леонелло? Если ей и казалось, что она получше узнала мужа, что немного приблизилась к нему, то теперь это чувство испарилось без следа. Перед ней стоит незнакомец, совсем чужой человек. Он не соглашается с ней, не говорит: да, Бальдассаре слишком сурово наказал слугу, мальчик не заслужил такой жестокости. Нет, Альфонсо лишь поглаживает Лукрецию по щеке чуть согнутыми пальцами.
— У вас доброе сердце, — шепчет он, убрав за ухо прядку ее волос. — Из вас выйдет отличная мать.
Его голос нежен, как и слова, однако под ними течет подземный поток черных, едких вод.
— Тем не менее напоминаю: мои приказы и решения не обсуждаются, — тем же тоном добавляет Альфонсо. — Я наказываю за неповиновение. Строго и без лишних разговоров. Надеюсь, я доходчиво объяснил?
О чем речь? Кого наказывает? Опять мальчика? Он всего-то уронил шкатулку!
— Леонелло, — мягко втолковывает муж, — мое доверенное лицо. Мое орудие. Мой отец выбрал и обучил его во имя единственной цели — быть моим consigliere. Он перо в моих руках, меч у меня на поясе, если можно так выразиться. Он говорит моими словами и воплощает мои решения. Оспаривать его власть — значит оспаривать мою. Это ясно?
— Да, — произносит Лукреция.
— Понимаю, вы молоды и впервые при моем дворе, поэтому я закрою глаза на ваш проступок. В первый и последний раз. Ни при каких обстоятельствах не выставляйте Бальдассаре в дурном свете, особенно при других. Слышите?
Он ждет нужного ответа, но Лукреция боится, как бы вместо него с губ не сорвались совсем другие слова, которые ему отнюдь не понравятся, и потому молча кивает.
— Отлично. — Наклонившись, Альфонсо целует ее в губы. — Хорошо, что договорились. Вернемся ко двору.
Альфонсо дергает вожжи и поворачивает обратно к вилле.
Изогнутые ветви орешника, дрожа от порывов ветерка, мрачно вырисовываются на фоне ляписного неба.
Альфонсо и Леонелло уезжают с наступлением прохлады. Лукреция выходит во двор пожелать им доброго пути. Альфонсо седлает высокого черного жеребца с подвижными блестящими глазами. Лукреция стоит вдалеке, приобнимая рукой колонну лоджии.
Леонелло остается на том же коне, на котором выехал из леса, когда она гуляла. На сей раз к седлу не привязаны зайцы, вместо них только доверху набитые кожаные мешки и бурдюк. Лукреция избегает взгляда Бальдассаре.
Альфонсо сказал, что путь до castello займет час или два.
— До встречи, — прощается он. — До встречи, храни вас Бог!
Жеребец изворачивается на блестящих копытах, грызет удила и тянет голову к Лукреции, словно ему нужно взглянуть на нее и что-то передать; Альфонсо уверенно дергает вожжи, и конь фыркает, вырывается из жесткой узды, хочет побороть хозяина. «Зря стараешься, — мысленно говорит Лукреция. — Альфонсо тебе не даст поступить по-своему». И конечно, Альфонсо щелкает языком в предупреждение и натягивает узду посильнее.
— До встречи! — повторяет он.
Лукреция машет платком в неподвижном, влажном воздухе. Коней чуть заносит на выезде из виллы, и наконец скакуны пускаются галопом, цокая копытами.
Альфонсо нет весь день и следующий — куда дольше, чем ожидала Лукреция. Непонятно, хороший это знак или плохой. По ночам она закрывает спальню на щеколду и погружается в ровный сон без сновидений, раскинувшись на кровати крестом.
Она расспрашивает про мальчика-слугу. У него сломан нос и треснуло несколько зубов, но он идет на поправку. Лукреция просит давать ребенку маковый сироп и крепкий бульон, чтобы скорее выздоровел, а через Эмилию посылает несколько монет, чтобы покрыть расходы.
Лукреция гуляет по пышным садам, цветочным беседкам и галереям, бродит меж стволами деревьев в лесу, и за ней неотступной тенью следует гвардеец. Лукреция собирает яркие цветы, пружинистые горстки мха, плотные листья с прожилками, грибы со складчатыми шляпками, сброшенные иглы дикобразов. На деревьях она постоянно высматривает куниц-белодушек: безумно хочется увидеть их в жизни, а не только на полотне! Увы, объясняет гвардеец, этих зверушек здесь очень мало, почти всех перебили охотники. Каждый день она приносит мулице то яблоко, то грушу. Просит слуг ее подсадить и катается около лоджии, а потом сворачивает к садам. Гвардеец ведет животное за повод, чтобы не споткнулось на неровной земле. Лукреция прекрасно ездит верхом, но не хочет обижать слугу и кивком принимает его помощь. Она разрешает мулице щипать кусты шалфея и тимьяна, чтобы в конюшне пахло лугом и летом.
Лукреция носит свободные платья, похожие на те, которые носила в детстве, ходит босиком и почти всегда — с распущенными волосами.
Вместо тяжелых блюд, например, любимых мужем мяса и рыбы, она заказывает повару молочные пудинги, свежий хлеб с соленой корочкой, разрезанные фиги, начиненные творожным сыром, и абрикосовый сок в изящном кубке.
На третье утро без Альфонсо Лукреция заходит в парадную залу, накинув поверх платья легкий пеньковый халат для рисования. С интересом разглядывает фреску с двенадцатью подвигами Геркулеса, изучает вздутые мышцы под его потной кожей. Наклоняется к стене и всматривается в крошечные мазки на зернистой поверхности темперы — следы далекого художника, что пытался укротить сухие красители и строптивую желтковую смесь, которая так быстро высыхает. Должно быть, индиго и горную лазурь мастер смешивал прямо здесь, по приказу предка Альфонсо; теперь эти цвета потускнели, утратили чистый оттенок, спрятались в глубине стены на долгие века. Вот бы они разом ожили, вернулись к прежней яркости, повинуясь власти какого-нибудь магического знака или тайного заклинания. И тогда глаза Геркулеса вновь поразили бы небесной синевой, бледно-розовая набедренная повязка заалела бы, горы под его ногами зазеленели бы от свежих побегов. Лукреция вдыхает запах ржавчины, пыли и слабый дух разложения.
На столе у окна расставлены предметы для натюрморта: чаша с персиками, кувшин с водой, медовые соты на зеленом блюдце, лежащие в озерце собственной густой влаги. Лукреция задумчиво наклоняет голову. Темно-фиолетовая ткань прекрасно гармонирует с оранжевым оттенком персика и золотом меда, но в то же время создает яркий фон и ниспадает красивыми складками. Солнце гладит округлые фрукты пальцами-лучами. Надо торопиться, пока свет подходящий, потом цвета изменятся. Альфонсо может вернуться в любую минуту, и рисование придется отложить. Нужно растолочь шафран, кошениль, сердцевину ириса, и… что еще? Лукреция отходит к мольберту, где стоят привычная обструганная tavola, кисти, ступка с пестиком и устричные раковины с льняным маслом, готовым впитать толченый краситель. Она хочет закрасить вчерашнюю картину, на которой получеловек-полурыба выползает на берег, и его серебристый хвост мерцает серебром в лунном свете. Сердце Лукреции снова грустно екает. Жаль, что такая картина исчезнет без следа под другой и никто ее больше не увидит.
Иначе нельзя. Никто и не должен ее видеть. Выход один — зарисовать ее другой картиной. Сверху Лукреция напишет невинный и благопристойный натюрморт с медом и фруктами. Самое подходящее занятие для юных герцогинь.
Она уже тянется к мелку, чтобы набросать поверх чешуйчатого хвоста тритона овальную форму чаши и округлые очертания персиков, как вдруг раздается странный шум.
Громкий удар, словно бы об пол, звучит в нескольких комнатах от нее: наверное, бросили мешок или сверток ткани. Сейчас послышатся шаги.
Ничего. Ни звука. Никаких шагов. Вообще никакого движения.
Лукреция смотрит на мелок в руке, на речную зыбь, которую рисовала до ночи, на тусклые, но честные глаза Геркулеса на фреске, на острый меч в его руке, занесенный над многоликой Гидрой. Затем откладывает мелок, вытирает пальцы о ткань и выходит из гостиной в атриум; идет через комнату с алебастровым рельефом, на котором из головы Зевса является Афина, и лицо бога-громовержца искажено от боли; минует вестибюль, где на столе сохнут какие-то стебли — кажется, тростника; и наконец попадает в коридор, ведущий из центрального двора к арочному окну, из которого видно всю долину.
И замечает на полу человека.
Удивленно моргнув, Лукреция делает шаг вперед. Мужчина как с неба свалился, его рубашка ослепительно белеет на терракотовых плитах.
— Синьор? — неуверенно зовет Лукреция. — Вы меня слышите?
И осторожно подталкивает его носком. Бесполезно. Тогда Лукреция садится рядом и неуверенно касается плеча мужчины.
— Синьор?
Он не отвечает, но поворачивается на спину, и теперь Лукреции видно его лицо.
Нет, прежде она его не встречала. На голове незнакомца корона русых локонов, на плече висит вместительная кожаная сумка. Одежда и обувь простые, на манжетах нет вышивки, на пальцах — колец, плащ под спиной сшит из грубой ткани. Однако и на слугу мужчина не похож: стежки на туфлях искусные, руки мягкие, с длинными, выразительными пальцами.
Откуда он? Лукреция оглядывает коридор. Зовет на помощь, а в ответ — тишина. Видно, мужчина прибыл совсем недавно: одежда в пыли, сумка набита вещами — то ли его собственными, то ли посылкой для кого-то на вилле. Из каких краев он приехал и зачем?
А еще ему очень плохо. Несчастный без сознания; глаза закатились, веки тяжелые, челюсть отвисла. Кожа на руке ледяная, как мрамор, липкая и скользкая от холодного пота. Нет, это не просто обморок от жары или обезвоживания, тут совсем иное!
— Синьор! — громче повторяет она и хлопает незнакомца по щеке. Увы, его голова только заваливается набок. Дышит он часто, поверхностно.
Чутье подсказывает Лукреции, что незнакомец умирает у нее на глазах, прямо на рыжеватом полу. Даже в прикосновении к его коже таится предчувствие смерти; он ускользает в место, откуда нет возврата.
Страх сдавливает Лукреции горло. Она трясет мужчину обеими руками. Кричит во весь голос:
— На помощь! Кто-нибудь! Помогите!
Лицо незнакомца сереет, глаза вваливаются, губы синеют. Дрожащими пальцами Лукреция развязывает шнурки на горловине его рубашки. Может, ему станет легче дышать? Краем сознания она подмечает, до чего странно касаться незнакомца, его горла, ключиц, ощущать неровный пульс вен на его шее; его тело совсем не похоже на тело Альфонсо: тот фехтует, ездит верхом, охотится. Альфонсо — весь мышцы и кости под бронзовой кожей. Этот мужчина — нет, скорее юноша — куда мягче, плоть его податлива и нездорово бледна.
— Пожалуйста, — шепчет Лукреция в неподвижное лицо. — Прошу, очнитесь!
Умирающий напоминает ей иностранного вельможу, который приехал в отцовское палаццо и потерял сознание на мессе; рухнул на пол часовни лицом вниз, как срубленное дерево. Маленькая Лукреция навсегда запомнила серое лицо и вялые руки. София ей объяснила: есть такая болезнь крови (но какая, какая?!), когда у человека избыток красной крови или, наоборот, недостаток, какой-то дисбаланс… Лукреция уже забыла, помнит только, что умирающему сановнику влили в рот воду с медом. С тем гостем приехал мужчина постарше — наверное, его отец, велел дать ему мед и стакан воды и бросился к слугам, когда они принесли нужное. Видно, это средство было ему хорошо знакомо.
Лукреция мчится по вестибюлю, алебастровой комнате, атриуму, хватает со стола блюдце с медовыми сотами, кувшин, ложку и со всех ног бежит обратно; вода выплескивается ей на запястье и грудь.
Юноше стало хуже; он гаснет, дышит хрипло, прерывисто; его лицо обратилось в глиняную маску.
Главное не умолкать, пусть ее голос достигнет несчастного даже в беспамятстве, пусть станет ему ориентиром, пусть юноша знает: есть рядом человек, который хочет вернуть его в мир живых. Есть еще за что бороться. Лукреция говорит и говорит без умолку, смешивая мед с водой дрожащими пальцами.
— Не знаю, кто вы и откуда, но прошу, останьтесь! Слышите? Держитесь! Мы в delizia в Вогере. Что привело вас сюда с такой тяжелой сумкой? Ну же, выпейте, один глоточек.
Лукреция наклоняет ложку со снадобьем к сжатым губам юноши, однако голова у него странно вывернута, и драгоценная жидкость вытекает изо рта на пол.
— Прошу, — молит Лукреция, поправляя голову юноши. Она тут же заваливается, и Лукреция подкладывает под нее свои туфли. — Постарайтесь! Слышите? Пожалуйста!
Она вливает ему в рот вторую ложку, на сей раз не пролив ни капли. Выжидает немного и дает третью. В горле юноши зловеще клокочет. Он захлебывается водой с медом. Глаза Лукреции щиплет от слез. Она поворачивает незнакомца на бок. Он очень тяжелый, неподъемный и норовит выскользнуть из ее хватки. Жидкость вытекает из его рта в лужицу на полу.
Лукреция его убила. Да, убила. Сделала только хуже, теперь он точно умрет. Он ведь без сознания, как она додумалась налить ему воды в рот? Почему не позвала на помощь или…
Внезапно слышен хрип, затем кашель. Юноша отхаркивает еще больше жидкости и судорожно вдыхает, не открывая глаз, — и все же его губы чуть розовеют.
Лукреция сжимает руку незнакомца.
— Синьор? Вы меня слышите?
Она ложится на пол, заглядывает юноше в лицо. Его глаза вращаются под веками, как мраморные шарики. Лукреция тянется к блюдцу и подносит ложку к его губам. На сей раз юноша проглатывает снадобье.
— Хорошо, — увещевает Лукреция, облегченно вздохнув. — Еще ложечку.
Он открывает рот и проглатывает еще. Цвет приливает к его лицу волной, поднимается от губ к щекам, бровям, лбу.
— Отлично, — шепчет Лукреция. — Вы молодец.
Его веки чуть приоткрываются, тяжелеют, открываются вновь, на этот раз шире, и за ними оказываются необычного цвета глаза — не серые и не голубые, а нечто среднее. А может, правый глаз голубее левого? Лукреция всматривается в них, а они всматриваются в нее.
Незнакомец, быстро моргая, прижимает дрожащую руку к голове, ложится на спину. Лукреция опять подкладывает ему под затылок туфли.
— Не тревожьтесь, — говорит она. — Все будет хорошо. Все хорошо. Постарайтесь проглотить.
Он озадаченно смотрит на нее, потом на стены и на потолок. Его рука скользит к ремню сумки, к развязанному вороту.
— Я так испугалась, — дрожащим голосом признается Лукреция. — Не знала, что и делать. Вы можете говорить, синьор? Назовете свое имя? Цель визита? Вы один или вас… сопровождают?
Он смыкает губы на ложке и разжимает их, не сводя с Лукреции аквамариновых глаз.
— Не важно, — отмахивается Лукреция. — Приветствия подождут, но хотя бы…
За спиной стучат шаги, тревожный голос восклицает:
— Господи боже!
Из коридора к ней мчится второй юноша, более нескладный и тонкий, чем тот, на полу, с такой же сумкой на плече.
— Черт меня побери! У него был приступ? — Второй юноша подлетает к ним, садится на корточки у головы друга и кладет ладонь ему на лоб. — Ничего? Пришел в себя? — Он замечает блюдце с сотами. — Это ты ему дала? Как ты узнала?
— Я… — Ситуация весьма щекотливая: она одна с незнакомыми мужчинами неопределенного положения. Вряд ли Альфонсо одобрит ее поведение, если ему сообщат, — …однажды видела такой… приступ.
— И больного вылечили вот этим? — Юноша показывает на блюдце.
Лукреция кивает.
— Я просто наткнулась на него и очень испугалась. Ему было так плохо, вот я и…
— Удивительно! Ты все сделала правильно, — перебивает юноша. — Ты спасла ему жизнь.
— Нет, я лишь…
— Спасла! — настаивает юноша, затем подталкивает спутника носком туфли. — Эта юная красавица тебя спасла, Джакопо! Везунчик!
Лукреция встает. Юноша с непринужденным изяществом забирает у нее блюдце и ложку и понемногу поит Джакопо, следя, чтобы тот все проглотил.
— Что привело вас в Вогеру? — интересуется Лукреция.
— Мы приехали ради портрета, — отвечает юноша, не спуская глаз с друга.
— Портрета?
— Да, супружеского, новой герцогини.
Лукреция припадает к стене. То ли от запоздалого потрясения, то ли от страха не спасти умирающего, то ли от облегчения, но у Лукреции подкашиваются ноги, мутнеет в глазах. — Так вы… художники?
Сидящий на корточках юноша весело смеется.
— Нет. Хотя, в определенном смысле… Мы подмастерья художника. Ну, одни из нескольких. Я Маурицио, а это Джакопо. — Он похлопывает лежащего ладонью. — С ним нелегко, и все же мы его любим.
— Сколько всего подмастерьев?
— По-разному бывает. От пяти до десяти одновременно, смотря сколько заказов. Джакопо занимается тканями, а я…
— Тканями?
— Да, — улыбается юноша. — Рисует, как они ниспадают с рук или ног, как на них ложится свет, как меняются оттенки рядом со свечой. Не так-то просто! Тут Джакопо лучше всех.
— А ваш учитель не?..
— Он? Бога ради! — фыркает Маурицио. — Бастианино не станет пачкаться из-за какой-то ткани! Нет, он берется за лицо, иногда за руки, если не слишком пьян; а если совсем пьян, Джакопо нарисует за него. Только герцогу молчок, ладно? — Он подмигивает, лукаво улыбнувшись. — Джакопо достаются ткани, а мне — фон.
— Фон?
— Ну. — Маурицио бесцеремонно поднимает Джакопо и усаживает на скамейку. — Холмы, озера, деревья…
— Не знала, что работу разделяют.
— Конечно, всегда. Для всех в мастерской находится задание. — Он садится рядом с другом. — Итак, что скажешь о герцогине?
Лукреция молчит. Наверное, в халате и без обуви она показалась подмастерьям служанкой.
— Говорят, она очень молодая и красивая, — продолжает Маурицио. — Это правда? А волосы у нее, как у самой Венеры Милосской.
— Я… не знаю.
— Разве ты ее не видела?
— Ну…
— Муж ее прячет за семью замками? Судя по слухам, на него похоже.
Лукреция прислоняется головой и ладонями к стене. Твердая лепнина успокаивает.
— А что ты слышал?
— Что он двуликий Янус, в нем две стороны. И он переходит от одной к другой вот так, запросто. — Маурицио щелкает пальцами.
Лукреция мотает головой, пытаясь привести мысли в порядок. За семью замками? Двуликий Янус? Давным-давно учитель рисования показывал ей картину с этим двуглавым богом: в одну сторону смотрело молодое, гладкое лицо, а в другую — мрачное, изможденное заботами. Ее муж и вправду таков?
— Как бы то ни было, — весело заключает Маурицио, — на герцогиню очень хочется поглядеть, особенно если она такая, как люди говорят. Да, Джакопо? — Он подталкивает друга локтем, и Джакопо слабо улыбается.
— А ты чем занимаешься? — Маурицио одобрительно оглядывает Лукрецию с головы до ног. — Ежели на вилле все девушки на тебя похожи, то работать будет легко.
Лукреция не удостаивает его ответом и обращается к Джакопо:
— Как вы? Мне пора идти, но я вас не оставлю, пока не придете в себя.
Маурицо приобнимает Джакопо и ерошит густые кудри друга.
— Ему намного лучше.
— Джакопо, вы хорошо себя чувствуете? — беспокоится Лукреция.
— Ах да, он не разговаривает, — спохватывается Маурицио и выпускает товарища.
— В самом деле?
— Да.
— Никогда?
— Никогда. Он немой.
— Я и не догадалась, он…
— Или говорит на странном языке, никто из наших его не понимает. Мы даже не знаем, откуда он. Бастианино сказал, что нашел Джакопо в воспитательном доме где-то на юге и выкупил у монахов, потому что Джакопо еще мальчиком умел изобразить что угодно — взглянет на вещь всего на мгновение и рисует по памяти. Мы уже привыкли к его немоте. Просто отдых для ушей: обычно люди очень болтливы, прямо как я. Ну да ладно. Скажи, как тебя зовут? Мы еще увидимся?
Подмастерья сидят спиной к стене, на их плечах висят сумки с принадлежностями; Маурицио приветлив и открыт, Джакопо бледен, насторожен.
— Думаю, да, — кивает Лукреция.
Она растолкла ингредиенты и смешала с маслом, добавила в охру и кармин свинцовые белила и набросала этой краской пятна для будущих персиков, а теперь готовит зеленую краску для чашки. Тритон уже наполовину закрашен, как вдруг заходит Эмилия и сообщает: Альфонсо вернулся из Феррары.
Лукреция смотрит на камеристку, занеся кисть над холстом. Освещение затеняет шрам Эмилии, лучи солнца подчеркивают изысканную утонченность ее черт и локонов под капором, сложенных вместе сильных рук.
— Он… — Мысли Лукреции еще витают в мире живописи, разум ищет нужное соотношение света и тени, расположение фигур и разгадывает извечную хитрую головоломку: как изобразить трехмерный мир на плоском холсте? — Он… м-м-м… посылал за мной?
— Еще нет, мадам. Я подумала, вы захотите узнать о его приезде.
— Да, — рассеянно кивает Лукреция, вытирая кисть. — Разумеется. Пожалуйста, сообщи, если он… когда он… позовет меня.
Поклонившись, Эмилия закрывает за собой дверь, а Лукреция возвращается к картине, довольная передышкой — нет, даже радуясь ей.
Долгие часы она стоит, склонившись к tavola. Переходит от блюда с фруктами к меду, потом к складкам и морщинкам на ткани, передает расположение предметов, их взаимодействие друг с другом; словно уменьшившись до размеров жука, бродит между персиками и по шестигранникам медовых сот. Вместо ножек и усиков у нее чувствительные кисти; она прокладывает дорогу по незнакомому рельефу предметов, пробирается через густую чащу непростого натюрморта.
Лукреция рисует; солнце стоит высоко в небе, затем скользит над скатом крыш. Она не замечает сумерек, суматохи и шума виллы, даже и не вспоминает, что полдня не ела. Она поглощена картиной и сама становится ею. Ничто на свете не приносит такой радости, не утоляет ее тайной потребности, не заполняет пустоты.
Поздним вечером Эмилия вновь стучит в дверь. Не глядя на Лукрецию, камеристка сообщает:
— Его высочество вас зовет, мадам.
Лукреция откладывает кисть, растерявшись. Действительность врывается в мир искусства столь резко, что почти кружится голова.
— Спасибо, Эмилия. Я сейчас же пойду к нему…
Она умолкает, заметив ужас на лице камеристки. Лукреция оглядывает себя: халат, пятна краски, босые ноги…
— Наверное, сначала переоденусь, — смеется она.
— Да, мадам, — с облегчением говорит Эмилия. — Я вам помогу.
Чуть позже, надев лимонно-желтое sopraveste[47] и рубиновое колье, Лукреция мучается от духоты. Окна в парадной зале распахнуты настежь, однако день выдался безветренный и не дает прохлады. Деревья за окном крепко держатся за неподвижные листья, ни одного не роняют. Несколько темных облаков, окрашенных в оранжевый и розовый, грузно застыли над виллой, не в силах пошевелиться.
Лукреция ждет супруга в нелюбимом кресле с жестким сиденьем, набитым колючим конским волосом. Она кладет руки на колени, изображая кротость, но так ей неудобно, ставит локоть на стол, но выходит нарочито. Тихо вздохнув, она берет вышивание, которым неохотно себя занимала в вечера с мужем. Она позабыла, как быть женой, герцогиней. Альфонсо отлучился совсем ненадолго, однако нескольких дней хватило, и привычка совсем исчезла.
Конечно, причина в натюрморте, ее мысли до сих пор поглощены его микрокосмом, и она жаждет туда вернуться. Картина отпустит ее в реальный мир только когда будет готова и Лукреция вернется на свое место — в парадную залу, где положено ждать супруга с вышиванием на коленях.
Опять вздохнув, Лукреция пронзает ткань иглой, туго натягивая нить. Эту окаймленную золотым розу начала вышивать Изабелла еще несколько месяцев назад, но почему-то рукоделие досталось Лукреции. Наверное, сестра нашла занятие поинтереснее, а незаконченную работу по ошибке положили в багаж Лукреции. Теперь вышивка служит ей бутафорией и создает образ девушки, занятой таким бессмысленным увлечением.
Она пытается вышить бабочку на лепестке. Получается скверно: одно крыло больше другого, и насекомое будто заваливается набок. Похоже, Лукреция тоже не доведет работу до конца и эту розу никогда уже не завершат.
Лукреция не владеет иглой и нитью, ее пальцы сразу же немеют, словно чужие. Краски, мел, чернила — вот что ей по душе. Она переворачивает пяльцы и рассматривает изнанку. В глубине луши Лукреция всегда предпочитала некрасивую сторону вышивки, всю в узлах, шелковых полосах и скрученных нитках. Куда интереснее смотреть, каким нелегким трудом достигается совершенство готовой работы. Сразу понятно, где приложила руку Изабелла, а где — Лукреция. Стежки Лукреции более неуклюжие, торопливые, в них читаются нетерпение и досада.
Лукреция переворачивает пяльцы обратно и втыкает иглу. Место пониже ногтя тотчас отзывается болью: промахнувшись, она уколола палец. На кутикуле разбухает малиновая бусинка крови.
Вдруг распахивается дверь. Лукреция подскакивает, засунув палец в рот.
Альфонсо быстро шагает к ней. Видно, тщательно подготовился к встрече, смазал волосы маслом и зачесал назад, побрился, надел манжеты с золотой отделкой.
— Дорогая моя! — Поклонившись, он целует Лукреции руку. — Я очень скучал! Вы здоровы? Наверное, истосковались тут?
— О нет! Я…
— Как?! — Альфонсо падает в кресло, с которого она только что встала. — Совсем без меня не скучали?
Лукреция густо краснеет.
— Конечно, скучала, я неправильно…
— Ни капельки? — поддразнивает муж и усаживает Лукрецию себе на колени. Заметив кровь, подносит ее руку к лицу. — Вижу, поранились. Что случилось?
— О, пустяки! Я вышивала, игла соскользнула, вот и…
— Держите. — Он вынимает из рукава платок и нежно перевязывает пальчик Лукреции.
— Спасибо. — Подумав, она осторожно добавляет: — Как все прошло в Ферраре?
— Хорошо, — только и бросает он. — Прекрасно.
Лукреция, застенчиво примостившись на коленях Альфонсо, глядит, как по снежно-белой ткани платка расползается красное пятнышко. Кровь дает о себе знать, не желает прятаться.
— Вам удалось… заняться вопросом, который вас беспокоил?
Альфонсо обнимает Лукрецию. Опять ей связали руки, опять обездвижили! Вышивка манжетов шуршит и цепляется за ее платье, что-то нашептывает на своем языке.
— Да, удалось.
— И… — Давить не стоит, герцог явно не желал обсуждать эту тему, но любопытство берет верх. Что же произошло за эти дни в Ферраре? — Вы достигли… желаемого?
Он вглядывается в Лукрецию, чуть отстранившись.
— Естественно. — Альфонсо накручивает на палец ее локон. — А знаете, почему?
Лукреция молча качает головой.
— Потому что я всегда… — при каждом слове Альфонсо слегка дергает локон, — …достигаю желаемого.
— Я рада! — с облегчением восклицает она. — Вы убедили матушку остаться в Ферраре? Она дождется моего приезда ко двору? Не терпится ее увидеть! И ваших сестер, конечно. Они согласились остаться с вами? Они…
Лукреция умолкает. Откинувшись в кресле, Альфонсо изучает ее взглядом. Она зашла слишком далеко. Вот бы вырвать поспешные слова из воздуха и засунуть обратно в рот!
— Вижу, вы прекрасно осведомлены, — наконец произносит Альфонсо.
— Прошу прощения. — Лукреция охвачена необъяснимым страхом, ее сердце бешено колотится, а по шее бегут мурашки. Он рассердится? Отчитает ее, как тогда, после жестокого поступка Бальдассаре? — Я говорила не подумавши, и…
— Нет-нет. Любопытно, и как же до вас дошли эти слухи? Очень интерсно знать.
— Простите, не следовало…
Он прерывает Лукрецию, единожды моргнув. Ему не нужны ее извинения.
— И все же ответьте, откуда вы об этом узнали?
Она сидит у него на коленях — разноцветная птица, стиснутая в кулаке. Эмилия рассказала. Только она не назовет имени, не выдаст служанку. Никогда.
— Услышала… случайно. Сами понимаете, пересуды…
— Чьи?
— Точно не помню.
— Слуг или вельмож?
Кого выбрать? Какой ответ лучше? Какой хуже? Какой принесет меньше вреда или наказаний?
— Я… даже не помню… наверное, все понемножку.
Несколько долгих мгновений Альфонсо разглядывает ее, подперев подбородок рукой. Наконец, спрашивает, чем она занималась, нашла ли себе развлечение, и Лукреция понимает, что тема закрыта. Так уехала его мать во Францию или нет? Остались ли сестры в Ферраре? Альфонсо аккуратно снимает ее с колен и направляется к мольберту, где стоит незаконченный натюрморт, накрытый шалью. Снимает шаль и разглядывает картину; шаль падает на пол.
— Изумительно, — хвалит он, увидев персики и мед. Слава богу, под ними не видно серебристой реки и чешуйчатого хвоста тритона! — Просто изумительно. Чудесное занятие, любовь моя, хотя… — Раздается стук. — Войдите, — велит Альфонсо, не оборачиваясь.
В комнату заходят двое подмастерьев: Маурицио бодро шагает впереди, сияя от предвкушения, а Джакопо бредет у него за спиной, опустив глаза. Оба сменили дорожные костюмы на чистые воротнички и блестящие туфли.
— Верно, — припоминает Альфонсо, выслушав робкие приветствия. — Разрешите представить подмастерьев Себастьяно Филиппи, иначе известного как Бастианино. Он будет писать ваш портрет, когда мы вернемся ко двору. А это моя супруга, герцогиня. — Альфонсо показывает на Лукрецию.
Она выходит из угла комнаты к трепетным кругам света, слившимся в одну цепочку вокруг канделябра. Филигранное кружево на ее рукавах, рубиновый кулон и нарядная прическа сияют, и взгляды подмастерьев обращаются к ней.
Узнав ее, Маурицио бледнеет, невольно открывает рот, но тотчас приходит в себя и учтиво кланяется и шепчет, какая ему выпала честь, как он польщен, он ее покорный слуга. Джакопо стоит не шелохнувшись, как испуганное животное, и не сводит с Лукреции глаз. Она мельком вспоминает его липкую кожу, безвольно повисшую шею, торчащие ключицы.
С мгновение все стоят неподвижно.
Потом Маурицио толкает Джакопо локтем, и тот оживает, подобно марионетке, которую дернули за ниточки. Срывает с головы шляпу и отвешивает низкий поклон.
— Извините моего друга, — просит Маурицио. — Ему сегодня нехорошо, и…
— Нехорошо? — перебивает Альфонсо. — В каком смысле?
— Ничего заразного, ваше высочество, — торопливо уверяет подмастерье. — Он… утомился от жары и… долгой дороги.
— Ясно. — Альфонсо берет Лукрецию за руку. — Господа, вот ваша натурщица, ваша муза. — Он обводит ее свободной рукой. — Вы, насколько я понимаю, займетесь эскизами, чтобы мы с вашим учителем могли решить, какой вариант лучше. Все понятно?
— Да, — кивает Маурицио. — Позвольте заметить, ваше высочество, какая для нас честь работать с такой музой…
— Твой друг. — Альфонсо показывает на Джакопо. — Почему он ничего не сказал?
— Он не разговаривает, ваше высочество. — Маурицио похлопывает товарища по плечу. — Вероятно, он немой.
— И глухой?
— Нет, ваше высочество. Слышит он прекрасно, только…
— А он разбирается в эскизах? — хмурится Альфонсо.
— Более чем! — улыбается Маурицио. — Он необычайно одарен, лучший подмастерье в нашей мастерской. Мастер прислал вам своих лучших помощников! Будьте покойны. Джакопо весьма искусен в фигурах и тканях, лучше него только сам мастер. Сами убедитесь, когда ее высочество начнет позировать…
— Да-да. — Альфонсо обрывает подмастерье резким жестом. — Вижу, ты вполне способен говорить за двоих. Что ж! — Он хлопает в ладони. — Не вижу препятствий начать.
Лукреция еще не ужинала, живот тянет от голода, она устала, голова болит. Вот уж чего ей не хочется, так это позировать для эскиза. Увы, ничего не поделаешь: Альфонсо — человек действия. Он ходит по комнате и говорит, что сам выберет позу, так как углубленно изучал живопись и в теории, и на практике, и будет внимательно следить за их работой. Остановившись, герцог предупреждает: от портрета он требует совершенства и не допустит ни малейшего изъяна. Потом ведет Лукрецию к креслу у огня, отодвигает в сторону ее мольберт и ставит два канделябра на стол с мраморным глобусом и кубком.
Подняв глаза на Джакопо, Лукреция встречается с ним взглядом. Как она и ожидала, юноша смотрит на нее, и его лицо пробуждает в ее душе нежность. Она знает, о чем думает подмастерье: не окажись рядом Лукреции, он не стоял бы здесь с бумагой в руках, он бы умер, и на его месте у комода зияла бы пустота. Если она не прибежала бы на шум, не нашла бы его, не знала бы, что делать… Если бы не она… Он смотрит на картину с персиками на мольберте, потом опять на нее, и в его взгляде читается любопытство. Как это необычно, ни на что не похоже — спасти другого человека! Теперь, смутно понимает Лукреция, между ней и этим тихоней, что разглаживает уголки бумаги и берет карандаш, возникла незримая, но неразрывная связь. Оба ее ощущают, оба понимают мысли, поступки и страхи друг друга.
Неясно, почему так произошло и куда это приведет, но свой поступок Лукреция должна хранить в тайне и молчать, подобно Джакопо.
Подмастерья два дня занимаются эскизами. Алебастровая комната теперь занята рулонами бумаги, графитом, углем и мелом, дорожными сумками, сброшенными на пол туниками и плащами. Как-то раз Лукреция видит в приоткрытую дверь, как Джакопо, засучив рукава, работает за столом. Маурицио говорит сам с собой, а Джакопо в ответ смеется.
Как странно! Она впервые слышит от него хоть какой-то звук, причем совершенно обыденный для других — так смеются ее братья, когда шутки ради затевают борьбу.
Она снова заглядывает в комнату. Подмастерья стоят в золотом сиянии рельефных алебастровых стен, как изящные рыбки в чистом пруду. Маурицио разглядывает работу Джакопо, а тот показывает какое-то место на бумаге, и Маурицио, подумав, качает головой. Они умеют общаться без слов. Как Маурицио понял вопрос Джакопо?
Она неохотно отрывается от интересного зрелища и идет в конюшню угостить свою мулицу чашечкой овсянки, припасенной с завтрака.
Следующие несколько дней муж частенько вызывает ее в гостиную, где рассматривает один набросок за другим и отметает непонравившиеся. Маурицио с Джакопо стоят рядом и наблюдают.
— Не то. — Альфонсо бросает свернутый эскиз на пол. — Не то, не то. — Потом достает из груды бумаг следующий и разворачивает на столе. — А вот с этим можно работать. Вы уловили ее нежность и задор, вы… — Умолкнув, Альфонсо поворачивается к подмастерьям. — Кто сделал набросок? Ты? — Он показывает на Маурицио.
— Нет, ваше высочество, — качает головой тот. — Джакопо.
— Тот, без языка?
— Да, господин.
— Тогда попроси его работать в том же духе. И сам постарайся. Я хочу, чтобы на картину вошло все лицо и герцогиня смотрела на нас. Оставьте место под плечи, руки и платье, оно должно поместиться целиком. Вы поняли?
Маурицио с Джакопо возвращаются к наброскам, а Лукреции только и нужно встать в позу, которую выбрал муж. Просто, да не совсем. Через минуту-другую мышцы в поднятой руке начинают ныть, потом гореть. Моргать приходится чаще, чем обычно: наверное, она не привыкла к пристальным взглядам. Кожа на ступнях будто истончилась, словно кости, не защищенные плотью, утопают в пол. Платье давит на плечи, пережимает легкие. Пойти бы в конюшню, оседлать мулицу и уехать прочь из виллы.
Взгляд Лукреции блуждает по комнате: только это движение ей позволяет Альфонсо. Сам он устроился в кресле, уперев руку в колено, и следит глазами то за Лукрецией, то за подмастерьями. Маурицио стоит у стены, на его беззаботном лице теперь написана мрачная сосредоточенность, брови нахмурены; нерешительно проведя карандашом по бумаге, он с тревогой смотрит на Лукрецию. Джакопо, напротив, незыблемо спокоен, как ствол дерева. Его рука уверенно летает над бумагой, взгляд поднимается лишь на мгновение, потом опять скользит к работе, и так непрерывно: вверх, вниз. Глядя на Лукрецию, он видит не человека, а расположение фигур, пересечение плоскостей и углов, игру света и тени.
— Вас утомляет позирование, любовь моя? — тихо спрашивает Альфонсо, встав перед ней.
— Вовсе нет! — Она подавляет зевок. — Почему вы так решили?
— У вас… — Муж поводит рукой, — …рассеянный вид. Усталый. Будто мы вас удерживаем силой.
— Нет, все хорошо.
— Вам не нравится?
— Нравится, честно!
— Тогда, может, постараетесь вести себя подостойнее? — шепчет он.
— Подостойнее?
— Не забывайте, вы моя герцогиня. Это должно читаться в вашей осанке, лице, каждой черточке.
Поджав губы, Лукреция кивает.
— Я постараюсь.
Когда Альфонсо отходит, Лукреция замечает на себе взгляд Джакопо. Она смотрит на него, а он — на нее. Его рука застывает над бумагой, он уже не рисует. Из натурщицы Лукреция превратилась в человека. Он косится на Альфонсо, который снова сел в кресло и теперь стряхивает с кальцони собачьи шерстинки, потом опять на Лукрецию. Губы подмастерья дрожат, но не от смеха. От неодобрения? Тревоги? Сложно понять. Она не сводит с него взгляда, и в воздухе между ними появляется и застывает почти осязаемая нить. Должно быть, и остальные слышат ее потрескивание, видят цвет: то ли красный, то ли синий, а может, смесь и того, и другого, ближе к пурпурному. Невозможно пройти через комнату и не наткнуться на нее: эта связь — или нить — оттолкнет посторонних, у нее свое место в комнате.
А разрывает ее Джакопо. Альфонсо кладет ногу на ногу, и Джакопо вспоминает о его присутствии, о своей работе, вновь склоняется над бумагой и неуверенно проводит карандашом где-то в верхнем уголке. Рука юноши чуть заметно дрожит, словно незримая сила держит его за локоть и немного трясет руку.
Тогда и Лукреция отворачивается к окну и видит на полоске неба над крышей виллы гряду туч в форме наковален.
Погода портится, небеса разверзаются и обрушивают на обитателей виллы настоящую бурю. Лукреция смотрит из окна спальни, как во тьме вырисовываются на миг горы, озаренные вспышками молний, а потом исчезают, появляются, вновь исчезают — череда каменных вершин в мерцающем свете небесного факела. Гром приходит секундами позже и рокочет, как огромный катящийся камень.
На улице воют собаки, запертые, где придется; суетятся слуги, забирая с улицы мебель; деревья гнет порывистый ветер.
Подмастерья должны были собрать вещи и вернуться в город. Теперь, конечно, они никуда не поедут. Лукреция с Альфонсо хотели отправиться сразу после них, но ветер и небо решили иначе. У погоды иной замысел.
Словно в ответ на мысли Лукреции, буря стискивает долину в могучем кулаке. Сначала раздается звук дождя — яростный стук по черепице, чавканье земли во дворе, журчание и бульканье в желобах. Delizia тонет в воде, с промокших стен и крыши стекают ручейки, за считаные мгновения с листвы потоком смывает летнюю пыль.
Подобная ярким речным дельтам, развилка молний оставляет свой ослепительный отпечаток; долина то вспыхивает, то погружается в темноту. Одуряющий жар последних недель отступает, зализывает раны в укрытии. Капли дождя с крупную монету падают на лицо и шею Лукреции сквозь открытое окно. Она протягивает ладони — пусть вода, впитавшая необузданный дух бури, попадет ей на руки.
Эмилия собирает вещи Лукреции в сундуки и сумки.
Камеристка тихо кого-то приветствует: значит, пришел Альфонсо. Лукреция поворачивается к нему. Наверняка он захочет полюбоваться с ней великолепием стихии.
— Окно нараспашку! Чем это вы заняты? Закройте, пожалуйста!
Поначалу его злость кажется напускной: похожий тон использует с мамой папа, когда Элеонора его поддразнивает или упрямится. В такие минуты отец говорит строго, но смотрит на жену ласково, как на балованного ребенка. Вот и Лукреция улыбается Альфонсо.
— Взгляните на бурю! — радостно восклицает она, открыв окно пошире — пусть муж поглядит. — Удивительная мощь! Видите, как потемнело небо, как…
Он сердито шагает к ней и хватает за запястье.
— Я сказал закрыть окно, а раз я велю, значит, надо выполнять! Без раздумий. Без промедления. Вам ясно?
Пальцы у него жесткие, не вырвешься. Тут Лукреция понимает, что он злится по-настоящему, это не игра. Не ослабляя хватки, муж захлопывает окно.
— И не от такого умирают! Ума лишились? Да вы закоченели! И промокли насквозь. — Щелкнув пальцами, он подзывает Эмилию. — Принеси что-нибудь сухое для госпожи. Да побыстрее!
Альфонсо оттаскивает Лукрецию от окна, причем отнюдь не ласково: ее рука повыше локтя стиснута будто кандалами; он отчитывает ее, твердит о холоде, ознобе, а тем временем развязывает ленточки на ее платье. Хватает полотенце, которое принесла Эмилия, и грубо трет лоб, щеки и голые плечи жены, а потом срывает с нее платье. Она прикрывается руками, но Альфонсо не позволяет:
— Стойте ровно, пока не высохнете!
Эмилия подходит к ней со спины; дыхание камеристки щекочет ей шею. Только такое утешение Лукреции и доступно, как бы ни хотелось взять девушку за руку. Эмилия осторожно накидывает zimarra на плечи госпожи и отходит.
— Простите, — бормочет Лукреция, просовывая руки в рукава и завязывая шнуровку. Прежде Альфонсо ее так не пугал, не вел себя так странно. Уж конечно, отец никогда не хватал мать и не волочил через всю комнату, да еще с упреками! Козимо дотрагивался до Элеоноры нежно, с почтением. Ясно, как белый день: Альфонсо отнюдь не чувствует к ней того же, что ее отец чувствует к маме. Лукреция-то думала, люди женятся во имя любви и заботы друг о друге, неразрывной духовной связи, равенства, взаимопомощи; она надеялась на радость и уважение в браке. Грубая хватка Альфонсо подсказывает иное: ее в замужестве ничего подобного не ждет.
— Я не хотела вас сердить. Я только…
— Вы герцогиня, а не дитя малое, откуда такая беспечность? Какой пример вы подаете другим? Стоите у окна всем напоказ! А если вас кто-нибудь заметил?
— Вряд ли меня…
— Мать разве не научила вас вести себя прилично, беречь здоровье?
— Она…
— А если вы в положении? Это вам не приходило в голову? Такое чувство, будто вам не хочется носить моих наследников!
На Лукрецию нападает неудержимый смех, приходится опустить голову, не то Альфонсо заметит. Неужели он правда думает, что беременным нельзя даже на бурю посмотреть?
— Я лишь…
— Гляжу, вам весело, — произносит он с ледяным спокойствием и выпускает ее руку. — И как мне доверять вам в будущем, если…
Сколько можно? Какой бес в него вселился? Чем она заслужила такой выговор? Подумаешь, посмотрела на молнию из окна! Она поднимает голову.
— Альфонсо…
— Не смейте… — Он останавливает ее движением пальца, устало прикрыв глаза, будто молит небо о терпении, — меня перебивать. Ни сейчас, ни впредь. Понятно?
— Да, ваше высочество. — Лукреция опять склоняет голову.
Улыбка и смешливость исчезают без следа; теперь уже не вырвется невольное хихиканье. Она стоит перед разъяренным мужем, словно грешница на покаянии. Плечи опущены, очи долу, ладони просительно подняты — само смирение. Никто бы и не подумал, что она ничуть не сожалеет о своем поступке, что в ее озябшем теле трепещут язычки пламени, лижут ее внутренности; что разгорается и потрескивает подспудный огонь, и дым просачивается в каждый уголок ее тела, в каждую пору, под каждый ноготь. Волосы закрывают ее лицо, и Альфонсо видит только макушку. Он должен поверить, что Лукреция слушает его нравоучения и упреки. На самом деле он только подбрасывает дров во внутренний костер, и тот вспыхивает сильнее, охватывает ее всю. Альфонсо никогда не узнает об этой части ее души и никогда в нее не проникнет, как бы ни хватал ее за руку и ни стискивал запястья.
И все же сквозь рев пламени пробивается мысль: а что дальше? Ее с позором отошлют во Флоренцию, как предвидел когда-то отец? Вернут родителям сразу после свадьбы? Уж лучше умереть от лихорадки здесь, чем испытать на себе гнев отца и разочарование матери.
Сквозь пелену волос она смотрит на свои голые мокрые ступни рядом с отполированными сапогами Альфонсо, на изящную вышивку на складке zimarra, на собственные руки.
Она знает, как нужно поступить, но ее душа противится, хочет умчаться из виллы в лес, жить среди деревьев вместе с дикобразами и куницами-белодушками. В ее волосах запутаются сосновые иглы, а подол платья порастет мхом… Она никогда не вернется к людям.
Тихо вздохнув, Лукреция тянется к руке Альфонсо холодными пальцами. Она исполнит свой долг, иного выхода нет: мечты мечтами, но ей никогда не сбежать в лес. Альфонсо не отталкивает ее, и она подносит его руку к губам, раз за разом целует твердые костяшки.
— Простите меня. Пожалуйста, простите! — повторяет она, как актер — заученную строчку. — Я больше не буду! Гром и молнии меня заворожили, я забылась. Прошу, не сердитесь, мне это невыносимо!
Тишина. Она боится увидеть в лице мужа непонимание и ярость и потому не поднимает глаз. Только ждет, держа его руку у рта, и внутренний огонь потихоньку отступает, гаснет, никнут язычки пламени, и такая глубокая в ней поднимается горечь, что по щекам стекают слезы — настоящие, непритворные.
Когда соленая капля падает Альфонсо на руку, его гнев исчезает, словно расступаются грозовые тучи, уступив солнцу. Ярость сменяется умилением. Он гладит Лукрецию по щеке, вытирает ее слезы большими пальцами. Он опять становится собой, а до того его облик приняло мстительное, яростное чудовище, обрядилось в его воротник и манжеты. Теперь же Альфонсо изгнал нечисть и вернулся.
— Хорошо, — отвечает он ласково и спокойно, как прежде, и целует ее в бровь и висок. — Не будем об этом. Не изводите себя, любимая.
Он привлекает к себе Лукрецию, и она утыкается лицом в его giubbone[48]. Ее руки одолевает непонятная дрожь, и она обнимает Альфонсо за талию, чтобы не заметил. Вдыхает его запах и постоянно сглатывает, будто съела кусок, который не в состоянии переварить. Что же дальше?..
Долго гадать не приходится. Одной рукой Альфонсо играет с ее волосами, пропускает волнистую прядь сквозь пальцы. Потом спускается к талии, развязывает пояс, стягивает с Лукреции zimarra. Затем кивает Эмилии.
— Оставь нас.
Когда он наконец уходит из спальни, Лукреция еще немного лежит на кровати, любуясь фресками на потолке. Вот они четко видны, а вот расплываются, если расфокусировать взгляд… Альфонсо и вправду ушел, его нет в комнате.
Она встает и ходит по комнате, перешагивает через аккуратные стопки вещей, сложенные Эмилией, ящики и сундуки; поднимает с пола и надевает платье, домашние туфли, шаль.
Эмилия вежливо стучит и спрашивает, не нужна ли ее светлости помощь перед завтрашней поездкой. Лукреция отвечает: нет, все хорошо, ей ничего не нужно, пусть ложится спать.
Эмилия с минуту ждет за дверью; Лукреция слышит ее дыхание. Надо бы завести камеристку в комнату, закрыть дверь и спросить, видела ли она, как Альфонсо превратился в другого человека прямо у них на глазах. Что это значит и повторится ли такая странность? Наверное, Эмилия скажет: да-да, она тоже заметила; успокоит ее — дескать, временами все мужчины такие, ничего страшного. Лукреция тянется к дверной ручке, но поздно: камеристка уходит.
Что ж, тогда остаются повседневные заботы. Лукреция открывает ящик с художественными принадлежностями, пересчитывает кисти и флакончики с маслом, гладит пальцами жемчужные стенки ракушек, которые служат ей палитрами, гладит мешочки с красителями и минералами, проверяет, надежно ли укрыты соломой ступка с пестиком.
Сундуки с платьями, туфлями, вуалями, шарфами, драгоценностями, мантиями, giorneas[49], воротниками и ремнями ее не интересуют. Эмилия сложит все ровными стопками, а между ними добавит бумагу и кедровую стружку, чтобы ничего не помялось и не разбилось.
Увидев свое отражение в зеркале, Лукреция замирает, ее сердце бьется в груди, как рыба: на миг ей чудится лицо Марии. Высокий лоб, тревожный изгиб бровей, чуть надутая нижняя губа. Конечно, это вовсе не Мария, не призрак из потустороннего мира — просто она, Лукреция, резко повзрослела.
«Ему нужна только победа, признание других, — думает Лукреция, разглядывая себя в зеркале. Это точно она, не Мария?.. — Никогда и ни за что он не признает поражения».
Она вспоминает, как Мария целыми днями лежала в постели, мучимая жаром, захлебываясь смертоносной мокротой. Если бы этого не случилось, если бы не болезнь, то в этой комнате, в этой кровати, в этом браке и в этом зеркале была бы Мария. Лукреция жила бы в палаццо, дышала свежим воздухом на зубчатой стене, бегала бы в детскую к Софии, каталась бы с братьями во дворе, разучивала бы мелодии на лютне, смотрела бы с балкона гостиной на маскарад.
И все же в глубине души она понимает, что на месте Альфонсо мог быть кто угодно: другой герцог, знатный вельможа из Германии или Франции, троюродный брат из Испании. Отец нашел бы ей выгодную партию, ведь для того ее и вырастили: выйти замуж, связать знатные дома, рожать наследников мужчинам — например, Альфонсо.
А вот ее братьев готовили к будущей власти: учили сражаться, спорить, обсуждать, договариваться, хитрить, переигрывать, выжидать нужного момента, плести интриги, манипулировать, укреплять свое влияние. Им давали уроки риторики, правильного изложения, убеждения — как в устной речи, так и на письме. Каждое утро они упражняются в беге, прыжках, борьбе, тяжелой атлетике, фехтовании. Они умеют обращаться с мечом, кинжалом, луком, копьем, дротиком; готовы сражаться, изучили военное дело. Они подкованы в рукопашном бою: могут драться и кулаками, и ногами, на случай если на них нападут в помещении или на лестнице, или придется защищаться на улице. Им преподали самые быстрые и действенные способы убийства врага, противника и вообще любого, кого нужно устранить.
Разумеется, ее муж прошел ту же подготовку. Как братья Лукреции — как и все правители, — Альфонсо умеет вычислять слабые места, знает, где посильнее нажать пальцами, а где покрепче стиснуть, между какими ребрами вонзать нож, какая часть шеи или позвоночника наиболее уязвима, какие вены быстрее изойдут кровью.
В густом, как сироп, свете фонаря Лукреция видит странное отражение — наполовину свое лицо, наполовину — Марии. Как поступила бы умершая сестра? Как вела бы себя в этом браке? Неужели горделивая, выдержанная Мария терпела бы такую жизнь, такого мужчину? Невозможно! С другой стороны, сестра и не любовалась бы молниями у открытого окна, она бы спокойно сидела в кресле, завернутая в шали и пледы, листала бы религиозную книгу или вышивала бы сцену охоты цветными шелками. А значит, куда лучше подошла бы Альфонсо.
Лукреция понимает с внезапной ясностью, что есть в ней непокорный, свободолюбивый дух, и эта часть души никогда не повинуется чужой воле. Так уж она устроена, ничего не попишешь. И Альфонсо, при его остром уме и сообразительности, конечно, почувствовал в ней это качество. Чем еще объяснить его ярость, как не желанием сломить стены этой неприступной крепости, захватить ее и объявить себя полноправным властелином?
Если ей хочется жить — тем более жить хорошо, — следует беречь эту часть себя и держать в тайне от Альфонсо, за семью замками. Она окружит свою крепость колючим терновником или высоким забором, как сказочный замок, поставит у ворот когтистых чудовищ с острыми клыками. Альфонсо никогда не узнает о ней, не увидит ее, никогда в нее не проникнет. Нет, туда ему не ворваться!
На следующее утро Эмилия будит ее и сообщает, что подмастерья оседлали пони и уехали с рассветом.
Лукреция, Альфонсо и свита выезжают после полудня. Воздух дышит чистотой с легкой ноткой осенней прохлады. Альфонсо скачет на своем жеребце, а Лукреция, накинув изысканную шерстяную шаль, покачивается на белоснежной кобылке: мулицу, сказал Альфонсо, позже приведут слуги. Не подобает герцогине ехать на муле на глазах у придворных и горожан.
Сидя на длинногривой кобылке, Лукреция оборачивается назад, на виллу: хочется запечатлеть в памяти квадратные алые крыши, безупречную симметрию садов с фонтанами. К ней пришла странная уверенность, что она здесь в последний раз и никогда уже не будет так свободна и счастлива. Впереди жизнь при дворе, а с ней и обязанности герцогини.
Гордо голову подняв
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
Эмилия кладет на постель бархатное платье и украшенный драгоценностями cintura, но Лукреция качает головой.
— Нет, другое.
— Мадам, вас ждут гости — придворные, художник и…
— Не важно. Подай шерстяное, мне холодно.
Резко взмахнув юбкой, Эмилия отворачивается от бархатного платья и приводит в порядок вчерашнее, шерстяное. Неужто Лукреция его сняла лишь несколько часов назад? Кажется, прошли долгие недели, даже месяцы. Лукреция уже не та, что вчера, не девушка, прискакавшая из Феррары, не герцогиня, что прошлым вечером села за ужин. Она изменилась бесповоротно, сбросила прежнюю оболочку. Ее зарисовали сверху новой Лукрецией. Или же перерисовали прежнюю.
— Надо поторапливаться. — Лукреция берет у Эмилии корсаж и впопыхах надевает. Затем убирает волосы под scuffia и, не дав служанке надеть на нее cintura и серьги, хватает накидку и идет к двери.
Она выйдет из комнаты, гордо подняв голову. Именно так. Жар еще цепляется к ней, словно туман к озерной глади: пленка пота холодит лоб, тупая боль не отпускает поясницу и суставы. От спуска по винтовой лестнице лодыжки гнутся, как губки. Но Лукреция сможет. Ее поддерживают шершавые каменные стены и неподдельный праведный гнев.
Сестры Альфонсо Второго с расстояния
Castello, Феррара, 1560 год
По дороге из delizia муж скачет рядом. Он надел кожаные перчатки и сдвинул шляпу на затылок, и Лукреции хорошо видно его лицо. Послегрозовой воздух прохладен и чист, земля насыщена влагой. Растения наслаждаются внезапным даром природы: почти слышно, как жадно пьют дождевую воду корни фруктовых деревьев на полях. Леонелло едет где-то позади, стражники скачут в первом ряду.
У стен города их встречают бесконечные шеренги герцогской гвардии с мечами и флагами; музыканты громко возвещают приезд Альфонсо, и Лукреция морщится от нестройных звуков. После из ворот палаццо высыпает на улицу толпа: люди кричат, хлопают, машут платками и шляпами. Кобылка Лукреции от страха бросается в сторону, взмахнув хвостом, и Альфонсо дергает уздечку, возвращая лошадь жены на место. По приказу Леонелло солдаты расчищают герцогу дорогу. Носильщики у ворот кланяются, сняв шляпы, и украдкой поднимают глаза на новую герцогиню. Еще больше людей наводняют улицу, глядят на Лукрецию и Альфонсо. Жители Феррары бросают на землю котомки, забывают о лошадях в стойлах и тянут детишек посмотреть на Лукрецию, поприветствовать ее, бросить ей под ноги цветы или горсть крупы. Окна домов распахиваются, из них выглядывают горожане, выкрикивают приветствия и поздравления, крестят воздух. Может, улыбнуться им или помахать? Лукреция косится на Альфонсо, но он смотрит вперед, не обращая внимания на встречающих. Она пытается придать лицу приятное, но достойное выражение, не слишком чопорное и не слишком радостное. Как должна выглядеть герцогиня? Не удержавшись, она поглядывает на людей, которые с такой радостью ее встречают. Вот мужчина с малышом на плечах; ребенок рассеянно машет, потому что папа так велел, а зачем — непонятно. Вот мальчик держит за ошейник коричневую собаку, а та яростно лает на лошадей и солдат; мальчик сияет, радуется зрелищу. Вот стоит около торговца плетеными корзинами пожилая чета, держится за руки; муж описывает жене на ухо, что происходит на улице. Подъехав к ним ближе, Лукреция видит, что глаза у женщины мутные, незрячие, обращенные к небу, словно она взывает к нему и способна различить только его яркий свет. На углу девушка придерживает на голове мешок, ноги у нее босые, грязные; вот стоит женщина, а к спине у нее привязан ребенок; у фонтана брызгаются водой и перекрикиваются дети. Увидев процессию, они мчатся к дороге, хлопая тонкими ручонками и подпрыгивая от радости. Лукреция не удерживается и машет им, на что дети весело хохочут и восторженно машут в ответ, крича:
— La Duchessa, La Duchessa!
Они сворачивают за угол собора на большую пьяццу, наполовину скрытую в тени, и улыбка Лукреции гаснет. Над широким зеленым рвом возвышается здание с башнями на каждом углу: castello Феррары поджидает Лукрецию, и разводной мост уже опущен.
Обширный замок Альфонсо построен из крепкого камня, надежно укреплен и окружен высокой зубчатой стеной; по размерам он в три-четыре раза превосходит флорентийское палаццо. Его основание стоит в воде, а пики башен пронизывают облака. На красном кирпиче верхних этажей виднеются прямоугольные окна, от одной башни к другой ведет крытая лестница. Ни зайти, ни выйти без разрешения. Это скорее не castello, а живое воплощение власти; здание, всегда готовое к нападению врага.
Лошади стучат копытами по мосту; надо рвом сине-черной стрелой летит ласточка, а потом исчезает под аркой. Лукреция проезжает под опускной решеткой с острыми пиками прямо над головой, а потом ворота надежно запирают, и перед глазами предстает открытый двор, со всех сторон окруженный высокими стенами. Альфонсо и Леонелло слезают с коней и бросают поводья конюхам; Альфонсо снимает перчатки для верховой езды, разминает шею и помогает Лукреции спуститься.
Взяв жену под руку, он ведет ее мимо толпы слуг, сгорбившихся в поклоне, и стражников. Герцог скользит по ним взглядом, принимая почтительное уважение, затем кивает и вместе с Лукрецией направляется в прохладную тень лоджии.
Потом они поднимаются по широкой мраморной лестнице. Альфонсо бросает через плечо какие-то новости о голландском вице-короле, договоре, письме о намерениях и герцогстве Урбино. Леонелло не возражает и не соглашается, только откликается задумчивыми: «Хм-м-м…», словно берет на заметку слова кузена. Лукреция старается на несколько шагов опережать Леонелло, подбирает юбки: отвратительна сама мысль, что советник крадется где-то за спиной. А еще пытается не вспоминать омерзительный глухой стук, с которым Леонелло бил мальчика-слугу о деревянную крышку.
Они втроем поднимаются по лестнице; Альфонсо и Леонелло все еще обсуждают государственные дела. На гобеленах вышиты эпизоды из мифов и единороги, спящие у подножия деревьев. Слуги бросаются открыть тяжелые деревянные двери, и Лукреция со спутниками попадает в большую парадную залу с высоким сводчатым потолком и мастерски расписанными стенами; уголком глаза она видит на них ряд обнаженных мужчин, воздевших руки то ли в ликовании, то ли в гневе — сложно сказать наверняка.
— Позвольте представить моих сестер. — Альфонсо чуть склоняет голову.
Сестер? Она-то думала, что ее проводят в покои, дадут сменить дорожное платье на более приличествующий наряд, подготовиться ко встрече с родными Альфонсо, к официальному menare a casa. На это нужно несколько часов! А она стоит в пыльном giornea и мантии; волосы растрепанные, перчатки грязные. На другом конце комнаты с возвышения встают смутные фигуры и поворачиваются к ней. Скрывая замешательство, Лукреция высвобождает руку из руки Альфонсо и низко кланяется силуэтам (Их там двое или трое? Есть среди них мать Альфонсо?), сгибает шею, опускает глаза на ковер.
Радостное восклицание, топот ног по узорчатому мрамору и музыкальный голосок:
— Мы очень рады твоему приезду! Приятно наконец познакомиться с тобой, Лукреция!
Чья-то ладонь касается ее руки, Лукреция поднимает голову. Сверху на нее смотрит женщина в чернильно-синем платье. Она значительно выше Лукреции, глаза у нее такие же темные, как у брата, зато черты более хрупкие, скулы выше, красные губы сильнее изогнуты.
— Благодарю, — теряется Лукреция, обескураженная теплотой женщины, ее изяществом. — Ваше высочество. Для меня большая честь…
Женщина ласково сжимает ее пальцы.
— Прошу, зови меня Элизабеттой, мы же теперь сестры, верно? — Она показывает на вторую женщину, которая, запыхавшись, подходит к ним. — Это Нунциата.
Лукреция вновь кланяется под пристальным взглядом Нунциаты. Между сестрами нет почти никакого сходства. Блестящие темные локоны Элизабетты разделены пробором и перехвачены кружевной тесьмой. На ее прелестную лебединую шею надет жесткий воротник-веер и бархотка с жемчужиной. Разрезы на ткани верхнего платья обнажают бледно-розовый шелк, а на маленьких ступнях блестят кожаные туфли с золотым отливом. Лукрецию отчаянно тянет рассматривать ее лицо, платье, украшения, запомнить все до мельчайших подробностей. Наверное, Элизабетте лет двадцать шесть — двадцать семь. А вот Нунциата не столь хороша собой: ее маленькие глазки блестят на восково-бледном лице, дряблый подбородок переходит в полную шею. Рост невысокий, фигура дородная, между бровей хмурая складка; она одета в серо-коричневое платье из жесткой парчи. Под мышкой Нунциата держит маленького спаниеля с шелковистыми ушами и злобной, заносчивой мордой.
— Добро пожаловать, — говорит Нунциата без всякой приветливости и холодно кивает.
Лукреция улыбается, надеясь как-нибудь убедить ее, что не судит людей по внешности и прекрасно знает, каково это — жить в тени всеми любимых сестер. Однако Нунциата смотрит в сторону окна, у которого Альфонсо переговаривается с Леонелло.
— Вижу, женитьба ничуть не улучшила его манер, — вздыхает она и ворчливо окликает брата: — Не хочешь поздороваться, как подобает? Или ждешь, что твоя малышка-невеста нас поприветствует вместо тебя?
Альфонсо делает вид, будто не слышал, и продолжает беседу с советником.
— Да, и вправду малышка, — повторяет Нунциата, близоруко разглядывая ноги, руки и волосы Лукреции, только лица избегает. — Пожалуй, чересчур хрупкая, правда?
Элизабетта переводит взгляд с сестры на брата, потом опять на Лукрецию и ласково сжимает ее руку.
— Она прелесть! Просто прелесть. Прекрасный выбор для…
— Я имела в виду возраст, — перебивает Нунциата. — Ты совсем юная, — добавляет она громче, недовольным тоном, словно обвиняя Лукрецию. — Я думала, тебе около двадцати…
— Нет, — поспешно поправляет Элизабетта, и все трое понимают, что Нунциата спутала Лукрецию с Марией, несостоявшейся невестой. Кажется, стоит обернуться, и Мария будет за спиной, недовольно скрестив руки на груди примерно так же, как Нунциата. — Лукреции… четырнадцать, верно? Или пятнадцать?
Лукреция кивает.
— Мне исполнится шестнадцать в…
— Чудесный возраст! — восклицает Элизабетта. — Почти шестнадцать, это ведь…
— Очень юная, — повторяет Нунциата в ухо сестре с таким недовольным выражением, будто ей подсунули испорченный товар. — Надеюсь, не слишком юная? — добавляет она еще тише.
Нежные щеки Элизабетты краснеют, она теряется. На миг Лукреции кажется, что Элизабетта смущена бестактностью сестры, ее откровенной несдержанностью, но когда Элизабетта опускает глаза в пол, Лукреция с ужасом понимает, что Нунциата лишь выразила вслух тревоги сестры, и вся их семья — а то и все castello — только отчаянно дожидаются ее беременности.
Лукреция стоит в дорожном платье, в пятнадцатилетнем теле. Все эти люди хотят лишь рассмотреть ее изнутри; они подобны анатомам, что сдирают с животного шкуру, отделяют мышцы от кожи и вены от костей, изучают, делают выводы, кивают друг другу. Все сгорают от нетерпения, жаждут увидеть, как внутри нее растет ребенок, долгожданный наследник. Она лишь сосуд, средство выживания для их семьи. Лукреция хочет застегнуть накидку, спрятать руки в рукава, завязать чепец и набросить на лицо вуаль. «Не смотрите на меня, вам не заглянуть внутрь! — мысленно возмущается она. — Да как вы смеете меня оценивать и критиковать? Я не La Fecundissima и никогда ею не буду!»
Сбоку слышен шорох — неужели Мария? Но ее руку накрывает знакомая, теплая рука, отнюдь не призрачная: рядом с ней становится высокий мужчина. Альфонсо.
Герцог изучает сестер взглядом, потом всматривается в Лукрецию. Если он и почувствовал настроение среди дам, то не подает вида, только прижимает руку Лукреции к груди прямо на глазах у сестер.
— Что думаете? Разве не красавица? Я ведь говорил, что сделал прекрасный выбор.
— О да, — радуется Элизабетта смене темы. — Да, верно. Я очень рада с ней познакомиться. Она прелестна.
Нунциата кивает, сжав губы в ниточку, и бормочет, как вся семья рада, что Альфонсо наконец остепенился: они-то боялись, он так и останется на всю жизнь повесой.
Альфонсо встречает слова сестры молчанием, не отрывает от нее взгляда. Потом кладет руку Лукреции себе на сгиб локтя и крепко сжимает. Его мышцы напрягаются под тканью рукава.
Лукреция неловко кашляет. Наверное, если не заговорит она, не заговорит никто.
— А здесь… — Она умолкает, обводит глазами комнату, словно кресла и другая мебель могут дать ей подсказку. — Удостоят ли меня знакомства с вашей досточтимой матушкой? И старшей сестрой?
Вздрогнув, Элизабетта смотрит на брата, приподнимает брови.
Нунциата фыркает.
— А ты собралась во Францию? — Она показывает на Лукрецию свободной рукой, без собачки; ее платье негодующе шуршит.
— Я… нет… — теряется Лукреция. — Разве они?..
Элизабетта вздыхает.
— Что велишь сказать, Фонсо?
Альфонсо молча отходит от Лукреции, наливает себе немного вина.
— Что я велю? — повторяет он. — О чем это ты, Элизабетта?
— Ты прекрасно знаешь, о чем! — вскипает Нунциата, и спаниель, почуяв досаду хозяйки, резко гавкает.
Альфонсо медленно отпивает из кубка, не отрывая глаз от Нунциаты и собаки. В комнате потрескивает пламя, видимое только этим троим, и скрытый огонь спалит Лукрецию, если она подойдет слишком близко.
— Моя мать сейчас во Франции с нашей сестрой Анной, — чеканит каждое слово Альфонсо, и у Лукреции сжимается сердце: он обращается к ней! — Как я уже говорил. А потому не понимаю, дорогая… — он крутит кубок, — …зачем вы меня спрашиваете.
Лукреция хотела бы сказать: «Ничего ты не говорил, никогда ничего не рассказываешь. Я-то думала, они здесь, в Ферраре. Ты ведь всегда достигаешь желаемого, разве нет?» Однако молчит.
Элизабетта смотрит на нее с сочувствием.
— Не будем о грустном, — объявляет она, хлопнув в ладоши. — Надо отпраздновать твой приезд, Лукреция! Устроим festa[50], пригласим музыкантов и актеров — тех, которые нравятся Альфонсо, из Рима! Только не сегодня, — поспешно добавляет она. — Наверное, ты устала с дороги. Можно украсть ее на минутку, Альфонсо? Мы с Нунциатой проводим ее в комнату. Ручаюсь, тебе не терпится отдохнуть, разобрать вещи. У нас много времени впереди, еще наговоримся! Пойдем с нами, посмотрим твои покои. Они уже готовы, я сама видела.
— Благодарю, — отвечает Лукреция. А увидев комнату, снова благодарит. Ей выделили салон идеальной квадратной формы на верхнем этаже одной из башен; на его стенах висят толстые ковры, в углу стоит письменный стол, всюду плюшевые стулья, есть огромный камин и два окна с подушками на подоконнике. За дверью другая комната, поменьше: кровать с балдахином, зеркало, тумбочки и сундуки для одежды. Слуги уже аккуратно раскладывают ящики и сумки. Эмилия ходит среди вещей, считает по пальцам, все ли на месте.
Нунциата с трудом добирается до этажа и падает в кресло, пыхтя и причитая: Лукреция с Элизабеттой шли слишком быстро, она и забыла, как далеко эта комната… Сестра Альфонсо опускает свою собачку на пол, и та исчезает в складках ее юбок.
— Надеюсь, тебе здесь понравится, — говорит Элизабетта, пока сестра обмахивается веером и ворчит. — Я сама все подготовила, но если тебе что-нибудь не нравится, обязательно…
— О нет! — уверяет Лукреция. — Все идеально. Ни одной вещицы бы не сдвинула. Великолепные комнаты! Вы обе очень добры.
— Пустяки. — Элизабетта садится на бархатный диванчик. — Мне было ничуть не трудно. Мы так обрадовались, когда Альфонсо женился, правда, Нунция?
Нунциата хмыкает, ища носовой платок.
— Мы с сестрами только на это и надеялись. И… — Элизабетта поправляет рукав. — Мама тоже. Жаль только… ее не было.
Лукреция садится рядом; ей безумно хочется спросить об их матери. Почему она уехала, что сказал Альфонсо, скучают ли по ней Элизабетта с Нунциатой, как они считают, она вернется? И как обстоит дело с Анной, старшей сестрой? Выйдет ли она замуж, родит ли наследника, посягнет ли он на титул Альфонсо, его castello и земли? Правда ли вся надежда на продолжение их рода теперь на плечах Лукреции, что нужда в наследнике возросла десятикратно? Вместо этого Лукреция выпаливает:
— Вы не замужем?..
Элизабетта молча смотрит на нее темными глазами.
— Простите, спросила, не подумав…
— Не за что прощать, — добродушно отвечает Элизабетта. — Нет, не замужем. Нунция тоже. За нее говорить не стану, но меня ничье предложение пока не соблазнило.
— Предложение-то не соблазнило, — язвит Нунциата. — А вот кое-что другое тебя вполне успешно соблазняет, верно говорю, Элиза?
— Нунция, прошу тебя! — Щеки Элизабетты горят, она впервые теряет самообладание, маску невозмутимого спокойствия.
— Кое-что или кое-кто, — ядовито шепчет ее сестра.
— Сестра любит поддразнивать, — поджав губы, произносит Элизабетта.
— Понимаю, у меня тоже есть сестры. — Лукреция смущенно поправляет себя: — То есть сестра. Раньше их было две, но…
Элизабетта накрывает ее руку своей. С минуту все трое — новобрачная и две ее золовки — сидят молча, образуя треугольник в квадратной комнате.
Потом Элизабетта с природным тактом убирает руку и показывает на окно, за которым темнеет ясное небо Феррары.
— Уже поздно. Мы оставим тебя одну. Нунция, пойдем?
Нунциата, отложив платок, кивает, однако обе сестры остаются на месте. Лукреция ерзает в жестком каркасе платья. Спаниель поднимает вздернутый нос из-под юбок хозяйки и смотрит на Лукрецию выпученными глазами.
— Хочешь поужинать в комнате? — интересуется Элизабетта. — Мы велим слугам принести тебе еду.
— Она сама прекрасно умеет посылать за едой, — отрезает Нунциата. — Уж, наверное, во Флоренции она могла себе это позволить!
Лукреция переводит взгляд с одной сестры на другую. Как правильно ответить на слова Нунциаты? Непонятно, какая кошка пробежала между сестрами, но Нунциата явно одержала серьезную победу над прекрасной Элизабеттой, ведь та расстроилась и покраснела. Лукреция и сама выросла в большой семье, ей ли не знать, что за дверью комнаты Элизабетта с Нунциатой скажут друг другу немало горьких слов — возможно, связанных с затаенными давным-давно обидами.
— Да, — отвечает Лукреция. — Конечно. Прошу, не утруждайтесь.
— Отлично, — нараспев отвечает Элизабетта и собирает пышные юбки, готовясь уйти. Потом вдруг добавляет, не глядя ни на Лукрецию, ни на сестру: — Ты ведь не станешь повторять глупость Нунциаты? Не скажешь Альфонсо?
Лукреция недоуменно молчит.
— Он только… — Элизабетта подбирает слова, — …расстроится. У него и так много забот. Не хочу тревожить его понапрасну. И потом, Нунциата всего лишь дразнилась. Правда же? — обращается она к сестре.
Нунциата треплет собаку за уши и не удостаивает сестру ответом. В воздухе опять потрескивает пламя.
— Да ну? — наконец тянет она.
— Конечно, дразнилась.
— Как хочешь.
— Обещаешь, Лукре? — повторяет Элизабетта с напускной веселостью, хотя в ее голосе звенит страх. — Можно ведь называть тебя Лукре?
— Конечно. Сестра меня так и зовет.
— Отлично, мы теперь тоже сестры.
— Да, обещаю, — продолжает Лукреция, — я ничего не скажу Альфонсо. — Она готова все пообещать чудесной женщине, которая обставила для нее комнаты и так отчаянно хочет скрыть какую-то ужасную тайну, что даже притворяется, будто это пустяк.
— Спасибо, — отвечает Элизабетта. — Это мелочь, конечно, ничего серьезного. И все равно спасибо. — Она ласково треплет Лукрецию за щеку. — Какая ты милая, просто куколка. Альфонсо не прогадал, верно говорю, Нунция?
Нунциата уклончиво мычит. Спаниель, заметив голубя на балюстраде, с рычанием рвется с тонкого поводка.
Элизабетта задумчиво касается волос Лукреции, как всегда перевязанных лентой и спрятанных под scuffia.
— Во Флоренции такая мода?
— Я… — Лукреция ощупывает крошечные жемчужины в сетке. — Это… прическа моей мамы. А маму, полагаю, научила ее мама. Мы, дочери, всегда…
— Твоя мать испанка, да? — перебивает Нунциата.
— Она родилась в Испании, но выросла в Неаполе, ее отец там…
— И ты говоришь по-испански?
— Да.
— А еще на каком языке?
— По-французски, немного по-немецки. Умею писать по-латыни и по-гречески.
— Понятно. Маленькая умница, я смотрю.
Лукреция решает не отвечать грубостью на грубость: порой это помогало, когда Мария с Изабеллой ее поддевали.
— Мой отец считал, что дочерям образование нужно в той же мере…
— Ты взяла с собой придворных дам?
Лукреция качает головой.
— Я посчитала, что…
— Ни единой придворной? — Нунциата сверлит ее взглядом.
— Только камеристку. Я очень ее ценю. Она там. — Лукреция показывает на спальню.
Нунциата, наклонившись, заглядывает в приоткрытую дверь, за которой Эмилия разбирает сундуки и встряхивает платья. Похоже, сестра Альфонсо не в восторге от увиденного.
— Я пришлю тебе даму. Компаньонку под стать герцогине. Она будет тебе служить, познакомит с модой при дворе и поработает над твоим внешним видом.
Лукреция взвинчена до крайности и не знает, что ответить. Не слишком-то приятно пускать в комнату незнакомую придворную даму, да еще от вредной Нунциаты. Ей ни к чему лазутчица. И что плохого в ее наряде и прическе? Бросить бы Нунциате в лицо, что ее мать считают необыкновенной красавицей с большим вкусом, что люди со всей провинции и даже за ее пределами приезжают поглядеть на Элеонору, перенять фасон ее платья и манеры.
Наверное, Элизабетта почувствовала недовольство Лукреции, потому что вдруг попросила:
— Расскажи нам об Альфонсо.
— О чем именно?
— Наверное, он хорошо отдохнул с тобой в деревне. Приятно на него посмотреть, да, Нунция?
Нунциата не отвечает, занятая игрой с комнатной собачкой.
— Он… — Элизабетта мешкает, — заботится о тебе?
— Да, — кивает Лукреция.
— И… не обижает? Хорошо к тебе относится?
— Да.
Элизабетта задерживает на ней взгляд, потом говорит:
— Рада слышать.
Она помогает Нунциате подняться.
— Мы тебя оставляем. Если что-то нужно, пожалуйста, сообщи. Мои покои через стену с парадной залой, где мы познакомились. А Нунциата живет в соседних. — Она идет к двери под руку с сестрой и добавляет: — Комната Альфонсо прямо под твоей. Между вашими покоями есть лестница. Уверена, он скоро к тебе придет.
Той ночью он не приходит. Лукреция вслушивается: нет ли шагов по лестнице, не открывается ли щеколда без всякого стука. Ничего.
Она готовится ко сну, Эмилия откидывает одеяло, задергивает полог, будто запирает певчую птичку в клетку из ткани. Ни намека на Альфонсо.
Комнату заполняет тьма, холодные лучи звезд пронзают черное полотно неба. Лукреция представляет себя со стороны в этой башенной комнате в самом углу castello. Комната будто висит в воздухе над городом, над зеленым рвом. Если высунуться подальше из окна, то потеряешь равновесие и камнем рухнешь в воду.
Она просит Эмилию лечь не в каморке близ покоев, а на тюфяке у кровати. Служанка послушно укладывается рядом с госпожой.
И все равно сон не идет, не отзывается на призыв Лукреции. Разум, звинченный поездкой и новыми комнатами, захвачен мыслями и впечатлениями, тщательно их пересматривает, приводит в порядок и аккуратно раскладывает. Элизабетта в золотых туфлях на каблуках, ее изящные скулы и тайна, которую Лукреция едва понимает, но должна таить от Альфонсо; сварливая Нунциата с короткими пальцами; холеная, сердитая морда спаниеля; его зубы, похожие на белые иголки; исчезнувшая мать-француженка; старшая сестра, чей возможный брак несет страшную угрозу; двор, который Альфонсо предстоит обуздать, как сокольнику — своевольную птицу; грядущий праздник.
Под покровом ночи дыхание castello звучит престранно: скрипят балки, тихо шелестят шаги, звенит и шуршит в крытых переходах — наверное, стражники делают обход, но воспаленное воображение твердит, что это нечисть или злой дух гремит цепями и орудиями пыток. Лукреция пытается обуздать свой слух, приказать ему, как своенравной ищейке, не вслушиваться в такую даль, а сосредоточиться на звуках в комнате: шелесту полога на сквозняке, глубокому мерному дыханию Эмилии.
Лукреция становится путеводительницей этой ночи, ее спутницей и духовником. Распахиваются и захлопываются двери, за окном стучат колеса повозки, этажом ниже басит мужской голос, его успокаивает женский; где-то вдалеке, за стенами палаццо, жалобно воет волк. Тьма постепенно отступает перед рассветом и наконец сдается на милость стены густого тумана. И когда первая ночь в castello подходит к концу, исчезает без следа, Лукреция засыпает.
Нанятые Альфонсо музыканты стоят по обе стороны возвышения, запрокинув головы, и голоса их льются словно не изо рта, а откуда-то из-за спины. Лукреция никогда не слышала ничего подобного: сила и мощь их голосов несравнима с навыками других певцов. Взяв ноту, они держат и тянут ее так долго, что у Лукреции из сочувствия кружится голова. Как у них получается петь одну ноту по восемь, девять, десять и больше секунд? Сливаясь, голоса взлетают к сводчатому потолку, переливаются и крепчают; мелодия вьется, как хвост воздушного змея.
Лукреция оглядывается: остальные зрители разделяют ее восторг? Нунциата сидит на противоположной стороне стола, погруженная в разговор с неким поэтом. Ее спаниель залез на стол и лакает из тарелки; тонкие лапки собаки дрожат. Элизабетта сидит лицом к исполнителям, но взгляд ее то и дело скользит к дальнему концу комнаты. Остальные следят за выступлением минуту-другую, потом отвлекаются, шепчут соседям замечания или шутки; две женщины, одна в изумрудно-зеленом платье и жестком полукруглом воротнике, другая с чучелами птичек в волосах, тихо перешептываются, наклонившись друг к другу, и плечи их трясутся от беззвучного смеха. Мужчина, сидящий в конце стола, шарит рукой в блюде с фруктами; его пальцы пробегают по винограду, персикам, абрикосам; он вытаскивает из горки инжир и целиком бросает в ожидающий рот. Заметив взгляд Лукреции, он подмигивает, шевеля влажными губами. Лукреция отворачивается. Один лишь Альфонсо увлечен пением. Он наклоняется вперед, уперевшись локтем о стол и положив на руку подбородок, и отбивает по лбу ритм указательным пальцем. Забыв обо всем, он погружается в мир музыки, и она захватывает его, как послушную бабочку, в свои прекрасные тонкие сети. Ноты и слова расходятся волнами, как складки разноцветных знамен.
Лукреция сидит за праздничным столом в свадебном платье. Перед праздником Альфонсо заглянул к ней в покои уставший, с темными кругами под глазами, и попросил надеть именно этот наряд. Извинился за свое отсутствие прошлой ночью. Его заждались государственные дела, он всю ночь слушал отчеты — такое случается, когда он надолго уезжает из castello. Не могла бы она простить его оплошность и надеть то самое платье на festa, организованный в ее честь? Придворные будут очень рады полюбоваться ею в свадебном наряде, а он с гордостью проводит ее в парадную залу и представит ко двору. На бракосочетании она была настоящей богиней, так пусть вся Феррара увидит ее такой. Когда Альфонсо ушел, Эмилия радостно захлопала в ладоши и тотчас принесла платье. Она расправляла складки на юбках, приглаживала золотистую органзу на корсаже и щебетала, как рада, что ее высочество снова наденет эту красоту!
И вот Лукреция второй раз облачилась в свадебное платье: голубые юбки, пышнейшие рукава, золотой cintura — подарок Альфонсо. Только на сей раз она велела Эмилии затянуть корсет так, как ей удобно, и не обращать внимания на маленькие пометки Элеоноры, указывающие, куда продевать шнуровку. Сегодня это ее платье, только ее, а не Марии. Она больше не самозванка, укравшая жизнь сестры, теперь она покажет себя — Лукрецию, герцогиню Феррары.
Парадная зала встретила Лукрецию и Альфонсо трелями арпеджио и взрывами восклицаний пополам с аплодисментами. Люди выстраивались вдоль длинных стен, а Альфонсо водил Лукрецию по кругу, время от времени представляя ей кузенов, друзей, придворных, поэтов, скульпторов, компаньонок, нескольких придворных дам Элизабетты и Нунциаты, лютниста, капитана гвардии. Лукреция кланялась каждому, принимала реверансы и поклоны, пыталась запомнить имена. Оказывается, дамы носят менее пышные юбки, чем во Флоренции, воротники у них выше, кружев больше, а корсажи длиннее спереди. Она украдкой поглядывала на платья, пока один из советников Альфонсо перечислял ей все входы и выходы в городских стенах Феррары, а муж стоял рядом, держа руки за спиной. Его забавляла решимость, с которой советник называл герцогине все ворота, загибая короткие пальцы. Лукреция кивала, изображая восхищение, а сама гадала, получится ли нарисовать дамские наряды в письме Изабелле. Сестра ведь просила во всех подробностях описывать феррарскую моду.
Лукреция рассматривает весь festa сквозь эту призму. Думает, что написать Изабелле, во время длинного и немного запутанного спектакля по исторической поэме, в которой король случайно травит жену и ее призрак терзает его вечным укором. Во время пира она прикидывает, какое блюдо описать в письме. Фаршированную голову cinghiale[51] с желтой айвой в пасти и закрытыми от такого унижения глазами? Рыбный бульон? Миндальные пирожные? Frittata?[52] Куски белого lardo crudo?[53] Полупрозрачные ломтики сыра?
Она представляет, как сидит за столом и пишет сестре, оставшейся во Флоренции с родителями: «Феррарский двор необычайно изысканен. Акробаты и nano со своими ужимками здесь мало кого интересуют; внимание уделяют театру, поэзии и музыке». Или: «Дамы носят высокие прически над круглыми воротниками». А еще: «Актеры читали нам эпическую поэму, а после мы слушали двух певцов с необычайными голосами. Жаль, тебя здесь не было».
Мысль о письме приятно щекочет самолюбие, прежде она не знала этого чувства. Она такое видела, что Избелле и невдомек. Она представляет, как Изабелла жадно вчитывается в ее послание, изводится завистью и мечтает тоже поехать в Феррару. Может, так и будет. Лукреция ее пригласит, если Альфонсо позволит, и тогда Изабелла поедет через Апеннины в castello пожить с сестрой.
Лукреция вздыхает. Мелодия переходит на минорный лад, в голосе певцов звучит тоска. Вряд ли Изабелла приедет. Она увлечена и поглощена жизнью во Флоренции. Если Лукреция опишет сестре festa, скорее всего, та попросту бросит читать на середине и уйдет побеседовать с подругой или новым любимчиком среди придворных.
Слова для письма испаряются. Лукреция поправляет складки платья и рассматривает комнату, где искорками вспыхивают разговоры и песни, трепещут огоньки свечей, а их отблески пляшут на рукоятках оружия мужчин и в драгоценностях дам.
Песня подходит к кульминации, оба певца берут одну высокую ноту, она нарастает и дрожит в воздухе. Потом, взглянув друг на друга, они в унисон закрывают рты, разрезав шелковую нить ноты пополам.
Слушатели разражаются громом аплодисментов. Люди встают с мест; дамы машут платочками, мужчины кричат:
— Браво, браво, еще, еще!
Странно, громче всех хлопают те, кто все выступление отвлекался.
Лукреция аплодирует и аплодирует, пока не начинают гореть ладони. Певцы посылают залу воздушные поцелуи, забавно подходят друг к другу бочком, берутся за руки и отвешивают низкий поклон. Лукреция привыкла к гимнастам, акробатам и шутам, а в этих певцах есть нечто загадочное, возвышенное. Они высокие, с длинными, тонкими руками и ногами, заостренными кошачьими лицами; их запястья и руки чарующе подвижны, словно суставы у них смазаны лучше, чем у других. Во время пения они были, собственно, певцами, гениями, ангелами, а теперь, склонившись перед слушателями и крича благодарности, они вновь стали людьми.
Альфонсо наклоняется к ней, заглядывая в лицо.
— Вам понравилась музыка? — громко спрашивает он сквозь шум.
— О да! Ничего подобного прежде не слышала! Они так умело переходят от низких нот к высоким — не знаю, как они этому научились, но голоса у них очень гибкие!
Муж удивленно ее разглядывает, не прекращая хлопать.
— Вы правы! Об этом я не думал. Они и впрямь умело переходят от низкого регистра к высокому. Только им подобные на это способны.
— Им подобные?
— Они evirati[54]. Я специально заказал их из Рима. Их самым тщательным образом готовят к работе, с самого детства, еще до… — Он делает непонятный жест двумя длинными пальцами. — Потому у них такие необыкновенно чистые голоса и в то же время широчайший диапазон. Связки детей, а тела взрослых мужчин.
Тут Лукреция понимает, о чем он. Она читала об этом древнем обычае, но считала его давно ушедшим в прошлое. Краска заливает лицо, а в горле становится ком. Она украдкой смотрит на две фигуры у канделябров, на их худые запястья, гладкие юные лица. Она невольно представляет evirati детьми. Тогда они не подозревали об операции, о том, что их ждет. Какая ужасная боль, какое потрясение, беспомощность и растерянность — и все из-за прихоти знатного богача. Был ли у них выбор? Кто способен провести столь ужасную процедуру?
Шум постепенно затихает, люди возвращаются в кресла, снова перешептываются с соседями. Певцы готовятся к следующему номеру.
Когда первые звуки музыки проплывают над головами слушателей, Альфонсо тянется к столу, где лежит рука Лукреции, и накрывает ее своей. Лукреция теряется. Миг назад она расстраивалась из-за evirati, которых сначала изувечили, а теперь используют, как цирковых зверюшек, однако простой, сердечный жест Альфонсо ее отвлекает.
Муж переплетает пальцы с ее пальцами так спокойно, на виду у всех — о, это очень многое значит! Значит, он ее любит, хочет развеять ее печаль и показывает свои чувства не только ей, но и всем присутствующим. Заявляет всему двору, друзьям, помощникам, придворным, гвардейцам, слугам, художникам, музыкантам и поэтам о любви, преданности и, быть может, о начале другой жизни. А вдруг она, новая герцогиня, сумеет покончить со смутой, которую внесла старшая герцогиня, сумеет справиться с очевидным разладом, религиозным расколом, возможным отъездом двух младших дочерей и отсутствием старшей?
Лукреция блистает в свадебном платье и сидит под руку с мужем. Она едва ли не светится от счастья, как фонарь в темноте. Ее любят! Ее любит могущественный, умный мужчина! Она пробудила любовь в сердце герцога — она, Лукреция! Вот бы написать об этом, пусть Изабелла читает, пусть все читают! «За ужином он взял меня за руку на глазах у всего двора». Нунциата, заметив жест брата, отворачивается. Женщина с птицами в волосах пронизывает их взглядом и что-то шепчет на ухо спутнику, и ее миловидное, капризное лицо искажается завистью и гневом. Мужчина, который ел инжир, теперь ковыряет в зубах куриной косточкой. Нунциата дергает поэта за рукав, а тот из учтивости склоняется к ней. Элизабетта же пробирается между креслами и гостями к человеку у колонны. Это Эрколе Контрари, капитан гвардии, которого представили Лукреции час-другой назад. Она узнает его по усам и красивому симметричному лицу. Капитан стоит, прислонившись к колонне, а когда Элизабетта проходит мимо, наклоняется к ней, что-то шепча. Элизабетта делает вид, будто не слышит, молча оглядывает комнату, столы и толпы гостей. Потом Контрари незаметно протягивает ей свернутый лист бумаги, и сестра Альфонсо украдкой, со спины, вырывает его из пальцев капитана, прячет в широком рукаве-конусе и проходит дальше как ни в чем не бывало. Их обмен отточен, почти неуловим, однако в нем таится такая опасность, что у Лукреции перехватывает дыхание. Она косится на Альфонсо, но он смотрит на певцов; опять косится на Элизабетту: она уже сидит на другом конце комнаты с кузенами, ее лицо невозмутимо, но глаза, глаза! Они светятся предательским, обманчивым счастьем.
Evirati запрокидывают голову, открывают рты, и ноты взлетают к потолку, словно юркие ласточки, что порхают надо рвом.
Той же ночью, когда праздничный ужин съеден, парадная зала пуста, слуги убрали со столов, вымыли посуду, сковородки и вертелы, подмели пол, и все в castello вернулись к себе, Альфонсо засыпает возле Лукреции, приобняв ее рукой.
Лукреция лежит под ее тяжестью, пока муж окончательно не проваливается в сон, затем тихо сползает на край. Она собирается было отодвинуть полог, как вдруг ее резко дергают за волосы. Альфонсо ее схватил и тащит обратно!
Нет, конечно, он спокойно спит: всевидящие глаза закрыты, руки раскинуты. Просто тело мужа навалилось на ее волосы.
Лукреция медленно, прядка за прядкой достает их из-под Альфонсо.
В соседней комнате мерцает на полу серебристый свет луны. Лукреция шагает на цыпочках прямо по нему. Вот запачкает она ступни в этой сверкающей краске, и наутро на полу заметят предательские яркие следы…
Она садится за стол, достает рулон пергамента и лист бумаги. Затачивает перо, собирает стружку в аккуратную горку. Водит пером по губам. Ворсинки отделяются и соединяются, отделяются и соединяются…
Что дальше? Написать письмо, сесть за картину, почитать, выучить стихотворение? Только ящик стола, набитый чернилами, углем, перочинными ножами, бумагой и кистями, дает ей полный покой.
Она уже не уснет; сон — это норовистый конь, которого ей не заарканить, он сбрасывает ее с седла, скачет прочь, стоит ей подойти, не слушает ее увещеваний. Может, дело в жирной пище, или в высоком мужчине, что растянулся сейчас на ее кровати, или в волнующем бело-голубом свете.
Она окунает перо в чернила и тотчас забывает о нем, неподвижно глядя на монетку луны, приклеенную с другой стороны окна. Снова окунает перо. Лучше написать не сестре, а матери.
«Дорогая мама!
Сейчас поздняя ночь, я вспоминаю всех вас. Надеюсь, ты здорова и у тебя все хорошо. Посылаю свою любовь тебе, папе, Франческо, Изабелле, Джованни, Гарциа, Фердинандо и Пьетро.
Пожалуйста, попроси их писать мне как можно чаще. Хочу знать все новости. Как папины охотничьи собаки, кошки в детской, гнедая лошадка? Кто теперь на ней ездит? Хоть бы не Пьетро: она очень нежная, а он будет сильно бить ее по бокам.
Вчера мы приехали в Феррару, нас встречали целые толпы горожан! Народ очень предан Альфонсо. Он красиво держался в седле, как настоящий герцог. Жаль, ты не видела. Я познакомилась с его сестрами (только с двумя, его мать и старшая сестра уехали во Францию, не знаю, почему).
Сегодня устроили festa. Выступали певцы (evirati, ты когда-нибудь их слышала?), а еще нам декламировали поэму. Я записала на обороте страницы блюда с пира и нарисовала платье одной знатной дамы. Может, Изабелла захочет посмотреть. Как видишь, мода у них не такая, как дома.
Castello очень большой и, конечно, не похож на delizia. Тут столько коридоров и лестниц, боюсь заблудиться! Мои покои в северо-восточной башне, над покоями Альфонсо. Его сестры подготовили комнаты к моему приезду, получилось замечательно. Если хочешь, в следующий раз я тебе нарисую Элизабетту и Нунциату.
Как дела у Софии? Надеюсь, колени не слишком ноют в сырую погоду?
Молюсь за вас и надеюсь поскорее увидеться. Целую тысячу раз!
Твоя любящая дочь,
Лукре».
Она пробегает написанное глазами. Пустая, трусливая чепуха! Вопросы про домашних зверюшек и родных, список блюд, заткнутый айвой cinghiale и тарелки с инжиром… От самой себя противно. Это письмо чужого человека.
На самом деле она хочет спросить, идет ли во Флоренции дождь? Начались ли осенние грозы? Закаляется ли папа в Арно? Кружат ли скворцы над палаццо по вечерам? На закате солнце по-прежнему льется в мою комнату, а потом уходит за крыши? Ты по мне скучаешь? Хоть капельку? Стоит ли кто-нибудь перед моим портретом?
Она плавит сургуч над огоньком свечи, прижимает к алой лужице печать — герб ее отца, щит с шестью palle[55].
Затем откладывает готовое письмо в сторону и, оглядываясь через плечо, снова лезет в ящик стола. На сей раз достает квадратик tavola, которую сама выстругала и отшлифовала на прошлой неделе. Взвешивает дощечку в руке, проводит красным мелком сверху донизу, рисует узкую прямую полосу. Колонна. Рядом появляется треугольник и постепенно приобретает голову и руки, становится силуэтом.
Лукреция толчет красители, смешивает их с капелькой масла. Берет тонкую кисть и рисует красивое лицо в форме сердечка, тонкую шею, маленький подбородок, опущенные мечтательные глаза. За женщиной она изображает едва заметный силуэт мужчины, скрытый в синей тени; он слегка наклонен к первой фигуре, и на его лице читается нежность.
Законченная миниатюра размером с ладонь и радует, и пугает. Лукреция долго рассматривает ее, пока краска не высыхает, а черты пары не застывают на полотне навсегда: мужчина подается к возлюбленной, а ее лицо сияет скрытой радостью.
Лукреция проверяет кончиком пальца, действительно ли высохла краска, и внезапно луна прячется за облачком тумана, испуганная получившимся творением.
Она вновь озирается: вдруг дверь открыта и Альфонсо заглядывает через плечо? Потом берет кисть с жесткой щетиной, обмакивает в зеленовато-коричневый, оттенок густого леса, и размашистыми движениями накрывает картину тьмой, стирает возлюбленных, хоронит их под слоем краски. Исчезает платье женщины, рука мужчины, их лица, колонна. За считаные мгновения от них не остается ничего, они безвозвратно скрыты, и напоминают о них только маленькие бугорки на краске, подобные камешкам на дне озера.
Лукреция вытирает кисти, наводит порядок на столе, прислоняет теперь уже чистую tavola к вазе, гасит свечу и, убедившись, что не осталось никаких следов, возвращается в постель.
Дела Альфонсо в castello остаются для Лукреции загадкой, она знает лишь, что здесь у него гораздо больше забот, чем в delizia. Он встает рано, упражняется, обычно в компании Леонелло и двух-трех юношей; они уезжают на охоту или занимаются фехтованием во дворе. Потом муж идет в свой кабинет, читает письма, пишет ответы и наказы, выслушивает просьбы, отдает приказы гвардии, секретарям, чиновникам, советникам, политикам, архитекторам, кардиналам и канцелярии; неустанно и упорно укрепляет свою власть над регионом. Эмиссары, придворные, военные и послы день-деньской приходят и уходят. Если работы слишком много, Альфонсо обедает у себя. Эмилия передает новости: заместителям секретаря сказали конюхи, а им — стражники, а им — слуги с кухни, а им — служанки, что Альфонсо разослал шпионов во все уголки своего региона и соседних тоже, и в провинции дела идут относительно мирно, а вот при дворе — другое дело.
Лукреция не видит мужа целыми днями. Раз-другой он переглянется с ней на ходу, хмурый и строгий, окруженный чиновниками, или помашет, выезжая из ворот на усталой лошади, когда Лукреция гуляет по лоджии, или наспех попрощается утром, уходя из ее покоев.
Раз в день, говорит Альфонсо, он заходит в часовню на нижних этажах — не столько помолиться или исповедаться, сколько послушать, как хоровой дирижер репетирует с evirati. Этот дирижер — один из лучших мире, австриец из Вены, каждое утро по два часа занимается с учениками вокальными упражнениями и гармонической импровизацией. А по вечерам они репетируют выбранные Альфонсо номера для приемов. Ему нравится молча сидеть и слушать: проясняется ум и на душе становится спокойнее. Если нужно принять какое-то трудное решение — политическое, финансовое, семейное, — репетиция в часовне помогает собраться с мыслями.
После четырех-пяти дней в castello Лукреция понимает: ей предоставлена почти полная свобода. Невероятно! Большую часть дня она вольна делать, что пожелает. Можно рисовать пейзаж за окном, или собственный сюжет, или натюрморт из всего, что под рукой: глобуса, кожаной перчатки, подзорной трубы, тушки голубя из кухни, скелета белки, который она нашла у delizia, — и думать, как перенести все это красками на холст. Можно послать Эмилию к аптекарю за кошенилью или ярью-медянкой; служанка возвращается с кульками из вощеной бумаги, внутри которых лежат плотно обернутые конусы с разноцветными пигментами для радуги, птиц и зверей, листвы и дождей, для всего на свете, только бы подобрать нужную смесь и манеру нанесения. Можно спуститься по лестнице в покои герцога и гулять по террасе с апельсиновыми деревьями, смотреть на улицы города через ромбовидные проемы в стене. В первую неделю в Ферраре все возможно, все достижимо. Жизнь в castello наполняет ее необычайной силой: делай что угодно и рисуй, что вздумается. Стоит только протянуть руку — и получишь желаемое.
А вот у сестер Альфонсо на нее другие планы. Несколько дней Лукреция запирается у себя, тренируется изображать палаццо и delizia с высоты птичьего полета, но почти каждое утро за ней посылает Элизабетта. Ее покои драпированы насыщенно-розовым и потому напоминают мякоть фрукта. Лукреции приходится сидеть и ждать, пока золовка закончит прическу или увлажнит лицо и руки душистой мазью, поговорит с придворными дамами о каком-нибудь платье, письме, выступлении или скором festa. Потом Элизабетта берет Лукрецию под руку и гуляет с ней по castello, переходит из комнаты в комнату, спускается по лестницам или поднимается на закрытую лоджию. Иногда золовка упрашивает сорвать хоть несколько цветков с апельсинового дерева, что растет на закрытой террасе у покоев герцога.
— Его бутоны замечательно отбеливают кожу, — объясняет она, когда Лукреция приносит ей целую корзинку. — Хотя, конечно, у тебя и без них все прекрасно, дорогая!
Она спрашивает Лукрецию о детстве, братьях и сестре, о Флоренции — Элизабетта никогда там не бывала, но слышала о ее красотах и великолепной архитектуре. Она внимательно слушает ответы Лукреции, запоминает все подробности о ее семье, имена родных, их возраст и увлечения.
— Может, ты как-нибудь приедешь в гости, — отваживается Лукреция, когда оставить золовку без приглашения уже становится неприличным.
— Я была бы очень рада, — улыбается та.
Лукреция пытается вообразить Элизабетту в отцовском палаццо: ее узкие платья шуршат по плитам пола, внимательные глаза разглядывают позолоченные потолки; она осматривается, скрипя жестким воротником, говорит с Изабеллой и Элеонорой спокойным, учтивым тоном. А ведь тогда Нунциата тоже приедет! Будет высокомерно разглядывать роскошные фрески и статуи, презрительно морщиться от бравурных мелодий и фокусов акробатов. А потом нашепчет своим придворным дамам, какое во флорентийском дворе все шумное и безвкусное. Нунциата и ее противный спаниель впервые пробуждают в Лукреции стойкую дочернюю преданность: она никому не даст осуждать родителей и их образ жизни!
И никогда не пригласит домой ни Элизабетту, ни Нунциату.
Элизабетта следит, чтобы Лукреция не сидела подолгу за мольбертом, рисуя жизнь при дворе. Без предупреждения влетает в ее покои и распахивает ставни, испортив освещение для картины.
— Нельзя тут запираться на целый день! — заявляет она.
Элизабетта глядит на мольберт, но выдает только дежурную похвалу, дескать, очень красиво. Берет Лукрецию под руку, велит Эмилии снять с нее запачканный краской халат и ведет в салон, где поэты обсуждают стихи, философы — мораль, актеры репетируют, а знатные дамы шепчутся о мужьях, любовниках да ленивых портнихах. Обычно Лукреция сидит молча и терпит внимательные взгляды придворных: они оценивают ее осанку, драгоценности, роль при дворе, положение, внешность. Она велит себе не замечать их стрел и копий, только настраивает себя, будто струну лютни, на разговор философов в другом углу комнаты, на актера, что декламирует строки об Итаке. Если упоминается в чужом разговоре имя Альфонсо, она запрещает этим словам проникать в ее разум, отказывается нырнуть в озеро, где плавают все эти люди, даже не косится на проем, в котором стоит широкоплечий капитан гвардии, Эрколе Контрари, даже не моргнет, когда Элизабетта вдруг выйдет из комнаты, а вскоре за ней отправится и он. Она все видит, но никому не признается — ни себе, ни другим.
Единственное облачко на горизонте — Нунциата: та вдруг замечает, как много времени Лукреция проводит с Элизабеттой, когда девушки идут вместе мимо приоткрытой двери часовни, за которой Нунциата сидит одна со своим спаниелем. Лукреция рассказывает Элизабетте о маминой привычке иметь подле себя лишь испанских придворных дам и о курьезах, которые случаются между ними и слугами палаццо; Элизабетта смеется, держа Лукрецию под руку, и просит рассказать еще. Нунциата спрашивает, куда они идут, а сестра даже не останавливается, только бросает через плечо:
— Мы с Лукре хотим проветриться.
Тогда Нунциата следует за ними до самого двора. Элизабетта велела конюхам привести белую мулицу, и теперь девушки кормят ее апельсиновыми шкурками и корочками от сдобы. Элизабетта перевязывает гриву терпеливой мулицы разноцветными лентами, пока Лукреция придерживает животному шею и велит служанкам расчесать длинный хвост. Тут появляется Нунциата с собакой под мышкой; лицо золовки блестит от пота. Прищурившись, она глядит, как Элизабетта с Лукрецией наряжают мулицу, а потом водят по двору и гадают, нужно ли еще лент, поярче, а то и вовсе кружев. Элизабетта предлагает позвать Альфонсо — пусть полюбуется, отдохнет от дел. Лукреция, заразившись ее весельем, радостно кивает, но Нунциата вмешивается:
— Нашему брату, — обращается она к Элизабетте, не удостаивая Лукрецию вниманием, — не понравится, что мы отвлекаем его от работы. Тем более из-за подобной чепухи. Будь же разумна!
Ее голос, как холодная вода, гасит искорку веселья. Девушки развязывают ленты, отдают поводья конюху и расходятся по двору.
После этого Нунциата не отстает от них ни на шаг. Приходит пораньше в покои Элизабетты, чтобы вместе с ней забирать Лукрецию. Не пропускает ни единой встречи в салоне, несмотря на скуку и постоянные зевки на каждом стихе или выступлении. Частенько она устраивается между Элизабеттой и Лукрецией; стоит Лукреции заговорить, как Нунциата ее перебивает, а когда Элизабетта задает Лукреции вопрос, отвечает вместо нее.
Лукреция мучается неловкостью и вспоминает чудесные дни, когда с ней была лишь прекрасная, беззаботная Элизабетта. Этот странный треугольник, вершиной которого стала она, сбивает с толку: между ней и сестрами не было места соперничеству, ибо Мария с Изабеллой всегда ходили вдвоем и не пускали ее в свою компанию.
А вот Элизабетту поведение сестры забавляет: она находит все более уединенные места в castello.
— Там Нунциата нас точно не найдет! — заговорщически шепчет она, притаившись с Лукрецией за портьерами салона. — Она ужасно завидует, — радостно добавляет золовка.
Лукреция пишет о размолвке сестер Элеоноре, надеясь ее повеселить, но мать, как ни удивительно, серьезно предостерегает ее в ответном письме:
«Дорогая Лукреция!
Не думай, пожалуйста, что сестры Альфонсо борются за твою любовь. Никогда не путай подобное поведение с настоящей привязанностью. Помни: всякая дружба при дворе — лишь способ добиться власти и влияния. Они мечтают стать наперсницами самой герцогини, только и всего. Приближаясь к тебе, они приближаются к своему брату, укрепляют свое положение при дворе. Ты для них лишь средство. Не теряй бдительности и не выказывай предпочтения ни одной из них. Уделяй им равное внимание и сохраняй должную дистанцию. Герцогиня ты, а не они. Спроси себя, почему они так упорно ищут твоей благосклонности? Возможно, они окольным путем стараются навредить брату? Или даже тебе?
Неустанно молюсь за тебя.
Твоя любящая мама».
Лукреция поспешно прячет письмо в ящике стола. Время от времени она перечитывает его и гадает: неужели мама права? Скорее всего, Элизабетте искренне приятно ее общество, а Нунциата чувствует себя лишней. И все же червячок сомнения понемногу грызет ее при каждой встрече с сестрами Альфонсо. Чего им надо? В самом деле у них есть скрытые мотивы, как объяснила мама? Вдруг их приглашения и внимание — только ходы в тонкой закулисной игре, награда в которой — власть?
Элизабетта каждый день зовет Лукрецию на конные прогулки за город, а Нунциата, недолюбливающая лошадей, не может присоединиться к ним и посылает в покои Лукреции придворную даму. Однажды, когда Лукреция возвращается с прогулки, вдруг является Клелия и сообщает с низким поклоном, что ей велели прислуживать герцогине Лукреции. Ее почтительный тон ничуть не совпадает с неприкрытым любопытством во взгляде: она рассматривает стол для рисования, мольберт, коллекцию птичьих перьев, тонкий лисий череп цвета слоновой кости на подоконнике. У нее слегка выпуклые глаза, и она раскрывает их так широко, что вокруг радужки видны белки глаз, и ходит тоже престранно: шлепает пятками туфель по полу и тяжко вздыхает. Эмилия, конечно, смущена ее присутствием и всегда внимательно наблюдает, как Клелия выполняет какую-нибудь работу — раскладывает одежду или чистит обувь. Служанки неумело скрывают соперничество за Лукрецию, но она все замечает: каждая спешит напоить Лукрецию утренним напитком, нарезать ей хлеб, заплести волосы, затянуть корсет.
— Клелия родом из знатной семьи, которая попала в трудное положение, — объясняет Нунциата, заглянув к Лукреции проверить, прижилась ли новая помощница. — В ней есть порода, — добавляет золовка, неодобрительно покосившись на Эмилию. — И она прекрасно соответствует твоему положению.
Когда хочется порисовать или почитать, Лукреция посылает Клелию по мелким поручениям: ей мешает постоянное шарканье придворной дамы, а еще привычка смотреть из окна и тягостно вздыхать.
— Потерпи, — советует Элизабетта, выслушав Лукрецию и похлопав ее по руке. — Еще научится. Посмотри, какие чудеса она сотворила с твоими волосами и платьем. Ты заметила?
В тот день Лукреции уложили волосы в феррарском стиле, примерно как у Элизабетты: скрутили пряди, начиная от висков, и закололи множеством острых шпилек. Лукреция не уверена, по душе ли ей такая прическа: от тяжелой короны локонов затекает шея. Но Лукреция не жалуется, только кивает, улыбается и обещает дать Клелии время.
Элизабетта довольно кивает и собирается уходить: у нее важная встреча. Взгляд золовки говорит: «Ты все знаешь, ты догадалась, верно?» Лукреция провожает ее до двери, шагает в такт и без слов отвечает: «Да, догадалась, и никому не скажу».
Тем вечером Альфонсо приходит в ее покои раньше, чем обычно. Лукреция еще готовится ко сну: Эмилия снимает с нее воротник, булавку за булавкой, а Клелия развязывает cintura, который она надевала к ужину.
— Прошу, продолжайте, — успокаивает Альфонсо служанок, застывших при его появлении.
Он садится в кресло прямо на аккуратно разложенную одежду, но ни Лукреция, ни Эмилия, ни Клелия не решаются ему сказать, что он мнет ткань. Клелия убирает cintura в шкатулку на столе возле кресла, и Альфонсо поднимает свой подарок, перебирает пальцами золотые звенья и рубины.
— У вас новая прическа, — внезапно замечает он.
Лукреция стоит посреди комнаты в нижнем платье и юбках.
— Да, — отвечает она, повернувшись к мужу. — У меня новый стиль.
Она ждет, что он одобрит или не одобрит изменение, или заметит, что у Элизабетты такая же прическа, однако Альфонсо молчит. Потом встает с cintura в руках, идет к окну и рассматривает ее со всех сторон.
— У меня для вас чудесные новости. Бастианино прибудет завтра утром писать ваш портрет.
— Да, я слышала. И…
— Слышали? — Альфонсо останавливается на полпути. — От кого же?
— От Нунциаты. Она сказала…
— А она откуда узнала?
— Если не ошибаюсь… — Лукреция уже жалеет о своих словах. — Ее друг заказал работу у Бастианино, однако Бастианино будет здесь, у нас, поэтому не успеет вовремя с…
— Ясно.
Альфонсо ходит по комнате кругами, от камина к окну, к двери, креслу. Служанки опускают головы, торопятся, им неймется поскорее убраться. Лукреция хотела бы отпустить их: чем быстрее Альфонсо сделает то, за чем пришел, тем скорее уйдет, — но муж добавляет:
— Говорят, вы много времени проводите с моими сестрами.
Лукреция замирает. Это вопрос или утверждение? Как лучше ответить?
— Я… Да, наверное.
— С Нунциатой?
— Да.
— Только с ней или с Элизабеттой тоже?
— С обеими. Элизабетта первой… — Лукреция умолкает, повинуясь предчувствию.
— Продолжайте.
— Первой… Элизабетта… захотела со мной общаться. Она очень радушно меня встретила, а потом… Нунциата… — Лукреция колеблется. Как все ему объяснить? Какое объяснение он, собственно, хочет услышать? А еще она боится по неосторожности сказать что-нибудь не то. — Нунциата… решила к нам присоединиться. И теперь…
— Теперь? — поторапливает муж.
— Они… Она… Они обе… великодушно… составили мне компанию…
— Вы всегда втроем?
— Иногда.
— А когда вдвоем?.. Вы одна с Нунциатой? Или с Элизабеттой?
Лукреция кивает.
— С вами еще кто-нибудь бывает?
— Нет, — поспешно отвечает она. — Да. Иногда присоединяются компаньонки Элизабетты. Или… или придворные. Например, тот поэт, который нравится Нунциате.
— А с кем вы проводите больше времени: с Нунциатой или с Элизабеттой? Или одинаково?
— Наверное… больше с…
— Элизабеттой? — подсказывает Альфонсо.
— Да, пожалуй.
— И чем вы занимаетесь?
— Мы… гуляем… по лоджии. Меня приглашают… на вечера в ее салоне.
— Несколько раз в неделю вы вместе уезжаете из castello, верно?
— Да.
— На лошадях?
— Да.
— Катаетесь?
— Да.
Альфонсо кивает, обдумывая ее ответ, cintura скользит из одной руки в другую. Потом он берет Лукрецию за руку и ведет ее в спальню.
— Уже поздно. Вы, наверное, устали.
— Ваша светлость, не могли бы вы немного приподнять подбородок? Выше. Чуточку выше. Отлично, отлично, вот так! Теперь повернитесь, пожалуйста, к окну, медленно, медленно… Да! Прошу, ваша светлость, замрите.
Художник стоит посреди Salone dei Giochi[56], залитого солнечными лучами. Лукреция видит его неподвижную фигуру лишь краем глаза: она повернута лицом к стене, ноги вместе, руки подняты, как перед прыжком в воду или акробатическим трюком.
— Да, — бормочет про себя художник, рисуя в воздухе круги, будто невидимой кистью. Мысленно он уже приступил к портрету. Потом, не оборачиваясь, он говорит кому-то за спиной: — Видите, ваше высочество? Мне кажется, эта поза лучше предыдущей: видна линия подбородка, изящность шеи, хотя, конечно, такой румянец не передашь никакой краской! Восхитительно, несравненно! А лоб!
Альфонсо, сегодня одетый в темные цвета, ходит по затененным углам зала. Он рассматривает наброски на длинном столе, наклоняется над каким-нибудь, потом — над другим, разглядывает весь ряд и начинает сначала. Прошлым вечером Альфонсо сказал Лукреции, что фрески в этой комнате выполнил Бастианино. Зазвенела на миг тишина, потом Лукреция восхищенно что-то пробормотала. На самом деле ей не нравились фрески художника: младенцы на дельфинах, русалки и тритоны на змеях, бесстрастные мужчины в сражении. Слишком они статичны, до отвращения много в них телесного. Альфонсо же посчитал Бастианино подходящим художником для ее портрета.
— Весьма удачное совпадение, — добавил тогда муж. — Сначала он расписывал стены, а теперь напишет вас.
Лукреция уже несколько часов провела в разных позах: сидя, стоя, с ногами вместе, одна ладонь на другой, руки порознь, наклонив голову вперед, потом набок; подняв руки вверх, опустив, согнув запястье, — а художник все делает набросок. Потом просит встать иначе и берется за новый.
Бастианино прибыл в castello ранним утром; несколько подмастерьев несли на спине его многочисленные принадлежности. Лукреция скользнула взглядом по помощникам художника: какие-то подростки, один мрачноватый юноша и Маурицио — он указывал младшим товарищам, куда класть материалы, ракушки, бумагу и холсты. На нем была та же синяя куртка, что и в delizia. Джакопо не появился. В груди Лукреции яркой вспышкой полыхнуло беспокойство. Он заболел, что-то случилось? Она вышла в проход, но никого не увидела и вопросительно взглянула на Маурицио. Должно быть, он следил за ней, потому что едва заметно кивнул: не бойтесь, с ним все хорошо, никакой беды не случилось.
Художник, Бастианино, подходит к ней, поднимает то ее руку, то складку платья, поправляет cintura на талии, распрямляет кружево воротника. Альфонсо следит за ними глазами, сжав руки за спиной. До чего нелепо! Альфонсо спокойно позволяет другому мужчине касаться ее платья, руки, украшений. Не будь Бастианино художником, муж, наверное, вынул бы из-за пояса кинжал и пронзил наглеца.
Время от времени Бастианино бормочет:
— Позвольте, ваша светлость…
И, не дожидаясь ответа, оттягивает вниз кружево на воротнике, проводит пальцем по щеке или по виску.
Альфонсо и не подозревает, что Бастианино, касаясь ее руки, подбородка или другой части тела, украдкой, исподтишка ее сжимает — едва заметно, легко. Когда он так сделал в первый раз, Лукреция метнула на художника изумленный взгляд, а тот озорно блеснул глазами в ответ. У него висячие усы, довольно длинные волосы, седые виски, румяные щеки и живые зеленые глаза. Лукреции прекрасно знакомы подобные мужчины: они способны заигрывать с девушкой, даже если она герцогиня, тридцатью годами его младше, к тому же супруга его покровителя, и за кокетничанье с ней можно лишиться жизни. Элеонора одаривала таких ледяным взглядом — о, Лукреция много раз это видела! — а потом сообщала Козимо, что «такому человеку доверять нельзя».
Лукреция не отвечает на его взгляд, не поднимает глаз. Сидит, не шелохнувшись, а художник, муж, подмастерья и придворные рассматривают ее, обсуждают и обдумывают, чего не хватает портрету — еще золота, украшений, глобуса, медальона, животного, книги? Что создаст лучший образ? Как представить дом Феррары в выгодном свете? Художник делает набросок, Маурицио дает советы, Альфонсо шагает из одного конца комнаты в другой. Нунциата, держа под мышкой спаниеля, становится рядом с братом и заглядывает на картину через плечо Бастианино. Потом высокомерно пожимает плечами, будто не одобряет увиденного, и что-то шепчет на ухо своему спутнику, придворному поэту Тассо. Тот улыбается и с ласковой укоризной качает головой. Под конец дня к ним присоединяется Леонелло и молча переводит взгляд от набросков к Лукреции и обратно.
Она изо всех сил держит позу, отрешается от происходящего, позволяет разуму блуждать. Переносится в другое место и забывается, как по ночам с Альфонсо, — оставляет вместо себя только тело, внешнюю оболочку, а сама уходит, улетает, ускользает. Она вспоминает, как звякает сбруя белой мулицы, когда она скачет по лесу; представляет, как София раскладывает на столе в детской тарелки и ложки (а еще, наверное, просит другую няньку помассировать ей ноги); думает о любимом инсектарии мамы, о причудливом пищеварении гусениц, о клейких шелковых нитях; наблюдает, как подвижная поверхность рва отбрасывает серебристое подобие себя самой на стены и потолок зала. Вдруг нечто за окном привлекает ее взгляд и возвращает в реальность.
На узкой зубчатой стене противоположной башни стоят два силуэта: черные бумажные куклы на фоне небесной сини. Женщина идет к мужчине, а он — к ней; они встречаются на полпути. Их тела сливаются, заслоняя солнечный луч.
Конечно, это Элизабетта и Контрари. Золовку Лукреция узнает по быстрым шагам и профилю, капитана — по широким плечам и шляпе с пером. На миг она оказывается среди них: это ее обдувает ветер на вершине башни, это она тайком выкрадывает запретные объятия; она Элизабетта, она Контрари; ее поглощает сила их любви.
Она смотрит на них всего мгновение и сразу отводит глаза.
Альфонсо глядит на нее в упор.
Лукреция силится улыбнуться, но сердце под корсажем гулко колотится. Неужели Альфонсо что-то почувствовал? По выражению ее лица, по взгляду? Разве это возможно?
Как бы то ни было, он что-то заметил. Он выглядывает из окна, осматривает зубчатые стены, башню, небо, и Леонелло тоже подходит к нему.
Рискнув, Лукреция косится на окно. Элизабетта одна. Контрари ушел.
Она облегченно выдыхает. Может, обойдется.
Альфонсо следит, как сестра идет из одного конца башни в другой. На его лице задумчивость; голова наклонена вбок, руки скрещены на груди. Когда Элизабетта исчезает в проходе посередине башни, он отворачивается от окна и шагает к Бастианино. Долго, оценивающе разглядывает набросок, а потом вдруг убирает холст с мольберта.
— По-моему, я выразился ясно, — произносит он, почти не размыкая губ. — Я хочу портрет, где запечатлена ее… как бы выразиться? Ее величие, ее благородство. Понимаете? Она не простая смертная, так изобразите ее соответственно! Потрудитесь, чтобы портрет в первую очередь отражал именно это. Мне нужно, чтобы люди смотрели на нее и сразу понимали, кто перед ними — царственная, утонченная, недосягаемая дама.
Бастианино изумленно глазеет на Альфонсо, потом берет себя в руки.
— Конечно, ваше высочество, — отвечает он, поклонившись. — Я сделаю все, что в моих силах.
Альфонсо кивает. Затем отбрасывает эскиз и уходит из комнаты, ни на кого не глядя.
Утром к двери приносят послание, где почерком герцога написано: сегодня Лукрецию будут рисовать в наряде, сшитом по его указу и доставленном вчера ночью. Не могла бы Лукреция его надеть вместе с подарком на помолвку и спуститься в салон? Послание подписано: «Твой Альфонсо».
На крючок в стене квадратной комнаты повешены юбки. Корсаж и рукава отдельно лежат на комоде. С порога кажется, будто кто-то убил женщину, разрезал на четыре части и спокойно разложил по комнате.
Эмилия радостно хлопает в ладоши, подбегает к юбкам и гладит шелковую ткань, на что та отвечает нежным шелестом; затем камеристка поднимает рукав и кладет обратно, щебечет о великолепном материале, вышивке, ярком узоре. Даже Клелия выдавливает нечто похожее на улыбку. Она тоже, не устояв, трогает платье.
Лукреция позволяет себя одеть. Поднимает руки, опускает, поворачивается, наклоняет голову, подняв глаза на желтушно-серые облака, разбухшие перед дождем.
Когда Эмилия и Клелия подводят ее к зеркалу, в отражении она видит слегка встревоженное лицо. Платье не пышное, по фигуре, складки юбок мягко обтекают ноги. Высокий жесткий воротник закрывает шею, не дает повернуть голову, царапает кожу, будто когтями. От плеча до самых запястий идут огромные пышные рукава, и ее руки выглядывают из-под узорчатых манжет, как бледные и беззащитные лапки мыши. Такого Лукреция еще не носила: корсет туго затягивает талию, объемистые рукава и сборчатые юбки делают ее тонкой, как тростинка. Она сама себя не узнает. Совсем не похоже на платья из Флоренции; впрочем, Элизабетта, Нунциата и придворные дамы в castello тоже ничего подобного не носят. Любопытно, почему Альфонсо заказал такое платье для супружеского портрета? Больше всего тревожит сама ткань — темно-красная, с выпуклым черным узором из дамаста; если приглядеться, местами алая ткань выступает над ним, а потом черный орнамент снова берет верх. Так это черное на красном или красное на черном? Лукреция смотрит и смотрит, но никак не может понять, как же замысловатая черная решетка узора относится к красному. Она берет его в плен или же освобождает? Голова идет кругом — кажется, все связи и границы между цветами и предметами стираются.
В Salone dei Giochi, среди фресок с борьбой и битвами, стоит Бастианино. Завидев Лукрецию, он обнажает кривые волчьи зубы в широкой ухмылке.
— Да-да! — радуется художник, скрестив руки и смахнув волосы с лица. — Великолепно, ваша светлость, просто великолепно! Портрет получится безупречный!
Альфонсо читает книгу, поставив ногу на табурет, и оглядывает Лукрецию поверх страницы. Бастианино подводит ее к креслу и поправляет платье, осыпая дежурными комплиментами и откровенной лестью, разглаживает складки, дергает подол то в одну, то в другую сторону, потом немного отодвигает, обнажая носы туфель. Под спину ей он подкладывает подушку, чтобы сидела прямее, и кладет ее руку на стол.
Затем проворно отходит назад на три шага, потом еще на три, помедленнее, и еще.
— Вот оно! — Он простирает руки, будто хочет ее обнять. — Видите?
Из разных углов большой комнаты выходят два силуэта: от камина, отложив чтение, шагает Альфонсо, а из дальнего угла, где художник оставил принадлежности, выходит второй мужчина. Первый высокий, длинноногий, его шаги по плитам отдаются эхом, а второй коренастый, с густой шапкой кудрей, идет бесшумно.
Первый — ее муж, а второй, озаренный дрожащим отблеском света, — подмастерье Джакопо.
Лукреция особенно остро ощущает нелепость своего пышного наряда. Корсет сдавливает грудь, накрахмаленный воротник покалывает шею, сверкающий на шее рубин подрагивает в такт сердцебиению. Джакопо не смотрит на нее. Он становится за Бастианино и опускает глаза то ли на пол, то ли на подол ее платья. Между его пальцами, подобно оружию, торчат кисть, палочка угля, мастихин, маленький флакончик — наверное, с какой-нибудь жидкостью для очистки кистей и холста. Костяшки у него стертые, красные, запачканные пятнами алой мареновой краски и королевского желтого из аурипигмента. Интересно, что он рисовал? Крылья херувима? Лепестки? Любимого питомца патрона?
Движение сбоку от Джакопо отвлекает ее от этих мыслей. Альфонсо улыбается; улыбок у него много, хотя он редко к ним прибегает, но эта у Лукреции любимая — открытая, искренняя, во все лицо; она оживляет строгие черты, делает его еще красивее.
— Вот она, — говорит муж про себя, и Лукреция улыбается в ответ, — моя первая герцогиня.
Улыбка еще горит у нее на губах; Бастианино, не поднимая глаз, недоуменно хмурится. Джакопо медленно оборачивается на Альфонсо, что само по себе невероятно: простолюдин в грубой одежде смеет разглядывать самого герцога!
Альфонсо тотчас поправляется: он хотел сказать «прекрасная герцогиня»; на лицо Бастианино возвращается подобострастная улыбка, Джакопо отворачивается, и неясный гул тревоги и страха уплывает куда-то вдаль, как лодка на волнах.
Конечно, он просто ошибся. «Прекрасная», а не «первая». Зачем бы он говорил «первая», ведь она его жена, его единственная жена. Всего лишь оговорка, мелкая оплошность. Лукреция сама этим грешит: частенько слова бессознательно, без спроса срываются с ее губ. Неуместные, нечаянные слова. Он имел в виду «прекрасная герцогиня», потому что «первая герцогиня» — совершенная бессмыслица, будто Альфонсо ожидает, что последуют другие! Какая дикая, нелепая мысль!
«Прекрасная», разумеется. Без всякого сомнения.
Когда она выходит из раздумий, Альфонсо уже нет в зале. На подоконнике сидят Эмилия и Клелия: первая пришивает голубую окантовку к чему-то белому, а вторая вяло втыкает иглу в вышитую розу — похоже, ту самую, которую сначала вышивала Изабелла, а потом Лукреция. Бастианино умолкает, сосредоточившись на картине, на художественной перспективе и красках. Джакопо то рисует, то записывает что-то на большой доске, которую прижимает правой рукой к животу, а работает левой, то поднимая на Лукрецию взгляд, то вновь опуская.
Затем подходит к Лукреции и рассматривает, должно быть, как складки платья доходят до колена — высшей точки — и ниспадают оттуда волной. «Изучаешь, как собрана материя, как меняются цвета? — мысленно спрашивает Лукреция. — Как узор исчезает у складки, а потом появляется вновь? Думаешь, узор ужасен? Я — да. Я словно за ажурной решеткой, в клетке. Ты тоже заметил? Конечно, хотя не знаю, как я это поняла. Поняла, и все».
Он стоит совсем рядом; на правой руке хорошо видны пятна въевшейся краски, цветные полумесяцы под ногтями, похожие на полоски радуги, непрестанные движения левой руки, сжимающей грифель, и кончик языка, в задумчивости прижатый к уголку рта. Как интересно рассматривать его язык, орудие речи, у всех людей подвижное, а у него спящее, ненужное. А выглядит совсем как у других. Ни розовый кончик, ни бугорки не выдают отличия…
Джакопо тянется стереть что-то на доске и нечаянно роняет грифель. С негромким «тук-тук-тук» он отскакивает от шестиугольных плит, потом падает у ее ног.
И острый, настороженный слух Лукреции кое-что улавливает.
— Дурак безрукий, — отчетливо бормочет себе под нос Джакопо на диалекте, давно знакомом ей по речи неаполитанских нянек из родного палаццо.
Он наклоняется, не выпуская из рук доску, и шарит по полу в поисках грифеля.
Лукреция оглядывается. Служанки сидят на другом конце комнаты: Клелия зевает, Эмилия занята штопаньем. Бастианино работает за мольбертом. Стражники стоят у прохода, томясь от скуки.
Лукреция еле слышно набирает в грудь воздуха и решается.
— Ты из Неаполя? — шепчет она на том же диалекте, едва шевеля губами.
Джакопо вскидывает голову. Она уже забыла переливчатый сине-зеленый оттенок его глаз, похожий на морскую воду, острые скулы, словно из мрамора изваянные черты.
— Да, — почти неслышно выдыхает он. — Точнее, я там родился. А как ты?..
Он умолкает, поспешно оглянувшись через плечо.
Лукреция медленно двигает ногу к грифелю и тянет под юбки. Джакопо, заметив эту хитрость, колеблется на мгновение, но и дальше делает вид, будто ищет инструмент.
— Моя няня, — объясняет Лукреция. — Ты говоришь только на нем?
Джакопо водит руками по полу, чертит полуокружности.
— Я немного умею говорить, как они… — подмастерье кивает на Бастианино, — …если захочу. Только… — он поднимает на нее глаза, и на миг ей вспоминается его слабеющий пульс, натужное дыхание, — …я не хочу.
— Но почему никто… — начинает Лукреция.
Ее прерывает голос Бастианино:
— Джакопо? В чем дело? Что ты забыл на полу?
Лукреция поднимает ногу с грифеля, рука Джакопо молнией ныряет под ее подол и всплывает, зажав инструмент между пальцами. Время вышло, возможность поговорить упущена.
И все же Джакопо, поднимаясь, успевает выдохнуть на языке Софии:
— Я никогда не забуду, как ты спасла мне жизнь.
Потом он встает и уходит в другой конец зала. Лукреция провожает его взглядом. Он шагает пружинистой походкой, чуть подворачивая одну ногу. Под мышкой у него доска с набросками ее запястий, шеи, скул, надбровья. Джакопо забрал их, теперь они принадлежат ему, он убережет их от всего дурного. В груди Лукреции разливается тепло.
Лукреция вместе с Элизабеттой и ее стражниками скачет из castello к городским стенам и дальше, к охотничьим угодьям. Первый морозец сковал каждую ветку, каждую травинку, все засовы и ручки наружных дверей. В воздухе звенит сталь, предвещая зимние холода. Лукреция пускает лошадь галопом: пусть мир кружится, пусть цветные прогалины между деревьями сливаются в одно.
Элизабетта в подбитом мехом плаще и шапке с перьями придерживает лошадь, Контрари ее догоняет и скачет рядом, решительно держа поводья. Они часами разговаривают, склонившись друг к другу головами.
Эта пара чем-то напоминает Козимо и Элеонору. Тем, как Контрари просовывает палец в рукав Элизабетты. Нежностью в его взгляде, мягкостью, которую вызывает даже в сильнейших мужчинах любовь. Тем, как Элизабетта всегда знает, когда он собирается что-то сказать, и догадывается, какие именно слова произнесет. Лукреция все это замечает, все это ей знакомо, она мечтает познать такую же духовную близость. Вот бы кто-нибудь тоже смотрел на нее, как на редкое сокровище, не постеснялся бы носить в ленте шляпы веточку падуба, которую она подарила, интересовался ее мнением…
Лукреция оглядывается на них и видит мифических лесных духов, чьи размытые лица окрашены зеленью листвы.
Одной бессонной ночью Лукреция отдергивает полог, встает с кровати, ходит сначала по покоям, потом заглядывает в салон. Минует запертую каморку, где спит Эмилия. Отодвигает засов и проскальзывает на лестницу.
Еще не пробило полночь — суета castello не улеглась, хотя и стихла немного. Удаляются чьи-то шаги: наверное, какого-нибудь слугу вызвали в покои. Со двора слышатся тихие голоса.
Является предчувствие, знакомое ей всю жизнь: вот-вот случится что-нибудь необычное, что-нибудь интересное. Пораздумав немного, Лукреция возвращается обратно. Пятится на несколько шагов и приоткрывает дверь в спальню Эмилии. Служанка спит на животе, уткнувшись лицом в тростниковую циновку.
Лукреция поднимает с пола у кровати коричневое платье, льняной фартук и чепец.
Натягивает через голову платье — в самый раз, только чуть широковато в плечах, — потом фартук. Надевает просторный чепец в форме лилии, натягивает на лицо. Тихо, осторожно выходит на лестницу; грубая ткань платья трется о ее лодыжки. Лукреция вжилась в свою роль: шагает быстро, опустив голову, сжав руки перед собой. Она служанка в простой одежде, а если кто-нибудь спросит, почему она расхаживает по замку среди ночи, у нее готов ответ: госпожа не может уснуть и попросила принести из кухни молоко с медом.
Молоко с медом, молоко с медом. Лукреция твердит себе эти слова, спускаясь по ступенькам, шагая по коридору, минуя ряд окон, выходящих на затянутый льдом ров. Она проходит двух стражников; один тихо рассказывает какие-то непристойности, а второй смеется. Другая служанка, постарше, пошатывается от тяжести таза с водой, из которого валит пар. Женщина мычит в знак приветствия, но не останавливается.
Лукреция переходит из одной башни в другую, спускается на этаж, потом еще на один. За дверью гавкает спаниель, а Нунциата кормит его объедками со своей тарелки. Трое придворных ворчат о чьем-то назначении: почему предпочли этого человека, а не их?.. Женщина с птицами в волосах выходит из спальни конюха; ее платье помято, а ноги босые.
Служанку удостаивают лишь мимолетными взглядами. Идеальная маскировка! Какую свободу дает ей одежда Эмилии, какие открытия готовит его величество случай! Иди, куда угодно, делай, что вздумается! Придворные не замечают слуг, не приписывают им ни чувств, ни осуждения. Служанка в коричневом платье — все равно что стол или канделябр. Завеса в тайную жизнь castello внезапно приоткрывается, видна изнанка вышивки со всеми ее узлами и скрученными нитками.
Примерно через час Лукреция возвращается в свои покои, запыхавшись от волнения; ее кожу покалывает, а разум, насытившись впечатлениями, успокаивается. Она положит платье Эмилии на место и вернется в постель — укромный уголок, где можно обдумать увиденное.
Однако в ночь, когда раздается ужасный шум, она спит — сама не понимает, как уснула. Громкий звук вырывает ее из сна, как тонущего — из воды. Оказывается, она не гуляет по крытому переходу во Флоренции, а ежится в холодном, темном месте. На мгновение она теряется в беспросветной черноте, шарит вокруг. Альфонсо в кровати? В комнате? Руки касается лишь простынь и шершавый полог.
Отчего она проснулась? Лукреция вертит головой, ищет источник звука. Может, показалось?
Ответом ей служит высокий, отчаянный крик, исходящий из самых глубин души. Он вновь и вновь пронзает ночную тишину castello, разрезает воздух, как бритва, острыми зубами впивается в уши.
Господи, что же случилось? Она вскакивает с постели, отдергивает полог, выходит за дверь. Во мраке салона к ней неуверенно шагает Эмилия — волосы служанки спутаны, лицо искажено страхом.
— Вы слышали? — спрашивает она.
— Да.
— Что это было?
Девушки хватают друг друга за руки. Камеристка дрожит, прижимает вторую руку к груди, словно пытается удержать рвущееся наружу сердце.
И снова крик, уже громче, а за ним слова:
— Нет, нет, нет!
Голос женщины, обезумевшей от страха. Лукреция бежит к двери, но Эмилия ее останавливает.
— Прошу, — рыдает женщина, — пожалуйста, нет!
Лукреция прижимается ухом к деревянной панели на двери.
— Кто это? — шепчет Эмилия.
— Не знаю.
— Что нам делать? Позвать стражу? Или?..
— Тсс! — Лукреция прислушивается.
— Прошу, прошу! — молит о пощаде женщина.
Лукреция нащупывает засов и отодвигает.
Эмилия, догадавшись о намерении госпожи, пытается ее остановить:
— Ваша светлость, нет, не делайте этого, вы…
— Пусти.
— Не ходите туда!
— Ей нужна помощь.
— Там что-то ужасное, а вы…
— Пусти, я сказала! — приказывает Лукреция.
Эмилия покоряется. Лукреция отодвигает засов, открывает дверь и выходит.
Сперва она различает лишь стук крови в ушах. Затем этажом ниже слышится возня, лязг оружия, и множество ног несутся сначала в комнату, потом прочь из нее, затем вверх и вниз по коридору. Гудят напряженные мужские голоса.
И вновь надтреснутый женский голос слезно умоляет:
— Пощадите!
Лукреция почти спускается по лестнице — узнать, кто эта несчастная, попробовать ей помочь, чем сумеет. Должен ведь быть какой-нибудь выход!.. Вдруг женщина отчетливо произносит:
— Альфонсо, пожалуйста!
Имя бьет Лукрецию по голове, каждый слог стучит по вискам. Альфонсо там? Он все видит? Пытается помочь? Или наблюдает, а то и участвует? Не может быть! Она ослышалась!
Женщина повторяет:
— Альфонсо, умоляю! Остановись!
Внизу хлопает дверь. И — тишина.
Лукреция стоит в коридоре, обдуваемая ледяным дыханием castello. Потом, спотыкаясь, возвращается к себе, не обращает внимания на расспросы служанки, молча задвигает засовы — один за другим, один за другим.
Наутро castello стоит в гнетущем оцепенении; тишина распирает коридоры и салоны изнутри. Лукреция не идет на обычную прогулку по террасе, Элизабетта не посылает за ней, не зовет к себе; Нунциата не выпускает спаниеля на лоджию подышать свежим воздухом. Даже город — по крайней мере, его фрагменты, видные из высоких окон, — странно затихает, и серый туман клубится на углах улиц и пьяццы.
Завтрак оставляют под дверью. От привычного теплого молока с пожелтевшей сморщенной пенкой накатывает тошнота. Лукреция ставит нетронутую тарелку обратно на поднос.
Эмилия ходит на цыпочках, поправляет гобелены, вытирает пыль с картин, свертков с красителями, бутылок льняного масла. Клелия сидит в кресле у окна, неумело вышивает лепестки по краю халата Лукреции и время от времени тяжко вздыхает.
Лукреция посылает ее к Элизабетте: пусть спросит, не желает ли она прогуляться по террасе.
Вернувшись, Клелия сообщает, что к двери никто не подошел.
К середине тягостного утра к ним стучит слуга с нижних этажей и просит Клелию уложить платье с портрета в сундук, а еще передает, что Лукреции велели оставаться в комнате до особого распоряжения.
Лукреция подходит к нему.
— Почему я должна оставаться здесь? Кто распорядился?
Слуга низко кланяется.
— Его высочество герцог. Он глубоко сожалеет, что сам не смог передать свое пожелание, но…
— Герцог так сказал? Почему?
Глаза слуги испуганно бегают по комнате.
— Я… не могу сказать, госпожа, мне только поручили… — Запнувшись, он снова кланяется, красный от смущения.
Вот бы схватить его за рукав и вытрясти правду! Что все это означает? Но она лишь подергивает ткань корсажа, изображая спокойствие.
— Почему забирают платье? И куда?
— В Sala dell’Aurora[57], т-там будет его высочество, — запинается слуга. — Думаю, для… п-портрета вашей светлости.
— Портрета? — Она поджимает губы, крепко задумавшись. — Можешь идти. Я сама принесу платье.
Краска сходит с лица слуги.
— Но его высочество велел…
— Я знаю, что он велел! Спущусь сама.
Закрыв дверь, она просит Эмилию и Клелию подготовить платье. Крышка сундука закрывается, мелькает напоследок вишневый шелк и черный решетчатый узор — сегодня он выходит на передний план, взяв верх над податливым алым. Потом Лукреция велит Клелии с Эмилией унести сундук вниз, а сама идет впереди, в Sala dell’Aurora, высоко подняв голову.
Квадратная комната пуста, небеса и лица божеств смотрят в пустоту. Лукреция идет в середину комнаты. Интересно, где точно находится центр? Стоит ей об этом подумать, открывается дверь.
Оглянувшись, она видит мужа в сопровождении трех советников и Леонелло. На лицах мужчин застыло суровое выражение, они идут строем, будто несут тяжелую ношу.
Альфонсо молча оглядывает жену, камеристок, слугу, которого он послал в покои, сундук с платьем. Одет он безупречно: черные кальцони, черный giubbone, черные сапоги.
— Дорогая, — тянет герцог, переводя взгляд с Лукреции на сундук, а с сундука на служанок, оценивает происходящее, старается понять подтекст.
Подойдя к Лукреции вплотную, Альфонсо берет ее за руку и галантно склоняет голову.
— Не ожидал вас увидеть.
Как на него похоже… Всего четыре ничего не значащих слова, но сколько в них скрытого смысла! Вслух он говорит, что удивлен ее приходу, а на самом деле показывает неудовольствие: зачем она самовольно спустилась в его владения?
Почему же он не пускает ее сюда? Почему велел оставаться у себя?
— Я решила проверить, что платье спустили в целости и сохранности. И потом, вдруг я понадоблюсь вам для портрета…
Ни один мускул не шевелится на его лице; ее рука горит от его прикосновения.
— Я бы за вами послал.
Лукреция пожимает плечами.
— Мне полезно сменить обстановку.
Кивнув, он выпускает ее руку и отворачивается к столу, на который поставили сундук. Альфонсо кладет руку на крышку.
— Платье тут?
Похоже, он обращается к служанкам, но не смотрит на них, поэтому Эмилия молчит. А он ждет, не убирая руки с сундука, — само терпение, сама сдержанность. Клелия, спохватившись, кланяется.
— Да, ваше высочество.
— Зачем… — Лукреция хочет узнать, почему ее не выпускают из комнаты, правда хочет, однако понимает, что лучше не спорить с ним, а спрашивать спокойно, пусть рассказывает. Так можно выудить куда больше сведений. — …уносят платье? — заканчивает она.
— Обычно так и поступают. Всего лишь берегут ваше время, стараются не злоупотребить терпением. Бастианино ненадолго заберет платье в мастерскую и нарисует все необходимое без вас. А потом вернет, когда портрет будет готов.
Лукреция вдруг замечает под левой скулой мужа, рядом с ухом, три глубокие свежие царапины.
— Что у вас с лицом? — ужасается она и подходит к Альфонсо. — Вы…
— О, пустяк. — Он касается красных полос пальцем. — Я и забыл.
— Вам нужна мазь или…
— Пустяк, — повторяет он. — Не тревожьтесь.
— Альфонсо, — начинает Лукреция тихо, не вынеся напряжения. — Я… мне нужно кое о чем вас спросить.
Он молча на нее смотрит.
— Ночью я слышала ужасный шум. А утром послала за Элизабеттой, но не получила ответа. Что происходит?
— Уйдите, пожалуйста! — резко приказывает Альфонсо. На краткий безумный миг Лукреции кажется, что он выгоняет из комнаты ее. Конечно, это не так. Леонелло, камеристки и советники тотчас встают и спешат к двери.
И вот они с Альфонсо остаются наедине в красивой комнате, а на потолке богиня Аврора в золотой колеснице оттесняет мрачный сумрак ночи.
— В нашей жизни, — начинает Альфонсо ровным голосом, — время от времени будут происходить события, которые покажутся вам необъяснимыми. Не стоит в них вмешиваться. Борьбу с любой угрозой нашему положению и репутации предоставьте мне. Вас она не касается. Я просил вас не покидать покоев, однако же вы здесь. Произошедшее ночью…
Эту жуткую речь, от которой у Лукреции дрожат ноги, прерывает скрип двери из другого конца салона.
К ним шагает подмастерье Джакопо с беретом в руках. Покосившись на него, Альфонсо показывает на сундук.
— Вот он.
Джакопо обходит середину комнаты, где стоят Альфонсо с Лукрецией, достает из сумки кожаный шнур и обвязывает сундук.
— О некоторых делах… — продолжает Альфонсо, словно Джакопо нет в комнате. Ах да, он ведь считает подмастерье не только немым, но и глухим! — …вам лучше не знать. Прошу лишь об одном: чтобы компас вашей преданности, фигурально выражаясь, всегда показывал в нужном направлении. Вы моя жена. Едва ли стоит напоминать, что ваш первейший долг — передо мной. Не перед вашими придворными дамами, не перед моими сестрами или кем-либо еще. Я ваш супруг и защитник. Так позвольте вас защищать.
За его спиной Джакопо косится то на него, то на Лукрецию. Он поднимает сундук на плечо не спеша, осторожно, растягивая время. К двери юноша шагает медленно, и на один пугающий миг кажется, что он сейчас развернется и пойдет прямо к ним. К счастью, Джакопо передумывает, только покрепче берется за узел на сундуке. А ведь он несет ее платье и совсем скоро поставит его в мастерской, откинет крышку, вдохнет запертый в сундуке воздух ее покоев, будет касаться ткани рукой, поднимать, встряхивать, изучать взглядом, думать, какие смешать красители, чтобы передать цвета на портрете Бастианино. Будет воображать ее в этом платье, вспоминать, как оно облегало ее тело, складками ниспадало с ног; наклонится над ним, рассматривая; оно не покинет его мыслей днем и будет приходит во снах ночью.
— Уверен, — продолжает Альфонсо, — ваш отец поступает так же и ограждает вашу мать от тех сторон его правления, которые считает неподобающ…
— Напротив, — горячо возражает Лукреция, забыв, перед кем стоит, — отец делится с мамой всем. Он советуется с ней по многим вопросам, передает ей власть перед каждым отъездом, всегда спрашивает ее мнения и ценит ее советы…
— Прелестно, — сквозь зубы цедит Альфонсо. — Однако же ваш отец один человек, а я — совсем другой. А вы, дорогая, всего лишь дитя.
Из-за плеча мужа, закрывающего почти всю комнату, она видит у двери Джакопо. Юноша мешкает на пороге, уже потянувшись к засову.
— А потому прошу вас вернуться к себе, как было велено, и не выходить, пока я не позволю, — продолжает Альфонсо, поглаживая ее подбородок ногтем. — Вам ясно?
Она поспешно кивает. Джакопо толкает дверь, перешагивает через порог и, бросив на нее прощальный взгляд, уходит. Лукреция всей душой мечтает вырваться и побежать за подмастерьем. Свернуться бы в этом сундуке вместе с платьем, и пусть Джакопо унесет ее из castello через ворота, через разводной мост и — прочь отсюда!
— Да, — вместо этого отвечает она, разглядывая Альфонсо, его волосы, на которых еще видны следы от гребня, свежие царапины, будто бы от чьих-то ногтей. — Ясно.
Вернувшись в покои, Лукреция отпускает служанок, поплотнее закутывается в шаль и встает у окна, за которым видны часть рва, главный разводной мост и ряды улиц.
Зима явилась без предупреждения. Возможно, всему виной северный климат или промозглая сырость реки По, однако же времена года в Ферраре сменяют друг друга, как страницы в книге: в один день стоит лето, на следующий деревья сбрасывают листву, потом приходит мороз, и ледяные ветры проникают сквозь щели в стенах и окнах. Лукреции привычнее тосканский климат, когда тепло и свет угасают постепенно, медленно сменяются осенью, а зима смущенно подкрадывается следом.
Прислонившись лбом и пальцами к прохладному стеклу, Лукреция ждет. При каждом выдохе на стекле появляется скромное облачко тумана и пропадает на вдохе.
По мосту строем шагают стражники, три ряда по два человека, и за плечом у каждого меч. Они скрываются в переулке за площадью. Мужчина в черной накидке переходит мост и исчезает в сторожке привратника. Выбегают двое слуг с корзинами и расходятся в разные стороны.
И тут по разводному мосту стучат колеса: из ворот мчится телега, запряженная пегой лошадью; кучер привстает и хлещет лошадь кнутом, еще трое слуг бегут рядом. Телегу догоняют трое стражников со шляпами в руках; головы у них непокрытые, лица искажены страданием.
А в телеге виднеется… Лукреция вытягивает шею, встает на цыпочки. Да, в телеге длинный прямоугольный предмет, накрытый тканью.
Этого она и ожидала. Лукреция не совсем понимает, что именно произошло, что все это означает. Спешка слуг, их тревога, зловещий свист кнута, отчаянный бег стражников, которые до сих пор не отстают от телеги, пока та мчится по площади, заворачивает за угол и пропадает в узком проеме между зданиями.
Телега давно уехала, стражники прекратили погоню и повернули обратно в castello; один из них обнимает товарища за плечи. Лукреция всматривается в проем, не сводит с него глаз, будто телега вот-вот вернется, и кучер на ней будет совершенной спокойным, а груз — самым обыкновенным.
Она спорит с собой и собственными глазами. Они не видели ничего странного, это ошибка, показалось… Но сердце чует неладное. Предмет на телеге был длинный и узкий, прямоугольный. Как ящик или кровать. Или гроб.
Она долго не отходит от окна. Смотрит, как по пьяцце расхаживают люди: кто в одну сторону, кто в другую. Смотрит, как дети держат родителей за руку. Смотрит, как женщина несет на спине большой тюк, мужчина катит бочку босыми грязными ногами, девушка тянет собаку за поводок, а два ее брата несут охапки дров. Смотрит, как тускнеет небо, как на каменные здания ложится тень.
Она все еще у окна, когда телега возвращается. Теперь лошади лениво постукивают копытами по мосту, а кучер сидит в уголке, зажав под мышкой свернутый кнут. Телега пуста.
Клелия с Эмилией находят Лукрецию у окна совсем закоченевшую, усаживают в кресло, растирают замерзшие руки и ступни; Эмилия с ложечки кормит ее горячим бульоном, а Клелия мягко укоряет: так и простыть недолго!
— Что-то случилось, — повторяет Лукреция. — Я точно знаю.
Эмилия избегает ее взгляда, приносит одеяла, разводит огонь.
— Знаю… — только и может вымолвить Лукреция.
— Откуда? — шепчет Клелия Эмилии.
— Не думайте об этом, — увещевает Эмилия, поглаживая Лукрецию по руке. — Ни о чем не думайте.
Когда Клелия уходит на кухню за водой, чтобы вымыть Лукрецию, та поворачивается к Эмилии, хватает ее за плечо и усаживает рядом.
— Рассказывай.
— Нет, пожалуйста, не спрашивайте! — умоляет камеристка. — Не надо.
— Говори.
Эмилия предлагает сыграть в карты. Или, может, госпожа хочет порисовать? Принести бумагу?
— Эмилия, твоя мать меня кормила грудью, мы с тобой молочные сестры. Ты знаешь меня дольше, чем я саму себя. Мы с тобой многое прошли вместе. Пожалуйста, расскажи мне все.
Эмилия касается шрама одним пальцем, потом другим, отвечает неохотно. Она слышала от служанки на кухне, а та — от слуги в приемной герцога, якобы его высочество герцог прознал, что Эрколе Контрари… — тут Эмилия умолкает, осторожно подбирает слова, — …запятнал честь сестры герцога, госпожи Элизабетты. И герцог приговорил Контрари, капитана гвардии, к смерти.
Здесь история Эмилии внезапно и подозрительно обрывается. Нет, это точно не конец!
— Продолжай.
— Нет, — шепчет Эмилия, качая головой.
— Да. Рассказывай.
— Госпожа Элизабетта, — продолжает камеристка нерешительно, — не выразила раскаяния, не осудила Контрари. Сказала, что любит его, а он любит ее. Тогда герцог приказал… — Эмилия умолкает, сглатывает слюну, — …приказал повесить Контрари на глазах госпожи Элизабетты.
Лукреция вслушивается в каждое слово, каждый звук, каждый слог и миг тишины между ними. Каждое предложение она продумывает бережно, внимательно, чтобы ничего не упустить.
— И… — начинает Лукреция неуверенно. О чем спросить? Она будто со стороны слышит собственный голос: — …его приказ выполнили?
Эмилия кивает.
— Герцог приказал двум гвардейцам Контрари исполнить приговор. Днем, в Salone dei Giochi. Но они… не смогли. И это сделал Бальдассаре.
— Бальдассаре? — повторяет Лукреция. — Леонелло Бальдассаре?
— Да.
— А госпожа Элизабетта?..
— Была там.
— А мой муж?
— Он смотрел. Велел страже побыстрее схватить ее, чтобы не убежала.
Лукреция говорит через силу. Приказывает языку и рту издавать звуки. Сообщает Эмилии и Клелии, которая уже вернулась, что передумала мыться. Она хочет побыть одна.
Долго стоит в салоне, наблюдает в окно за облачками пара, что поднимаются над тазами с горячей водой из кухни. Клубы извиваются, подобно змеям во власти заклинателя, уползают к окнам и сбрасывают шкуры на холодное стекло. В мгновение ока вид на пьяццу затуманивается, и Лукреция уже не в башенной комнате, а в ящике, закрытая от мира.
Она плетется в покои, надевает шерстяную накидку и туфли. Завязывает шнурки на шее, натягивает капюшон. Затем выходит в коридор.
Она проворно шагает по кирпичному полу, придерживая капюшон, переступая из одного отблеска огня на полу в другой, как темный мотылек. Услышав голоса в коридоре напротив, юрко прячется в алькове, прижимается к стене.
Поэт Тассо проходит в сопровождении придворной дамы Нунциаты — она повисает на его руке, и кончик ее шали волочится по полу. Тассо мрачен, подавлен, почти не обращает внимания на спутницу.
— …он вызвал лекаря, — рассказывает женщина, заглядывая поэту в лицо. — Но она не соглашается его впустить.
— Ужасно, — отвечает Тассо привычным гулким голосом. — Чудовищная трагедия.
— Поспешим. — Дама, дрожа, оглядывается через плечо. — Идемте. Не стоит разгуливать в такую ночь.
Они исчезают за углом, и Лукреция выходит из укрытия. Эта женщина ей почему-то неприятна, но она права. Этой ночью над castello и правда нависла зловещая тень: воздух в комнатах и проходах отдает зловонием, давит на обитателей, будто обремененный событиями ночи. Царит непривычная тишина, лишь иногда внезапно прерываемая странными звуками — то глухими, загадочными, то громким эхом вдалеке. Шаги Лукреции по ступенькам отдаются от стен, тихие «топ-топ» искажаются и звучат чудовищными ударами, от которых грудь покалывает иглою страха.
Она торопится, почти бежит по нижнему этажу. Если Альфонсо ее увидит, если Бальдассаре или его люди встретятся ей на пути, если Альфонсо зайдет к ней в покои и обнаружит пустую кровать, что тогда?
Ей все равно, все равно. Пусть видит, пусть знает. Ей все равно!
Она повторяет эти слова на бегу, забыв об упавшем капюшоне; стучит в покои Элизабетты, отталкивает ее придворную даму, хотя та пытается ее остановить: ей жаль, но госпожа сегодня никого не принимает!
Лукреция, задыхаясь, врывается к Элизабетте. Сегодня сочная розовая драпировка впитала в себя ночную тьму и приобрела тусклый багряный оттенок.
Придворная дама пытается выставить Лукрецию, рассыпаясь в извинениях и мольбах. Конечно, она не смеет притрагиваться к самой герцогине, однако широко расставляет руки, словно защищает комнату от лихорадочного взгляда непрошеной гостьи.
Лукреция прекрасно знает, как поступить: несмотря ни на что, она дочь своей матери. Подняв подбородок, она глядит на женщину сверху вниз. «Я герцогиня, говорит ее поза, — а ты мешаешь мне пройти».
— Отойди, будь добра.
Вздохнув, женщина отходит к стене, бормоча под нос извинения.
В комнате звучит тихий шорох, слышится что-то вроде кашля или хрипа. То, что Лукреция в тусклом свете приняла за груду одежды на диване, внезапно шевелится.
— Это ты, — произносит безжизненный голос.
Лукреция подбегает к дивану и опускается на колени. Во мраке она видит лицо, опухшее и желтое, словно лик луны. Наверное, произошла ошибка, это Нунциата, но нет — сжав руку женщины, она видит кольца Элизабетты; в высоких бровях и темных глазах тоже угадыва…
— Как ты посмела сюда явиться? — спрашивает Элизабетта новым, хриплым голосом. — Что тебе нужно?
Лукреция сжимает руку золовки.
— Я хотела тебя увидеть. Я слышала… Это ужасно, мне очень-очень жаль… Поверить не могу, не могу…
— Тогда ты еще глупее, чем я думала! — вскипает Элизабетта, вырывает свою руку из руки Лукреции и отворачивается, спрятав лицо в подушку.
Лукреция отшатывается, уязвленная. Ждет с минуту, не поднимаясь с колен. Где-то за спиной стоит служанка, только и ждет, когда ее можно будет выпроводить.
— Ты скорбишь, — наконец, выдавливает Лукреция. — Я понимаю и…
Элизабетта горько усмехается.
— Понимаешь? Неужели? Меня заставили смотреть! Держали силой, пока его душили голыми руками!
— Не могу выразить, как…
— Скажи, ты любишь моего брата?
— Д-да, конечно… — запинается Лукреция.
— Правда?
— Я…
Элизабетта с усилием встает. Как она изменилась! Волосы спутанные, висят колтуном на одной стороне головы и куда короче, чем ожидала Лукреция. Высокая корона волос, которую Элизабетта обычно носит, на поверку оказывается шиньоном, локонами, состриженными с другой женщины. Кожа век красная, раздраженная, будто ее терли холстиной.
— Ты и представления не имеешь, что такое любовь, — говорит Элизабетта. — Ты всего лишь дитя. — Она кладень ладонь на щеку Лукреции, щиплет ее за ухо другой рукой. — Хорошенькая глупышка, разнаряженная в золото и шелка. Вроде ручной обезьянки.
Лукреция чувствует себя флагом, который порыв ветра дергает в разные стороны. Куда ведет этот разговор, что будет дальше?..
— Я очень сожалею, — повторяет она, — о случившемся, и…
Элизабетта притягивает ее лицо к своему; кислое дыхание золовки отдает железом. Она похожа на разбитое окно, покрытое сетью трещин.
— Это ведь ты ему рассказала, да? — шепчет она, впиваясь в Лукрецию взглядом. — Зачем? Я думала, мы подруги.
— Мы… мы и есть подруги! — запинается Лукреция в ужасе. — Я ему не рассказывала! Честно!
— В самом деле? Кто-то же ему рассказал. Думаю, ты.
— Не я! Я бы никогда так не поступила. Никогда.
— Клянешься?
— Клянусь, Элизабетта! Он… — Лукреция думает, как правильнее выразить свою мысль: — Он умеет выяснить правду, проникнуть в самую суть. Не знаю, как у него получается, но стоит ему взглянуть на человека, и он узнает самые сокровенные тайны. Он снимает все покровы, за которыми люди прячут…
Вздрогнув, Элизабетта невольно отшатывается от Лукреции.
— Ты права. Такой он и есть. — Она прячет лицо в ладонях и сидит так минуты две. А когда отнимает руки, ее прекрасное лицо по-прежнему искажено болью почти до неузнаваемости, но горечи на нем уже нет. — Я тебе верю, — бормочет она и рассеянно берет Лукрецию за руку. Из уголка ее глаза скатывается слезинка, потом еще одна и еще. Элизабетта не утирает их, и они свободно капают на платье, оставляя темные пятнышки на ткани.
Лукреция так и стоит на коленях, сжимая руку золовки.
— Бедняжка Лукреция, — вдруг произносит Элизабетта и отворачивается.
— Я? Ведь это ты…
— Нет-нет. — Элизабетта поправляет складку на платье. — Я уезжаю на рассвете. В Рим, к Луиджи, другому моему брату. Вряд ли я когда-нибудь вернусь. Мне Альфонсо не муж. Я могу уехать. А ты — нет.
И снова Лукрецию обдают порывы переменчивого, бурного ветра.
— Я вполне довольна…
— Послушай меня, маленькая Лукре, — нараспев тянет Элизабетта, маня ее пальцем, прижимаясь к ней лбом. — Ты понятия не имеешь, на что он способен, — выдыхает она, до боли сдавив лоб Лукреции своим. — Чтобы править так хорошо, так решительно, нужно совсем не иметь сердца. Он сразу подчинил себе феррарский двор, но какой ценой? Какие ужасы он творил! — Она сжимает руку в кулак и бьет себя в грудь. Лукреция вздрагивает. — Вот здесь у него ничего нет. Пустота. И знаешь, что еще?
— Что?
Лицо Элизабетты искажается страдальческой улыбкой.
— Он ни разу, — шипит она, — не сделал женщине ребенка. Ни единого, даже…
— Может, ты просто не…
— …ни одной женщине, ни здесь, ни где-нибудь еще! Никогда! Понимаешь? Ходят слухи, что он не способен произвести наследника, что герцогский род прервется, и, конечно, он выходит из себя: он всегда знает, как о нем сплетничают, уж не представляю, откуда. Учти: во всем обвинят одного человека. Догадываешься, кого?
Давящий лоб Элизабетты и несвежий запах ее тела одолевают Лукрецию, она совсем выбилась из сил.
— Тебя! — выдыхает Элизабетта ядовито, почти злорадно. — Во всем обвинят тебя. Так что берегись. Будь очень, очень осторожна.
Она отталкивает Лукрецию и говорит даме в углу:
— Я устала. Уведите ее.
Лукреция возвращается к себе, запирает дверь, зажигает свечу и ставит у постели, задергивает полог, не открывает ни Клелии, ни Эмилии. Не подходит к двери, когда они приносят завтрак, когда слышит стук колес — похоже, Элизабетта уезжает, — когда служанки увещевают ее через замочную скважину, и даже когда Нунциата собственной персоной стучит и требует их впустить.
Только когда Эмилия шепчет в замочную скважину, что его высочество герцог с consigliere Бальдассаре на несколько недель уехал в Модену, Лукреция отодвигает засов.
Она просит Эмилию принести ей меховую накидку, ей хочется побыть на воздухе. Невыносимо сидеть в четырех стенах, а мужа все равно нет, и некому приказать ей сидеть в покоях. Ей нужно небо над головой, ей нужен ветер в волосах. Конечно, из castello выйти нельзя, стражники не выпустят ее без разрешения Альфонсо, поэтому она согласна на любое открытое пространство. Лукреция идет в оранжерею, бродит от стены к стене, блуждает среди деревьев, теперь уже совершенно голых, без листвы и почек. Поднимается по каменной лестнице на все башни, кругами ходит по зубчатым стенам. Шагает с террасы на террасу, смотрит на город, его крыши и водостоки, а еще на ровную долину с одной стороны и вершины Апеннинских гор с другой.
Как из ниоткуда накатывает внезапная тоска по дому. Захлестывает грусть, погребает под своей толщей, как тяжелая волна. Больше всего на свете Лукреция мечтает вернуться в коридоры палаццо, гулять по комнатам и террасам. С острой болью, похожей на зубную, она вспоминает вид на пьяццу из крытого перехода, верхушки статуй, привычный запах Арно. Как может зима во Флоренции начинаться без нее? Неужели деревья сбрасывают листву? Горожане достают из шкафов шерстяные шапки? Солдаты из Швейцарии надевают теплые плащи?.. Она рассеянно бродит по террасам, а сама перебирает в памяти ежедневные заботы домашних. Вот сейчас готовят стол в детской к полднику. Вот сейчас папа упражняется. Вот сейчас мама гуляет с придворными дамами. Вот сейчас зовет Изабеллу посидеть с ней в салоне. Вот сейчас София сбрасывает туфли и кладет ноги на табуретку у огня.
И все это — без нее. Как такое может быть? Лукреция ходит и ходит вокруг апельсиновых деревьев, гадает: «Почему они все там, а я — здесь?» Она ведь одна из них: форма глаз у нее, как у отца и братьев, а лоб и нос — как у мамы и сестры, они все выросли за одним столом, ее портрет висит среди их портретов. Она — одна из них. Ей не место среди тех, кто калечит людей, изгоняет родственников и сажает в тюрьму, убивает и строит козни, покидает дом и замышляет недоброе.
К концу первого дня без Альфонсо свита Лукреции устает от ее неуемности. Клелия не выносит высоты и потому не поднимается на зубчатую стену, только хныкает и жалуется из окна башни, упрашивает госпожу вернуться в комнату, поесть и наконец отдохнуть. Его высочеству, дескать, не понравятся ее прогулки на холоде, он рассердится, когда узнает. Эмилия тоже не любительница узких зубчатых стен, однако же не отходит от Лукреции. Служанка дрожит в тонкой шали, но наотрез отказывается взять накидку хозяйки: негоже это. Цепляясь за стену и отводя глаза от пропасти под ногами, она всюду следует за Лукрецией, растирает ее сжатые кулаки, убирает волосы с глаз, упрашивает пойти в покои, немного поесть, выпить вина.
Лукреции так страстно хочется сбежать отсюда, вернуться домой, что она заболевает. От одной мысли о еде ей становится дурно; она не может усидеть на месте. Стоит только сесть за стол или лечь, как перед глазами возникает красивое лицо Контрари, искаженное смертной мукой, кровоподтеки на его шее, или руки Бальдассаре с широкими костяшками и короткими пальцами, или прелестная Элизабетта, измученная горем. Как бы ни упрашивали служанки, Лукреция не останется в комнате. Тоска хочет повесить ей на руки и ноги свои кандалы, а потому останавливаться нельзя, иначе спастись не получится.
И вот она переходит с одной террасы на другую, с одной зубчатой стены на следующую, и непрестанно воссоздает в памяти палаццо. Неровные доски в детской, скрипящие в сырую погоду; бахрому скатерти, гладкие деревянные стулья, шаги братьев, расписной потолок салона, каждое лицо, каждый кусочек ткани, каждое облачко на небе.
Она просит Клелию вынести на лоджию сундучок и маленький стол. Получив нужное, останавливается ненадолго, берет лист бумаги и пишет родителям.
«Пожалуйста, — выводит она густыми чернилами, а ветерок колышет ее перо, будто хочет вырвать из рук. — Позвольте мне вернуться домой».
Хорошенько задумывается, что сказать, как выразить свою тоску.
«Я по вам очень скучаю, — выводит ее перо. — Пожалуйста, пришлите за мной».
Как описать произошедшее в castello? Рука отказывается написать имя Контрари, а мозг шипит: «Контрари, Контрари, Контрари», пока голова не начинает кружиться, но Лукреция все же называет его «капитаном гвардии». Она пишет: «убили», она пишет: «заставили смотреть», она пишет: «Элизабетта уехала» и «Она была моей единственной подругой». Перед тем как оставить подпись, она добавляет самое главное: «Мне страшно здесь оставаться».
Лукреция запечатывает конверт и передает Эмилии, не Клелии. Она не доверяет ей и никогда не доверяла. Ей неприятен хитрый, уклончивый взгляд, вечно потные бледные руки. Страдание открывает Лукреции глаза: Клелия всегда шпионила за ней для Нунциаты, описывала все ее поступки. Не важно, все равно Лукреция не заберет ее домой, они с Эмилией поедут одни. Если папа велит ей вернуться, Альфонсо не посмеет возразить. Через день-другой отец пришлет лошадей и охрану, и — домой, через Апеннины! И тогда, рано утром, перед ними раскинется Флоренция, река Арно меж домов и зданий, сияющий на солнце купол и зубчатые стены палаццо, похожие на крепкие зубы медведя. Мама с папой радостно ее встретят: они очень скучали по дочке и ждали ее возвращения. Они заметят, какая она стала взрослая, изысканная.
На третий день отъезда Альфонсо за ней отправляют придворную даму Нунциаты. Лукреция ушла на закрытую террасу в северо-восточной части castello и велела настежь открыть все окна — пусть по комнате гуляет свежий воздух. Придворная дама выглядывает из окна и, заметив, как Лукреция ходит из одного конца террасы в другой, закутанная в меха, велит Эмилии с Клелией сию же минуту завести ее светлость внутрь, иначе она простудится и заболеет. Лукреция не обращает на женщину внимания, не откликается даже на просьбы Эмилии зайти в комнату и хоть немного отдохнуть.
На следующий день, когда Лукреция бродит среди голых деревьев в оранжерее, к ней поднимается Нунциата собственной персоной. Запыхавшись, она прижимает ко рту платок, чтобы случайно не вдохнуть загадочную болезнь Лукреции. Так как Альфонсо пришлось уехать, говорит золовка сквозь ткань, теперь она ответственна за герцогиню. Говорят, Лукреция отказывается вернуться в дом? Что за странная блажь? Это из-за смерти Контрари? Такая чрезмерная скорбь по другому мужчине попросту неприлична, равносильна измене. Лукреция всегда должна быть верной Альфонсо, неужели она не понимает?
Лукреция, отвернувшись в сторону города, отвечает: она не желает это обсуждать. Нунциаты происходящее не касается.
— Не касается? — повторяет Нунциата глухо. — О чем ты?
— Я вам с самого начала не нравилась, — отчеканивает Лукреция. — Все равно я скоро уеду.
— И куда же? — сердито спрашивает Нунциата, дрожа от холодного ветра.
— Во Флоренцию, конечно, — ставит точку Лукреция.
Нунциата никуда не уходит, только шипит о чем-то с Клелией. У Лукреции жар? Почему она ведет себя так странно? Откуда взялась эта бессмыслица про Флоренцию? У нее заболевание кожи, кашель, боль в горле? Клелия каждый раз качает головой.
— Тогда что? — недоумевает Нунциата.
Клелия пожимает плечами, говорит: Лукрецию тошнит, она отказывается от еды, иногда получается уговорить ее на несколько глотков молока, и все. Нунциата сбрасывает с лица платок, задумчиво оглядывает Лукрецию всю, от бледного лица до ног, и поспешно уходит, загоревшись новой идеей и явно довольная.
Лукреция теряет счет времени. Она снова и снова обходит каждую лоджию, каждую террасу, каждую зубчатую стену castello и возвращается только к сумеркам. В полудреме беспокойных ночей она видит, как угасает огонь, оставляя одни угольки, и как его подпитывают дровами. Ранним утром иней рисует на окнах узоры, похожие на разветвленные листья папоротника — словно к стеклу прижали ледяное перо. Ей приносят бульоны и всевозможные варенья, но Лукреция отсылает служанок прочь. На рассвете она одевается потеплее и выходит на террасу или в оранжерею, а Эмилия плетется следом.
Лукреция поднимается по узкой лестнице на юго-западную башню, как вдруг ей приносят письмо. Краем глаза она замечает аккуратный, наклонный почерк матери и поспешно вырывает письмо из рук слуги. Потом садится на холодную ступеньку и открывает конверт.
Послание короткое, скорее отписка, в нем нет ни приглашения домой, ни обещания выслать лошадей. Похоже, мама торопилась к отцу в кабинет, лишь на минутку села за scrittoio и поспешно набросала ответ на листке бумаги. А потом с нетерпеливым «Держи!» сунула в руку камеристки.
Дрожащими пальцами Лукреция подносит письмо к глазам.
«Дорогая Лукре!
Какое тревожное, безрассудное письмо ты мне прислала! Прошу, не давай волю воображению — разумеется, ты и сама знаешь, что с детства страдала от буйной фантазии. Помни: Альфонсо — человек чести, а значит, твой покровитель во всем. Очень жаль, что тебя так расстроил отъезд ее светлости Элизабетты. Конечно, потеря подруги — печальное событие. Однако в этом есть и положительная сторона: ты сможешь больше времени проводить в компании ее светлости Нунциаты, уже не страдая от сестринского соперничества, которое ты упоминала. Настоятельно тебе советую, милая моя доченька, прежде всего подумать о своем положении при дворе, а по-настоящему укрепить его ты сможешь только после рождения наследника. Не сомневаюсь, что материнство принесет тебе уверенность в завтрашнем дне и душевный покой, о которых ты мечтаешь. Твой отец со мной полностью согласен.
У нас все хорошо. Изабелла обучила всех новой карточной игре, и мы, признаться, чрезмерно ею увлеклись. Сегодня у меня примерка нового платья, бежевого с вышитыми вставками. Мальчики хорошо учатся. Горячо тебя обнимаем.
Твоя любящая мама».
Лукреция читает послание матери дважды: сначала только пробегает глазами, потом вчитывается в каждое слово. Закончив, она кладет его на колени и безучастно смотрит, покуда слова и предложения не расплываются в черные полосы, похожие на цепочки муравьев.
Затем наклоняется и опускает край письма в пламя свечей на стене. Поначалу огонь не верит своему везению и отказывается поглотить листок. Затем, опомнившись, жадно лижет уголки бумаги, окрашивает их в черный, сморщивает и наконец пожирает.
Письмо горит быстро, радостно, освещает сырые ступени дрожащим оранжевым отблеском. Вскрикнув, Эмилия бежит к Лукреции, трясет ее за руку; листок падает на пол. Служанка топчет и топчет горящую бумагу, пытаясь затушить огонь.
Супружеский портрет Лукреции, герцогини Феррары
Fotrezza, неподалеку от Бодено, 1561 год
Оставив Эмилию, она поспешно выходит из холодной спальни fortezza. Добегает до обеденной, устало прислоняется к проему, переводит дыхание. К ней спиной стоит Бастианино, поет дифирамбы своей работе. Один из его любимых заказов; он надеется, что его высочество хотя бы вполовину так доволен, как он сам, какая честь, какая награда для простого художника рисовать девушку столь необыкновенной красоты и добродетели; ему никогда, никогда больше не встретить такой достойной…
Мужчины в зале поочередно замечают ее на пороге: сначала Бальдассаре — он стоит ближе всех, прислонившись к столу и скрестив руки; за ним четверо слуг в дальнем углу комнаты; потом двое подмастерьев, Маурицио и Джакопо — они держат большой плоский предмет, обмотанный в ткань; и, наконец, Альфонсо. Он сидит у огня, скрестив ноги, а у его ног спят охотничьи псы. Художник настолько глубоко погружен в рассказ о портрете, что замечает Лукрецию последним.
Его слова льются, кружатся над головами, завораживают присутствующих. Наконец, он оборачивается и умолкает.
По удивленным лицам она понимает, как изменилась. Приподнятые брови Маурицио подтверждают: да, лицо у нее бледное, изможденное; затихающий голос Бастианино доказывает, как растрепались собранные на затылке короткие волосы; Бальдассаре бросает на нее быстрый взгляд и тотчас отводит глаза; то выпрямляет руки, то снова скрещивает на груди. Подбежать бы к нему, заколотить в грудь кулаками, закричать: «Да, да! Вот как ужасно я выгляжу, но знаешь, что? Я еще жива, так просто от меня не избавиться!»
С минуту-другую никто не двигается, царит тишина. Мужчины застывают, словно персонажи на картине — или сатиры в лесу, или грешники перед исповедью. Еще миг — и Альфонсо развеивает неведомые чары. Ему ли не знать, как важны формальности, какие слова следует произносить вслух, а какие — только подразумевать. Он оживает первым. Выпрямив ноги, он встает с кресла и шагает жене навстречу, протягивает к ней руку.
— Любовь моя! Вам, видно, нездоровится. Позвольте пригласить лекаря.
— Не стоит. — Лукреция вскидывает голову и смотрит мужу в глаза. — Мне уже лучше. — Ее рука на миг задерживается в руке Альфонсо, а потом Лукреция высвобождает ее и проходит в комнату, подальше от Бальдассаре, а если и пошатывается, то совсем чуть-чуть.
— Пусть это решит лекарь. Я как раз собирался зайти к вам, ведь утром вы почему-то не спустились, но тут приехал Бастианино, и поглядите… — Альфонсо показывает на предмет в руках подмастерьев. — Ваш портрет.
Лукреция сначала смотрит на Маурицио — на его теплую улыбку, сколотый передний зуб, — затем переводит глаза на Джакопо. Она остро ощущает на себе чужие взгляды, липкие и тягучие, как нити паутины: взгляд мужа откуда-то слева, совсем рядом; изучающий взгляд Бастианино — он мысленно сравнивает ее изможденное, болезненное лицо с прекрасной девушкой, которую рисовал всего несколько недель назад; взгляд Бальдассаре, прожигающий затянутую в корсет спину; сочувственный взгляд Маурицио и взгляд Джакопо. Он отличается от других. В нем светится понимание. Джакопо знает, что Лукреция умрет? Понимает, что жить на свете ей осталось недолго? Способен ли прочесть все это по ее лицу, по взгляду мужа, по позе Бальдассаре — выжидающей, хищной, как у ястреба перед нападением?
— Давайте же посмотрим портрет, — решает Альфонсо, — коль нас посетила сама муза.
Бастианино хлопает в ладони, будто не замечает ничего странного в этой промозглой и одинокой крепости, и нетерпеливо машет подмастерьям.
Маурицио и Джакопо поднимают картину, все еще накрытую тканью, на стол, придерживают и оглядываются на мастера: ждут знака.
Художник, большой любитель эффектных зрелищ, делает шаг вперед, в последний раз оглядывается на Альфонсо через плечо и срывает с картины покров.
— Вот, — с придыханием объявляет он, подняв руку; ткань волной ниспадает на пол. — Пред вам герцогиня!
В руках Джакопо и Маурицио оказывается столь необыкновенная картина, что Лукреция чуть не ахает. На холсте написана девушка, похожая на нее, точнее, на ее вариант или идеальную версию — определить сложно. Это она, и в то же время не она; сходство и пугает, и отсутствует. Это Лукреция — и совершенно другой человек. Девушка на портрете — герцогиня: о ее происхождении говорят драгоценности в ушах и на шее, на запястьях и голове, золотой с жемчугом cintura на талии, украшения на корсаже, складки и вышивка на юбках. «Перед вами не простолюдинка, — заявляет портрет, — а благородная, знатная дама!» Девушка с картины стоит на фоне зеленых полей и долин своей провинции. Однако в портрете притаилось еще кое-что, столь же явственное, как присутствие другого человека. Лукреция ощущает его остро, словно запах огня. На столе рядом с девушкой лежит стопка книг, а на ней перо. Рука девушки тянется к ним — и это точно рука Лукреции, она узнает кольцо, подаренное Альфонсо, свои ногти, сдвинутый влево большой палец — тот самый, который она сейчас сжимает на другой руке, — но эта рука лишена неподвижной томности, присущей большинству портретов. Она согнута, на ней видны сухожилия, а между большим и указательным пальцем что-то зажато. Кисть. Тонкая, с узким кончиком, созданная для филигранной работы, тщательной прорисовки. Девушка держит кисть крепко, решительно. В ее руке видна целеустремленность хозяйки, твердое намерение. Только сейчас Лукреция замечает, как горят ясные глаза ее нарисованной версии. Честность ее взгляда граничит с дерзостью, голова высоко поднята, в уголках губ затаился намек на улыбку. Платье с пышными складками и узором, который то ли заточает алый цвет, то ли съеживается перед его силой, на портрете совершенно блекнет перед дерзостью на лице девушки, ее взглядом, вопрошающим: «Чего вы от меня хотите? Зачем вы меня отвлекли? Как вы смеете так на меня смотреть?»
Лукреция разглядывает каждую деталь, не отрывает глаз. Портрет показывает ее тело, лицо, руки, водопад когда-то длинных волос, спадающих на платье с оттенком наглого равнодушия к его геометрическому узору, а еще он обнажает то, что скрыто внутри Лукреции. Она любит его и ненавидит, она онемела от восхищения, она сражена его правдивостью. Ей не терпится показать его всему миру, она хочет скрыть его под тканью.
Лукреция поворачивается к Бастианино. «Как вы узнали? — хочет спросить она. — Как вы поняли?» И вдруг осознает, что внимание художника, как и всех в комнате, обращено только на одного человека — герцога Феррары.
Альфонсо задумчиво рассматривает портрет, постукивая по переднему зубу. Обходит его с одной стороны, наклонив голову набок, обходит с другой. Разглядывает вблизи, разглядывает издалека.
Лукреция косится на него краем глаза. С каждым мигом молчания Бастианино становится все больше не по себе, на его щеке подергивается мускул. Художник приехал в fortezza из самого города, потому что ему нужны деньги. Наверное, влез в долги, или не хватает на материалы для новой работы.
Бальдассаре отталкивается от стола и подходит к Альфонсо — нет, портрет ему не интересен, он лишь мимолетно скользит по нему взглядом, здесь другая причина: он предчувствует недовольство герцога и знает, что выразить его предстоит ему, как советнику. О, Лукреция поняла, теперь она знает! Кажется, будто она внезапно исчезла из комнаты или растворилась в воздухе. Ну разумеется! Герцогиня осталась на портрете. Она там. Лукреция больше не нужна, она может идти. Ее место занято, портрет будет вместо нее.
Все чувства внезапно обостряются. Лукреция слышит скрип сапог Альфонсо, дыхание Бальдассаре. Ощущает скуку слуг, монотонное течение их мыслей. Видит Джакопо и понимает: портрет написал он.
Конечно, он. Он смешал пигменты, натянул и разгладил холст, слой за слоем нанося imprimitura[58]; решал, где будет свет, а где — тень, выстроил композицию, чтобы перспективы и цвета соответствовали друг другу, как существительные, глаголы и причастия. Он написал ее волосы, блестящие и распущенные, добавил к стопке книг перо, пририсовал кисточку в руке, добавил живого блеска в глаза. Это все он. Может, Бальдассаре и оставил местами мазок-другой или сказал: «Вот так, посмотри тут…», а Маурицио изобразил сады и пригорки далеко за спиной. Но работу выполнил Джакопо.
И, словно прочитав ее мысли, словно его с Лукрецией до сих пор связывает то необыкновенное событие в коридоре delizia, Джакопо смотрит на нее.
В зале каждый рассуждает о своем, хотя и не вслух, ибо никто не посмеет высказать мнение, пока не вынесет вердикт герцог. Бастианино гадает, заплатят ли ему, закажут ли еще работу, сохранит ли он покровительство Альфонсо. Бальдассаре пытается понять, в каком Альфонсо сегодня настроении — в последнее время оно меняется непрестанно, — чего он ждет от своего consiglieri, велят ли ему освободить художника и мальчишек-подмастерьев от обязанностей при дворе, и каким именно способом. Маурицио мечтает поскорее покинуть это мрачное место.
Лукреция и Джакопо смотрят друг на друга. Она переводит взгляд с подмастерья на портрет и обратно, и в ее глазах светится немой вопрос. И Джакопо отвечает ей взглядом, крепко держится за угол картины, словно никогда не отпустит.
— Что ж… — голос герцога прерывает напряженное молчание. — Это чудо.
Бастианино едва не лишается чувств от облегчения, отвешивает герцогу глубочайший поклон и заверяет, как он рад, что его высочеству понравилось, он счастлив безмерно, ее светлость великолепная натурщица, с ней была не работа, а сплошное удовольствие.
Герцог кивает: это лучшая картина художника, сходство изумительное, безупречная светотень, а на лице герцогини такая глубина, такая серьезность, совсем как в жизни. Вне всяческого сомнения, на Бастианино повлияли работы Микеланджело. Разумеется, это сравнение придет в голову каждому, кто увидит портрет.
Бастианино сияет, кланяется на каждую похвалу. Ему выпала честь, уверяет он герцога, возможно, величайшая в его жизни; он всегда глубоко благодарен его высочеству за покровительство, и если господин чего-нибудь пожелает — чего угодно! — пусть тотчас обращается к нему.
Мужчины поочередно покидают зал. Сначала Альфонсо — он еще рассуждает о Микеланджело и манере изображения; за ним — художник, он щелкает пальцами за спиной, чтобы подмастерья поставили картину на пол, напротив стены; потом Бальдассаре, за ним — слуги. Один за другим они выходят; Бастианино немного отстает и спрашивает у Бальдассаре, удобно ли его высочеству герцогу оплатить портрет, хотя бы частично, любой сумме он, Бастианино, будет рад и в будущем готов выполнить любое его поручение.
На Лукрецию вдруг накатывает волна слабости; пошатываясь, она садится в кресло, пока не подкосились ноги. Сжимает подлокотники, набитые пружинистыми опилками, и чувствует, как в крови бродит вчерашний яд, будто стая жадных волков. Длинные ряды кирпичей изгибаются арками над ее одинокой фигуркой. Впрочем, не совсем одинокой.
На другой стороне комнаты стоит, прислонившись к стене, другая Лукреция, ушедшая в прошлое. Когда настоящая Лукреция уже будет в могиле, ее нарисованная копия продолжит улыбаться со стены, зажав кисть в руке.
Она оглядывается, заслышав шаги.
— …наверное, оставили в зале, сейчас принесем, — говорит Маурицио, и в дверном проеме возникают подмастерья.
Маурицио спешит к портрету, поднимает льняную ткань с пола, встряхивает и аккуратно складывает. Лукреция наблюдает как завороженная, вцепившись в подлокотники. Она не сразу понимает, что перед ней Джакопо.
— Ты в опасности, — говорит он.
От звука родного диалекта Софии наворачиваются слезы. Лукреция удивленно оглядывает подмастерье: глаза цвета озерной воды, низкий лоб, потрепанные края куртки — но на сей раз это она не в силах заговорить.
— Я… — Нужные слова застревают в горле. Она с трудом приподнимает руку, пытается показать на дверь, за которой остался Альфонсо, однако тело сковывает оцепенение, и рука безвольно падает на колено. — Да, — выдавливает Лукреция, сумев правильно сложить губы. — Ничего не поделаешь.
Джакопо не требует разъяснений, как она и думала, но встревоженно оглядывает ее и зал.
— Времени мало, — шепчет он. — Они скоро вернутся. Слушай внимательно. В задней части кухни есть дверь для слуг. Мы с Маурицио заткнем замок тряпками.
— Что? — Она переходит на родной язык, растерявшись от собственной копии в роскошном платье, виднеющейся из-за плеча подмастерья, который пытается усмирить непокорную ткань; от чудовищной боли, что вцепилась в ее голову, словно ястребиные когти; от холодного ветра, что на вдохе покрывает легкие изморозью; от этих слов — таких грубых, прямолинейных.
— Чтобы ты смогла открыть, — объясняет Джакопо торопливо. — Я буду ждать тебя в деревьях до рассвета. Позже — слишком опасно.
— Будешь меня ждать? — повторяет Лукреция непослушным языком. — То есть?
Он смотрит на нее с искренней тревогой. А потом вдруг протягивает руку и касается обнаженной кожи у плеча. Лукреция вздрагивает от изумления. Часть ее хочет отчитать подмастерье за наглость: как он смеет ее трогать, людям его круга запрещено к ней приближаться, а что сделает муж, если увидит, как разозлится отец…
Но прикосновение его пальцев, сегодня запачканных неровными зелеными пятнами, будто открытый океан, усеянный архипелагом неизвестных островов, несет в себе неведомые доселе ощущения. Они совсем не похожи на судороги прошлой ночи: по руке и шее расходится кругами приятное тепло, ее охватывает легкая дрожь, словно бабочки трепещут крыльями. Вот что такое нежность, забота. Ничего общего с тем, что она испытывала в постели в delizia, castello или здесь, в fortezza. Прикосновение Джакопо разрушает сокрытую в ней стену, продирается сквозь густые колючие заросли, обвившие ее сердце за годы одиночества и пренебрежения, ибо иного выхода у Лукреции не было. Его прикосновение уничтожает все препятствия, сметает их на своем пути.
Лукреция открывает рот: она не понимает, о чем он, это безумие. И в то же время ей хочется сказать: о, если бы я могла, будь на свете хоть малейшая возможность!..
Маурицио ворчит из другого конца комнаты:
— Джакопо, хватит, довольно! Кто-то идет, скорее!
Джакопо отнимает руку, отходит от Лукреции. Остановить бы его, схватить за руку!.. Кожа в полукруге выреза горит, опаленная прикосновением.
— Тебе нельзя здесь оставаться, — шепчет он на языке далекого юга. — Ты и сама понимаешь. Беги, не теряй времени. Я буду ждать.
Подмастерья уходят, не оглядываясь, и Лукреция вновь остается одна.
Коварная сущность
Castello, Феррара, 1560 год
После письма матери болезненное оживление покидает Лукрецию. Она по-прежнему проводит дни на улице, но уже не ходит с места на место, а любуется ночным небом. Ест мало, общаться с придворными не желает. Нунциата приказывает evirati спеть им после обеда, однако Лукреция уходит, не дослушав: она устала.
— Конечно! — кричит Нунциата ей вслед. — Отдыхай! Отдыхай побольше!
Той ночью, заключенная в плен полога, Лукреция видит сон: она где-то в туманном, сыром месте, идет по узким улочкам вдоль каналов с неподвижной водой. Впереди и позади шагают дети. У них нет четкой телесной оболочки, но логика сна подсказывает, что они — ее будущие дети. Они ждут особого сигнала, как актеры перед выходом на сцену. Несмотря на дневные страхи перед беременностью и материнством, Лукреция жаждет коснуться этих созданий, обнять их маленькие тельца, погладить шелковистые волосы, поцеловать линии у них на ладонях: она чувствует себя рекой, что выходит из берегов и образует маленькие притоки, которые текут, куда им вздумается. Однако дети из сна, посланники неведомого будущего, избегают ее прикосновений. Она тянется к ним, но они уворачиваются, ныряют за двери, отпрыгивают к забавным каменным мостикам, и Лукреция сжимает лишь влажный воздух. Хотя дети прячут размытые лица, их ручки время от времени ее касаются, а гибкие пальчики переплетаются с ее пальцами. «Где вы? — пытается понять она. — Что за место? Как мне вас найти? Когда вы придете?» Они не отвечают или не слышат. Они увлечены друг другом, весело перекликаются, мчатся по переулкам и причалам, их голоса подвижны, как челноки; туманный воздух служит тканью, а их слова — призрачной нитью.
Прежде чем самой пойти спать, Эмилия жжет в миске янтарную смолу, чтобы Лукреция хорошенько выспалась. Как говаривала ее мать, сон — лучшее лекарство.
Серые перья дыма витают над кроватью, где лежит Лукреция, зажмурив глаза и вцепившись в одеяло.
Лукреции снится, что она оказалась в одной из картин в покоях отца и ходит босая по земле, усыпанной цветами — белыми, красными, лимонно-желтыми. Она боится помять лепестки и ступает осторожно, петляя, страшится хруста стебля под ногой. Сквозь густую листву слышно пение женщин, мелькают в хороводе тонкие, светлые одеяния. Женщины совсем близко, но нельзя коснуться их рукой — они то оказываются впереди, то сбоку от нее. Среди ветвей затаилась коварная сущность: Лукреция то ли знает о ней, то ли вспоминает, точно не скажешь. Из кустов дует ледяной ветерок и лижет ее голые руки. «Будь осторожна, не попадайся ему на глаза», — шепчет внутренний голос, и эта мысль клубится в голове, как дым. Должно быть, он полубог, или воплощение природной стихии, или древесный дух, жаждущий жертвы либо мести. Он охотится на женщин в светлых одеждах или на нее? Неизвестно. Эти женщины могут ее спасти? Неясно. Она раздвигает плющ и ветви холодными, замерзшими руками и продолжает путь, надеется на лучшее. Главное — обходить цветы и не трогать низко висящие фрукты, вот и все, что она знает.
Castello погружен в тишину; Лукреция, свернувшись, спит в кровати, а Эмилия тихонько сопит с открытым ртом на тюфяке. Этажом ниже на боку спит Нунциата, прижимая к себе спаниеля. А далеко-далеко под ними, в сторожке, обнесенной рвом, привратник просыпается от стука в деревянную дверь. Еще сонный, он трясет товарища, и они, позевывая, встают с тростниковых циновок.
Цепи разводного моста не гремят, когда привратники их опускают: механизм смазывают несколько раз в неделю. Такова, помимо прочих, обязанность привратников. Consigliere всегда твердил им, что мост нужно сводить и разводить без всякого шума, чтобы герцог приезжал и уезжал, когда угодно, и никого не тревожил.
Привратники, еще во власти сна, снимают шляпы и низко кланяются, завидев у castello двух лошадей.
Лукреция опять видит сон. На сей раз она стоит в каком-то круглом здании, вероятно, на мельнице. Слышно, как скрежещут друг о друга камни. Слева от нее София склонилась над рычагом и крутит мельничный жернов. Дело нелегкое; лицо няни блестит от пота, ее руки крепко сжимают рычаг, она задыхается от натуги. Лукреция идет было помочь, но София качает головой.
— Ты знаешь, что делать, — говорит няня, не глядя на нее.
Скрежет усиливается, хочется закрыть уши руками.
— Не знаю! — перекрикивает она шум. — Что мне делать?
Няня сурово глядит на нее.
— Знаешь.
Вздрогнув, Лукреция просыпается, губы еще шепчут: «Скажи, скажи!»
В комнате никого. Чистый белый свет смягчает очертания мебели, приглушает цвета тканей. В воздухе разлит запах горящей смолы, а стены кажутся до странности голыми.
Она оборачивается и видит на углу кровати Альфонсо. Он сидит совсем близко, держит руку на бедре Лукреции. Вернулся из Модены, но почему? Ей сказали, его не будет еще две недели. Что он здесь делает? Она не видела Альфонсо с того дня, когда она сама принесла платье для портрета, а муж велел ей оставаться у себя. Когда это было? Неделю назад, больше?
— Не хотел вас будить, — тихо произносит он. — Хорошо выспались?
Ошеломленная, Лукреция наблюдает, как муж все ниже наклоняется к ней. Что он задумал? Его лицо приближается, она съеживается на подушках, но спасения нет, спрятаться некуда.
Он касается ее лба сухими губами и отодвигается, не заметив ее сопротивления.
— Вы что-то бормотали во сне, но я не смог разобрать. Звучало очень серьезно.
Альфонсо разглагольствует о том, как вздрагивает во сне его собака: наверное, ей снится охота на зайцев; о кошмарах, мучивших Нунциату в детстве, — каждую ночь она доводила нянек до исступления своими криками. Странно, почему она так брыкалась, так кричала…
Как он может спокойно заходить к ней в комнату после долгого отсутствия, припоминать все эти истории? Он забыл о Контрари, о последнем разговоре с Лукрецией? Еще удивительнее другое: он снова превратился в того герцога, которого она видела еще в детстве, на зубчатой стене. Герцога, который изобразил мышку. А еще в мужчину, с которым она обвенчалась в Санта-Мария-Новелла меньше года назад. У него много сторон, и она пока не увидела их все. Сейчас перед ней заботливый муж, он забавляет ее рассказами, болтает, берет ее за руку, заботится о жене, закатывает рукава giubbone, обнажая смуглые запястья.
Ей многое хочется ему сказать. Она скоро уедет домой во Флоренцию; его поступок с Элизабеттой и Контрари был варварским, бесчеловечным; она уже никогда не сможет его полюбить; она ненавидит то, что он с ней вытворяет по ночам; она не хочет рожать ему наследника; она мечтает уехать от него далеко-далеко. Эти мысли проносятся в голове, будто гонимые ледяным ветром из ее сна. Ни поймать их, ни выразить вслух она не может, ведь Альфонсо так задушевно с ней говорит и так ласков — держит за руку, справляется о здоровье, сочувствует недомоганию, говорит, что пригласил лекаря. Он не позволит никакой болезни ее мучать.
Словно совсем другой мужчина, а не Альфонсо, повелел убить Контрари. Муж любит Лукрецию. Наверное. А то был правитель Феррары. Один человек — и в то же время совершенно разные люди. Одинаковые, но разные.
— Я слышал, вас тошнит, и аппетит пропал. Это так?
Он наклоняется к ней, обхватывает пальцами ее руку, криво улыбается.
— Я… Нет, это скорее… — Лукреция пытается привести в порядок мысли. — Кто вам сказал?
— Нунциата написала. Так это правда?
— Я действительно… У меня нет аппетита.
— Лекарь ждет за дверью. — Альфонсо вскакивает с кровати. — Впустить его?
К чему Нунциате писать про ее аппетит? Загадка… И почему Альфонсо вдруг стал таким внимательным и любезным?
— Не нужно лекаря, — возражает она. — Мне…
— Бояться нечего. Он лучший во всем регионе и прекрасно о вас позаботится. Я отослал ваших служанок, но сам ни на минуту вас не покину.
Лукреция привстает.
— Альфонсо, почему…
Через порог перешагивает лекарь, низко кланяется сначала Альфонсо, потом Лукреции. На его макушке блестит лысина, а на плече висит сумка из жесткой кожи.
— Ваша светлость, — приветствует он Лукрецию, подойдя к постели. — Его высочество герцог пожелал, чтобы я вас осмотрел. Позволите измерить сердцебиение?
Он завершает свою речь поклоном. Лукреция кивает, и лекарь берет ее за запястье ледяными пальцами.
И ждет, подняв глаза к потолку. Просит открыть рот, осматривает язык. Заглядывает в уши, достает из-под кровати ночной горшок и изучает содержимое. Кладет ладонь на лоб, на руку; с ее позволения осматривает грудь и живот. Давит на него пальцами — сначала осторожно, потом уже сильнее.
— И? — спрашивает Альфонсо, когда лекарь разрешает ей опустить сорочку. Муж охвачен необычайным волнением; на шее дергается жилка, глаза сверкают жадным блеском.
— Беременность ее светлости маловероятна. Живот мягкий, вены не увеличены, и еще, полагаю, в ее светлости наблюдается избыток желчи. Душевное состояние угнетенное, здесь помогло бы…
Альфонсо бьет кулаком в стену. Лукреция и лекарь вздрагивают.
— Думаете, меня душевное состояние волнует?! — шипит он.
Герцог поворачивается к ним спиной. Лекарь беспомощно глядит на Лукрецию, а та молча пожимает плечами: она ничего не может поделать.
Лекарь расправляет плечи, собираясь с духом, и меняет подход:
— Понимаю, его высочество огорчены подобной вестью, но не стоит отчаиваться. Ручаюсь, совсем скоро ее светлость порадует вас интересным положением. Она молода и здорова. Цвет кожи у нее прекрасный, а телосложение идеальное — не хрупкое и не тучное. У нее чудесное, свежее лицо, здоровый ток крови — все это указывает, что она способна зачать сына.
Альфонсо оглядывается. Он спрятал руку, которой ударил об стену, под giubbone — чтобы укротить ее, чтобы она не смела больше его выдавать. Он окидывает Лукрецию оценивающим взглядом и выходит из комнаты, кивком подозвав лекаря. Дверь между салоном и спальней закрывается.
Лукреция прислушивается. Когда за стеной раздаются голоса, она вскакивает и прижимает ухо к деревянным рейкам.
— …уже год, — тихо поверяет лекарю Альфонсо. Наверное, он расхаживает по комнате, потому что его голос становится то громче, то тише, то опять звучит явственней. — Достаточный срок, не находите?
— Тело женщины — сложный инструмент, и владельцу нужно проявлять особую заботу и умение, чтобы произвести мелод…
— А наследника оно когда произведет, по-вашему? — перебивает Альфонсо.
Тишина. Лекарь обдумывает свое нелегкое положение, плюсы и минусы, возможные исходы.
— Простите, ваше высочество, за деликатный вопрос, но как часто вы делите с ней ложе?
— По-разному. Часто. Каждую ночь.
— Позвольте предложить каждые пять дней и воздержание в перерывах. Этот метод помогает семени настояться, созреть и упасть на отдохнувшую почву. Более частые соития накладывают на тело и разум мужчины слишком тяжелую нагрузку.
— Каждые пять дней?
— Да, ваше высочество. И пусть в перерывах она ходит на исповедь. И греческая, и римская науки считают этот способ наиболее действенным. При всем уважении добавлю… Простите, ваше высочество, но для благоприятного исхода мужчине лучше познавать только объятия жены, не растрач…
Любопытно… Здесь Альфонсо перебивает лекаря:
— В ее натуре есть нечто странное…
Лукреция представляет, как муж хмуро расхаживает по комнате.
— Вы не заметили?
— Чего не заметил, ваше высочество?
— В ней чего-то не хватает.
— Не хватает? — сомневается лекарь. — Я вас не совсем…
— Сложно объяснить. Она от природы склонна к… неповиновению. Иногда мне кажется, будто в ней живет какой-то зверь. До свадьбы я об этом даже не подозревал. Меня уверяли в ее сдержанности, крепком здоровье, описывали как послушную, очаровательную, молодую и невинную. Но вот теперь я знаю об этой странности. Как я не заметил раньше? Боюсь, в ней навсегда останется сторона, которую невозможно ни подчинить, ни обуздать.
Доктор отвлеченно добавляет:
— Ее светлость выглядит…
— Подозреваю, — продолжает Альфонсо еле слышно, — что она предотвращает беременность силой воли, нездоровым характером. Бывают ли настолько взбалмошные женщины, что дети отказываются в них приживаться?
Лекарь явно мешкает с ответом:
— Никогда, — осторожно отвечает он, — о подобном не слышал. Ее светлость родом из очень хорошей семьи. Возможно, вы имеете в виду невоздержанность характера?
— Можно и так сказать.
— Уверяю, это беда многих юных дам. В вашей жене слишком много огня. У нее горячая кровь, а горячая кровь ведет к перенапряжению женского ума. Конечно, я могу это вылечить. Исправить подобное довольно легко. Рекомендую делать кровопускание, ставить банки, принимать определенные травы и минералы. Я лично позабочусь о нужных пропорциях. Ей нужно питаться прохладными продуктами; ежедневно употреблять немного птицы, зеленые овощи, красное мясо, сыр и молоко. Никаких пряностей, бульонов, перца или помидоров. И пусть ее окружают спокойные, благодатные картины. Изображения диких животных следует убрать. Кости, перья и прочие варварские атрибуты хранить не рекомендуется. Один раз в день ее светлость должна заниматься легкими физическими упражнениями, отдыхать в постели после приема пищи и сразу после пробуждения. Никаких треволнений, танцев, музыки, творчества, чтения — кроме религиозных текстов.
— Отлично.
— Уверен, желанное событие скоро произойдет.
Шарканье, шорох: видимо, лекарь откланивается и пятится к двери. Лукреция хочет вернуться в постель (вдруг Альфонсо вернется?), но тут лекарь добавляет:
— Чуть не забыл. Нужно отрезать волосы.
— Волосы?
— Они цвета огня, ваша светлость, — поясняет он с явным неодобрением. — И слишком длинные. Пламя разогревает кровь. Помните, ее нужно охладить, сдержать. Уверяю, стрижка поможет.
Наверх посылают несколько слуг. Они прибывают с сундуками и кусками материи. Клелия следит, как со стен снимают картины: куницу-белодушку — подарок на помолвку, наброски белой мулицы, написанную маслом лисицу и загнанного оленя, портрет женщины с домашним леопардом, который Лукреция нашла в салоне delizia и перенесла в свои покои. Когда чужие руки тянутся к ее коллекции перьев, гальки и коры, Лукреция бросается к ним и встает между слугами и своими сокровищами. Никто не слушает ее возражений, и она набирает полные руки дорогих сердцу вещей, однако перья и камешки тотчас отнимают двое стражников из коридора; они хватают ее за руки и не дают шевельнуться. Эмилия возмущается:
— Не смейте ее трогать, отойдите!
Клелия велит девушке помолчать, а стражники стоят молча, посеревшие и несчастные, как горгульи. Лукреция садится на подоконник и прячет голову в коленях.
Пучок двухцветных шипов дикобраза, высушенные мхи и лишайники, блюдо с абрикосовыми косточками, отполированными до блеска, — все кладут в сундуки и уносят прочь.
На их место Клелия вешает натюрморт с инжиром и лимонами, классическую картину с мужчинами, стоящими в кругу, изображение блеклой Мадонны: нимб над ее головой несоразмерно огромен, а младенец Христос в набедренной повязке смотрит вяло и безразлично.
Книги тоже отняли («дабы избежать треволнений», если верить Клелии) вместе с красками, пергаментом и мелками. Лукреции дозволяют немного бумаги и чернил для писем.
Ей приносят сверток с травами, которые нужно пить перед ужином. Клелия добавляет кипятка в высушенную смесь, и воздух наполняет зловоние.
Лукреция опускает взгляд на чашку. Жидкость в ней темно-зеленая, на пенистой поверхности плавают черные крупицы. От омерзительного запаха накатывает тошнота.
— Это хорошо, — замечает Клелия с другого конца комнаты. — Очищает вас от огня. Видите, уже помогает.
Задержав дыхание, Лукреция делает глоток. Жидкость густая, вязкая; рот наполняет противоречивый вкус прелых листьев, горькой мяты и перечного аниса, покрывает язык и попадает не в то горло. Лукреция давится, кашляет, отплевывается — но пьет.
— Быстрее, — торопит Эмилия, протягивая крохотный кусочек сыра, — съешьте. Заглушит вкус.
Лукреция запихивает сыр в рот; мягкий молочный вкус смягчает горечь трав.
Она крупно вздрагивает и отдает служанке чашку.
После обеда заходит секретарь с напоминанием от его высочества: герцогине нужно отдыхать.
Эмилия с Клелией укладывают ее в постель; туго натягивают постельное и заправляют под пуховый матрас. Лукреция лежит, закипая от ярости. Лежать в кровати посреди дня, смотреть в полог… Невыносимо.
Клелия приносит ножницы с ручками в форме длиннокрылых журавлей: герцог велел отрезать Лукреции волосы.
Лукреция взвешивает ножницы в руке, просовывает палец в кольцо — наклоненный к лапам кончик клюва.
Она никому не позволить себя обстричь — ни Клелии, ни Эмилии, ни Нунциате: той, похоже, не терпелось обкорнать длинные локоны Лукреции.
— Это к лучшему, — заявляет Нунциата, пытаясь вырвать ножницы из рук Лукреции. — Сама увидишь. Вот будешь носить ребенка, про волосы даже не вспомнишь.
Лукреция обрежет их сама или не обрежет вообще.
Она стоит у зеркала. Распущенные волосы волнами сбегают по спине до самых щиколоток, щекочут ноги. Как-то раз, держа в руке пышную прядь, мать назвала их «единственным богатством» Лукреции, словно поверить не могла, что природа так щедро одарила самую блеклую из ее дочерей. Волосы Лукреции вызывали неизменную зависть сестер: у них никак не получалось отрастить свои до такой же длины. Мария с Изабеллой втирали друг другу в корни настойку мальвавискуса и веточек ивы, но ниже талии волосы все равно высыхали и секлись. А Лукреция свои только время от времени расчесывала, и росли они пышной густой гривой, напоминая рыже-золотой ручей. Мария частенько говорила:
— Я их отрежу и заберу себе.
Лукреция негодующе вскрикивала. Мария приколет себе ее волосы? Какая подлость! Софии приходилось разнимать сестер.
На самом деле Мария только грозилась. А Лукреция обстрижет себя по-настоящему, собственными руками, и Марии они не достанутся.
Она разглядывает свое отражение. Лицо бледное, бескровное, глаза круглые. На лице и страх, и решительность. Лучи солнца играют в водопаде волос. Лекарь сказал, что эти восхитительные теплые волны подогревают ее кровь, будоражат душу, портят характер, нарушают баланс гуморов.
Одной рукой Лукреция поднимает прядь, другой — ножницы. В зеркале видно, как Эмилия ахает и прикрывает рот. Нунциата щебечет о беременности, продолжении рода, необходимой жертве и поудобнее усаживается в кресле.
Пальцы Лукреции слегка дрожат, но скорее от волнения, чем от страха. Она делает, что требуется. Точнее, сейчас сделает. Не хочется, однако иного выхода нет. Не она, так кто-нибудь другой, а она никому не позволит себя обстричь. Это ведь ее волосы. Ее голова. Пусть забирают картины и краски, запихивают в нее лекарства, давят на живот, заглядывают в горло и запирают в комнате, но свои волосы она обрежет сама.
Лукреция раскрывает ножницы и примеривается к длине у уха. Вот-вот щелкнут лезвия.
— Нет! — восклицает Эмилия. — Не досюда!
— Не так коротко, — соглашается Нунциата.
Эмилия берет прядку на уровне повыше локтя и вопросительно смотрит на Нунциату. Та качает головой. Эмилия поднимает палец чуть ниже плеча Лукреции. Такой длины волосы у Эмилии, когда она выпускает их из чепца.
Пораздумав немного, Нунциата кивает.
Лукреция передвигает ножницы к разрешенной длине и, не закрывая глаз, смыкает лезвия.
Звук оказывается громче, чем она думала. Чистый металлический «щелк!».
Прядь выскальзывает из раздвоенных лезвий. Вот они, волосы, которые росли всю жизнь Лукреции: темная часть, поближе к корням, отросла за девические годы, а самая дальняя, посветлее — еще в младенчестве. И эти пряди были с ней всегда — с детской до этой комнаты и этого мига.
Лукреция осторожно кладет прядь на сундук и возвращается к зеркалу.
«Щелк, щелк, щелк», — лезвия работают сообща и в то же время отталкиваются друг от друга, покуда не срезают все волосы Лукреции. Теперь кончики едва касаются плеч, а из зеркала смотрит не Лукреция, а лесная дриада с огромными глазами и бледным, диким лицом. Больная, грешница.
Она кладет последнюю блестящую прядку на сундук и проводит рукой по оставшимся волосам. Кончики теперь колючие, жесткие. На голове нет привычной тяжести, поворачиваться куда легче, а шея кажется странно голой.
Эмилия плачет, поднимая отрезанные пряди. Обещает их сохранить, ведь можно делать с ними прически, прикалывать к оставшимся волосам, когда Лукреция захочет, и будет как прежде, если умеючи.
— Не захочу, — отрезает Лукреция.
— Но мадам…
— Сожги их.
— Не могу. Я…
Нунциата ставит спаниеля на пол и поднимается с кресла.
— Альфонсо хочет их забрать.
— Альфонсо? — удивляется Лукреция.
— Да. Он меня попросил…
— Зачем?
— Откуда мне знать? — ворчит Нунциата. — Не нам обсуждать его приказы.
Клелия забирает у Эмилии волосы, перевязывает и заворачивает в ткань. Нунциата уносит их из комнаты, брезгливо отодвинув от себя; спаниель на поводке бежит, тявкая, следом за хозяйкой.
Лукреция мечтает вырвать сверток с волосами из рук золовки, забрать себе, уничтожить. Неприятно, что Альфонсо завладеет частью ее самой. Зачем мужу ее волосы? Что он с ними сделает? Положит в сундук, запрет в шкафу?
Дверь за Нунциатой закрывается, теперь волосы не вернешь. Лукреция отворачивается. Служанки подметают пол, протирают сундуки, убирают посуду, готовят ежедневную травяную настойку; день тянется своим чередом и заканчивается, как и любой другой, словно ничего важного и не произошло.
Красивые комнаты опустели. Лукреция бродит от стены до стены, от спальни к окну, выходящему на пьяццу. Не смотрит на картину с Мадонной и фруктами — перезрелыми лимонами, готовым лопнуть инжиром. Лукреция упорно отводит от них взгляд. Раз ей не позволяют иметь свои картины, на эти она и глядеть не станет.
Маленький протест приносит утешение.
Ей позволяют покидать комнату на четверть часа, подышать свежим воздухом в лоджии, но только в теплых мехах, чтобы не простудиться от холодного зимнего ветра.
Лукреция наслаждается быстрым течением крови, частым стуком сердца. Краем глаза она поглядывает на солнечные часы, наблюдает за движением тени. Когда истечет время, приставленный к ней стражник скажет: пора возвращаться в покои.
Эмилия придумывает, как причесывать Лукрецию, чтобы утрата волос была почти незаметна. Она скручивает пряди спереди, создавая иллюзию пышной шевелюры, заводит за уши, а остальные волосы прикалывает к жемчужной диадеме со свадьбы.
Клелии прическа не нравится. На следующий день она влажными руками завивает волосы Лукреции обратно в кудри.
Эмилии кажется, что такая укладка не подходит длинной шее Лукреции.
На третий день Лукреция делает прическу сама.
Служанки угрюмо косятся на нее, каждая из своего угла, и стараются не встречаться друг с другом взглядами.
Лукреция выдумывает для них поручения на другом конце castello, или просит что-нибудь принести с кухни, или отправляет в конюшню угостить мулицу. Лишь бы только остаться наедине со своими мыслями.
Каждые пять дней к ней заглядывает Альфонсо. Он тоже отсылает служанок, но уже по своей причине.
Альфонсо больше не раздевается по дороге к кровати, не срывает с нее одеяло и не любуется обнаженным телом. Вместо этого он опускается на колени перед ее кроватью, просит Лукрецию сделать то же, и подсказывает ей слова молитвы, перебирая четки. Сам акт он совершает быстро, деловито и осторожно.
О ее волосах он даже не вспоминает.
После он всегда очень галантен. Рассказывает новости: какие песни пели за обедом, какое читали стихотворение, у кого с кем роман. Упоминает и государственные дела — как Феррары, так и других герцогств. Говорит, что посетил мастерскую Бастианино и очень доволен его работой над портретом. Спрашивает, как она: спокойна? Спокойнее, чем раньше? Потеплел или охладился ее нрав? Отступила ли излишняя горячность, нет ли голода, жажды? Пришло ли, наконец, умиротворение? Есть какие-то изменения в душе, теле? Чем ей помочь?
Обязательно нужно ходить к духовнику, напоминает Альфонсо. Ради исповеди покидать комнату разрешено.
Лукреция усердно ходит на исповедь. Впервые в жизни она настаивает на посещении мессы хотя бы раз в день.
Все одобряют постоянные походы Лукреции в часовню: вполне уместно и правильно, что она просит Господа о ребенке. Все в castello молятся о наследнике. Стражники, камеристки, слуги и наместники благоговейно следят глазами за истовыми молитвами юной герцогини перед алтарем.
Чтобы попасть в часовню, нужно спуститься по нескольким лестницам и пройти через оранжерею. По дороге Лукреция заглядывает в Sala dell’Aurora и зал поменьше — двигаясь очень медленно, как лекарь прописал. Никакой спешки, нужно беречь силы. Она частенько встречает придворных и слуг, бегающих между кухней и залом, между салоном и сторожкой привратника. За день легко можно увидеть десять — пятнадцать лиц. Вернувшись в покои после исповеди, она поспешно делает наброски этих лиц чернилами, а потом сжигает улики.
Лекарь добросовестно навещает Лукрецию. Поначалу ей ненавистны эти визиты: противно, что он прощупывает пальцами ее тело, измеряет пульс, ставит на спину горячие банки, изучает ее кожу, шею и язык.
Однако минуют две недели, и она уже с нетерпением ждет прихода лекаря: хоть какая-то искорка среди однообразного течения будней. Лукреция спрашивает его о семье: родила ли собака, как дела у жены — полегчало ее ногам? Старший сын все так же хандрит? Дочь по-прежнему отказывается заниматься музыкой?
Ежемесячное кровотечение начинается в положенный день. Альфонсо не заходит к ней ни разу за всю неделю.
Если скука становится нестерпимой, Эмилия играет с Лукрецией в привезенные из Флоренции карты с изображениями башен, мостов и деревьев. Края карт истрепались за долгие годы игр в детской; Лукреция проводит ими по щекам и вдыхает запах — вдруг остались еще следы Софии, Изабеллы или Марии?
Когда игра заканчивается (а Эмилия играет отлично, быстро схватывает правила и стратегии), Лукреция садится на подоконник и гадает, в какую сторону свернут прохожие — налево или направо? Эмилия приносит ей бумагу с чернилами и отворачивается, будто не замечает, как Лукреция вместо писем занимается набросками.
А когда Лукреция плачет по ночам, Эмилия крепко ее обнимает, как в свое время София. Ласково убирает волосы с лица, вытирает слезы платком и приговаривает: «По́лно, полно». Рассказывает сказки, которым учила ее мама: о феях, дарящих желания, и о гоблинах с заколдованными мечами. А еще признается, что слуги в палаццо трепетали перед Лукрецией, а некоторые даже ее боялись.
Лукреция тотчас забывает о слезах.
— Как это?
Эмилия объясняет, что про нее ходил странный слух. Кое-кто при дворе клялся и божился, что своими глазами видел, как она гладила тигра еще маленькой девочкой. И тигр ничего ей не сделал, сидел спокойно. Поговаривали, будто она заворожила тигра своими чарами. Конечно, выдумки, чепуха, но…
— Не чепуха, — возражает Лукреция. — Вовсе нет.
Потом смежает веки и проваливается в сон, и в нем то и дело мелькает смутный образ: полосатый бок зверя, огромные лапы и горящий взгляд янтарных глаз.
Она не может понять, как относится к возможной беременности. С одной стороны, это единственный способ покончить с заточением, травяными чаями и визитами лекаря. С другой стороны… Тело ее разбухнет, потом предстоят роды, нужно будет следить за образованием, здоровьем и жизнью ребенка, а потом произвести на свет еще одного… И представить сложно. Нет, она не готова. Рождение мальчика весь двор встретит ликованием, но всю жизнь его будут ваять, как статую, для одного-единственного предназначения — стать герцогом. А от девочки потребуется то же, что от самой Лукреции, — оторваться от семьи и родного дома, переехать в чужой дом, радовать взоры и приносить наследников, говорить мало, а делать и того меньше, сидеть взаперти, отрезать волосы, избегать треволнений и сильных впечатлений и подчиняться любым ночным ласкам.
Каково это — быть беременной? Как она себя повела бы? Как встретила бы новость? Ей разрешили бы выходить из покоев и участвовать в жизни двора. Зато в ее теле росла бы новая жизнь, отдельный человек, на чьи плечи еще до рождения взвалили бы ношу чужих ожиданий. Сын Альфонсо, наследник Альфонсо, будущий герцог Феррары.
Кровотечение наступает снова, на несколько дней раньше обычного, будто в насмешку.
Прослышав об этой беде, вызывают лекаря. Он желает осмотреть запачканную ткань. Лукреция сидит на краешке кресла, отвернувшись, спрятав под себя руки, а лекарь объясняет недовольной Нунциате, сидящей на диване, и Альфонсо, стоящему у окна: менструальная кровь слишком «жидкая». И да, слишком «горячая».
Ее поят новой травяной настойкой, на сей раз с кислым послевкусием и запахом дрожжей.
Лекарь позволяет ей рисовать детей, не более раза-двух в день. Сильных, здоровых детей. Мальчиков.
Она рисует детей, ребенка за ребенком. Мягкие, беззащитные личики, жемчужно-бледные ручки и ножки. Детей, которых видела за окном castello, или других, из сна, гуляющих по каналу либо по арочному мостику. Детей на спинах родителей, детей в колыбельках, детей в седле, детей, летящих на больших птицах, скользящих над верхушками деревьев на фоне небесной синевы.
Нунциата, вполне довольная ролью единственной сестры Альфонсо, радостно врывается к Лукреции по нескольку раз за день, а потом отчитывается перед братом, чем его жена занималась. Нунциата разглядывает рисунки через плечо Лукреции.
Увидев детей в вышине, она хмурится.
Лукреция расставляет на подоконнике ряд бокалов, каждый наполняет водой до разного уровня и играет целую гамму, постукивая по ним ногтем. Сидит так часами, покуда не подбирает несколько мелодий.
Клелия молча смотрит на нее с другого конца комнаты, сматывая пряжу со спинки стула. Лукреция берет горсть отполированных камешков, по невнимательности слуг оставленных в шкафу. Они немного потускнели, и Лукреция бросает их в воду.
На следующий день воды в бокале становится меньше.
Камешки ее выпили?
Лукреция наклоняется к подоконнику, завороженная. Поднимает камешек и трясет, прислушиваясь к характерному всплеску.
Эмилия говорит: это невозможно, камни не пьют. Вода высохла на теплом воздухе, только и всего. Клелия находит объяснение Лукреции странным. А Нунциата фыркает: ничего глупее она в жизни не слышала.
Однако Лукреция знает, что права. Камешки умеют пить. Она наливает еще воды в стакан и накрывает сверху кусочком ткани.
И конечно, на следующий день часть воды пропадает.
Пока Альфонсо одевается, она рассказывает ему об этом. Предлагает показать камешки. Он поворачивается к ней и долго, внимательно смотрит, застыв между кроватью и окном и завязывая узелок на рубашке. Лицо мужа непроницаемо, неподвижно; на один глаз ему упала прядь волос, а пальцы до сих пор сжимают края воротника. Он выглядит почти грустным, Лукреции хочется спросить: «В чем дело? Почему ты на меня так смотришь?»
Потом Альфонсо, видимо, отбрасывает пришедшую в голову мысль. Поспешно завязывает рубашку, убирает волосы с глаз и садится в кресло напротив кровати, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди.
— Сдается мне, — начинает он, прочистив горло, — не слишком вам полезен подход этого лекаря. Согласны?
Лукреция выпрямляется, стискивает руки под одеялом — не выдать бы волнения! «Не торопись, — уговаривает она себя. — Говори спокойно».
— Ненавижу его подход, — срывается у нее с языка вопреки желанию. — Невыносимо сидеть весь день взаперти. Я так не могу. Выпустите меня, верните мою свободу. — Она впивается ногтями в ладони. Не надо горячиться, держись спокойнее… — То есть я не уверена, что лекарства мне помогают. Кажется…
— Я советовался с другим лекарем, из… — Альфонсо надолго умолкает, будто силясь вспомнить название, а ведь ее мужу не свойственны заминки. Впрочем, она вспомнит эту странность только после. — …Милана, — определяется он. — Его советы совершенно противоположны. Он рекомендует перемену обстановки, простую пищу и физическую активность. Думаю, нам с вами стоит ненадолго уехать за город. Вы восстановите здоровье. И мы отдохнем… вместе. Подальше от двора и обязательств.
Лукреция удивленно смотрит на Альфонсо.
— За город? — повторяет она. — Хотите сказать… — Горло сжимается от непривычного счастья. Delizia! Столько воспоминаний! Яркие дорожки в саду, ее покои с ангелами на потолке, предупредительные слуги с полными тарелками пирожных, мулица с красной уздечкой, коридор, где Лукреция влила воду с медом в неподвижный рот юноши на грани смерти.
— О! — Слезы невольно наворачиваются на глаза. — С радостью. Пожалуйста, поедемте! За город, да-да…
«Мы были там счастливы», — хочет сказать она. Не случилась еще та история с Контрари, Элизабетта не уехала, не было лекарей, лекарств и предписаний отдыхать, никто еще не посылал Клелию за ней шпионить, не командовала Нунциата, и Альфонсо был совсем другим — тогда она ему нравилась и не успела разочаровать. Может, получится вернуть время, когда они жили в согласии. Может, ее тело послушается его, оправдает всеобщие ожидания.
— Прекрасно. — Альфонсо встает, надевает сапоги. — Уедем завтра же.
Если такая спешка и удивляет Лукрецию, она старается об этом не задумываться. Эмилия с Клелией собирают сундуки с платьями, ночными сорочками и шалями. Лукреция приказывает вернуть ей краски и кисти, сама их упаковывает. Она осматривается: надо завернуть в ткань стеклянную золотую рыбку с хвостиком-веером и еще, наверное, аквамариновую лисицу. Но это невозможно, вдруг вспоминает она. Animaletti давным-давно разбиты, их не вернуть.
Она едет в delizia, снова и снова повторяет себе Лукреция. В delizia. Там можно гулять, где душе угодно, и они с Альфонсо немного сблизятся. Как бы то ни было, она вырвется из этих стен, взглянет на что-то кроме стен castello, мерцающих при свечах.
Как ни странно, во дворе не стоит экипаж; только пара стражников, ослы с поклажей на спине да пара лошадей — одна для нее, одна для Альфонсо.
Герцог стоит рядом и велит конюху держать уздечку. Разводной мост опущен и ждет — не большой, у главных ворот castello, а боковой, до того узкий, что по нему может проехать лишь один всадник.
— Поедем без экипажа? — интересуется Лукреция.
— Да, — отвечает Альфонсо, взяв ее за руку. — Так проще. И быстрее. — Он подводит жену к лошади и помогает забраться. Она берет поводья и поправляет перчатки, а муж кивает на служанок и говорит: — Мы возьмем только одну. — Он показывает на Клелию. — Эта останется.
Клелия кланяется и уходит в сторону покоев Нунциаты. Эмилия глядит ей вслед, сдерживая улыбку.
— В путь. — Альфонсо натягивает поводья. — Слуги поедут за нами.
Копыта цокают по узкому мостику надо рвом. Лукреция охвачена странной, лихорадочной радостью. Бескрайнее небо, люди вокруг, утренний воздух, прилавки вдоль улиц, руки, носы и обувь людей, которых она не знала и никогда не узнает…
Горожане забывают о делах и наблюдают за герцогом на длинноногом коне, за юной герцогиней, закутанной в меха. Супруги вместе скачут по городу в сопровождении стражников.
Проезжают через городские ворота и попадают на открытую дорогу. Альфонсо пускает коня рысью, и лошадка Лукреции следует за ним. Мимо проносится сельская местность, опустелые сады, голые ветви деревьев, почерневшие от дождя, вереница каменных оград, влажные поля, дома с пустыми глазами окон. Лукрецию потряхивает, седло скрипит, ветер старается сорвать шляпу с головы, просунуть пальцы под одежду; острые иглы дождя колют лицо.
Они едут вдоль реки. Путь кажется знакомым: тот же перекресток дорог на пологом склоне, те же скалы, похожие на краюху хлеба. Потом Альфонсо сворачивает на тропу, сбоку от которой раскинуты земельные угодья. Привязанная к столбу коза поднимает на всадников унылые глаза и тотчас отворачивается. С другой стороны протекают серо-коричневые воды реки По.
— Это та самая дорога? — любопытствует Лукреция.
Земля здесь скалистая, поэтому они замедляют лошадей; один стражник говорит другому, что тут животные могут и копыта свернуть.
— Та самая? — переспрашивает Альфонсо.
— Из delizia.
— Нет. Конечно, нет.
— Почему «конечно»?
— Мы едем не в delizia, а потому…
— Не в delizia? — Лукреция хочет остановиться, но поводья ее лошади держит стражник. — А куда?
— В Stellata[59], — удивленно отвечает муж, словно находит Лукрецию чересчур забывчивой, хотя на самом деле ни о чем ее не предупреждал.
— Где это?
— За Бондено. Совсем рядом.
— Это вилла? Как delizia?
— Загородное поместье у реки, очень красивое, в форме звезды. Оттуда и название. Ребенком я проводил там много времени. Отец брал меня покататься на лошадях и поохотиться. Я подумал, вам понравится. Смена обстановки, свежий деревенский воздух.
— Но… — Лукреция не знает, как выразить свое несогласие. — …как Эмилия узнает, куда ехать? Я ей сказала, что мы едем в delizia, а не…
— Эмилия?
— Моя служанка.
— Которой я велел остаться?
— Нет, другая. Я привезла ее из Флоренции. Она должна была поехать за нами, а…
— Не тревожьтесь. Ее проводят к нам… — Альфонсо отмахивается рукой в перчатке. — Вот оно! Видите? Вот луч звезды.
Среди густой сети голых ветвей Лукреция видит кусок высокой, темной стены, острой, как наконечник копья. Глухое место — и вдруг геометрическое здание… Больше всего оно похоже на castello Альфонсо: та же череда изогнутых аркой зубчатых стен. Словно часть castello откололи, перевезли и оставили здесь, среди деревьев.
— Выглядит… — она ищет подходящие слова: не слишком-то хочется ругать дорогое мужу место, — …внушительно. Похоже на крепость или…
— Умница, — улыбается Альфонсо. — Когда-то давно здесь была крепость, здесь следили за речным сообщением.
Он подгоняет лошадь. Они едут к fortezza и по очереди пересекают мост.
Одна картина поверх другой
Fortezza, неподалеку от Бондено, 1561 год
Лукреция проходит мимо своего портрета в пустом зале. Слышно, как во дворе Альфонсо и Леонелло прощаются с Бальдассаре, желают ему счастливого пути обратно в Феррару. Лукреция медленно преодолевает ступеньку за ступенькой и вваливается в свои покои. Эмилия поддерживает ее за запястье и увещевает: не надо было ей спускаться, ни в коем случае, следовало лежать в кровати.
Лукреция не обращает внимания. Садится за письменный стол, кладет голову на руку и сбоку смотрит на вчерашние наброски. Вблизи они открываются ей под другим углом. Неужели это она нарисовала мулицу, единорога? Чем они ее так впечатлили? Уже не вспомнить. Теперь они превратились в ничто, просто линии на бумаге.
Лукреция закрывает глаза. Эмилия суетится, накидывает на нее плед, уговаривает прилечь, отдохнуть.
Лукреция открывает глаза и видит меловые штрихи, заднее копыто мула, деревянную поверхность стола, его текстуру, узелки и колечки узора, гаснущий свет из узкого окна, безвольно лежащую возле пера руку со скрюченными пальцами, кольцо с крохотным лунным камнем, кружевную манжету.
— Идите спать, — уговаривает Эмилия. — Я вам помогу.
Лукреция качает головой, и шпильки забавно стучат о стол. Рука с кольцом и манжетой двигается к штифту, сжимает его пальцами. Поднявшись, верхушка штифта ложится между большим и указательным пальцем. Кончик направлен на лист бумаги, проводит прямую линию, загибает на конце. Ниже рисует вторую линию и соединяет с первой. Снова и снова рисует нисходящие линии: четыре сильные лапы в движении, бегут во весь опор. Рука Лукреции намечает выразительную морду, сложный узор на боках зверя. На первый взгляд узор похож на полосы или прутья решетки, но для Лукреции это камуфляж. К животному на картине вскоре добавляется густая, пышная зелень, лианы, множество цветов, и яркий мех сливается с джунглями среди узоров и линий.
— Очень красиво! — Эмилия заглядывает ей через плечо. — Леопард?
Лукреция качает головой, так и не подняв ее с руки.
— Как хорошо получилось! Но вам все равно нужно…
— Центр триптиха[60], — бормочет Лукреция в стол.
— М-м-м? — Эмилия развязывает шнуровку на горле Лукреции, снимает с плеч меха и шали.
— Теперь уже не закончу… — Рука Лукреции вяло падает, штифт вываливается на стол, лист бумаги сам сворачивается в трубочку, и тигр пропадает. — Триптиха не будет.
Эмилия не слушает. Она помогает Лукреции встать, и боль в голове резко усиливается, сжимает ее тисками, выдавливает пальцами глаза, вцепляется в мышцы от плеча до шеи. Кровь отливает от лица, плеч и легких, почему-то скапливается в ногах. Лукреция хватается за столбик кровати, чтобы не упасть.
Эмилия снимает с нее платье, корсаж, рукава, мягко журит ее; говорит, что проветрила и нагрела постель, укладывает туда Лукрецию и накрывает одеялом.
Как холодно, холодно, никогда еще она так не мерзла! Ноги немеют, пальцы превращаются в лед. В груди хрипит и скрежещет, зубы отбивают дробь. Во всех суставах и подвижных частях тела поселилась мучительная тянущая боль: кажется, Лукреция никогда уже не встанет.
Эмилия накрывает ее одеялами и плащами, но озноб не проходит. Служанка задергивает занавески, разводит огонь. В конце концов она ложится рядом с госпожой, трет ее ступни своими, дует на сжатые руки в бесплодной попытке согреть.
— Ну, ну, — шепотом утешает Эмилия. — Все будет хорошо.
Лукреция отворачивается к стене, крепко стиснув челюсти. Отчаяние захлестывает ее и наполняет до краев.
— Нет, — выдавливает она сквозь сжатые зубы. — Не будет. Я умру здесь…
— Не говорите так!
— Я никогда больше не увижу Флоренцию.
— Почему же? Успокойтесь, вы просто приболели, скоро придете в себя. Вас всего лишь лихорадит после поездки…
— Отравили, — шепчет Лукреция.
— Тсс!
Эмилия гладит госпожу по лбу, и на Лукрецию накатывает цепенящее беспамятство.
— Спите, — уговаривает Эмилия. — Отдыхайте.
— Не открывай дверь, — бормочет Лукреция. — Не отодвигай засов. Не пускай его внутрь.
Она просыпается многим позже. Комнату уже заполнила тьма. Лукреция садится. Во рту пересохло, зато в голове прояснилось: она чистая, как отполированный кубок, и в ней звучит лишь одна навязчивая нота. Лукреция проводит рукой по лицу. Распирающая боль ушла, появилась необыкновенная легкость, словно телесные муки очистили разум.
Ее мысли острее граней бриллианта, безупречно отточены, отшлифованы и кристально ясны. Они следуют друг за другом, словно нанизанные на нить бусины.
Она проголодалась, мучительно пустой желудок сжимается.
Она в fortezza.
За ней придет смерть — может, не сегодня-завтра, но в один прекрасный день обязательно.
Никто ее не спасет.
Альфонсо пошлет своего человека. Скорее всего, Бальдассаре. Ему он доверяет целиком и полностью.
А может, сам решит вопрос.
Она умрет: герцог принял решение. Смерть неизбежна. Такова ее судьба.
Движимая этой мыслью, Лукреция встает с постели, где, спрятав лицо в покрывале волос, спит на боку Эмилия, и молча стоит в ледяной комнате. Что ее разбудило?
Медленно, задержав дыхание, она поворачивает голову к окну, к двери, прислушивается к шагам, голосам, шуму на лестнице. Они идут за ней? Пробил час?
Тишина. Лучи здания в форме звезды простираются далеко от Лукреции, тихие и безмятежные.
Ни единого звука. Наверное, она уже на небесах.
Разве что живот урчит, гложет сам себя, умоляет о еде. Вот рту маковой росинки не было. Она жива одним святым духом.
Лукреция выжидает еще немного, на всякий случай. Потом наклоняется и ловко поднимает с пола платье Эмилии, натягивает через голову.
Нужно поесть, иначе не хватит сил придумать выход. Нужно найти еду, пока все спят. Нужно самой достать себе съестное, опасность слишком велика.
Ей кажется, будто в комнате есть вторая Лукреция — она до сих пор ежится от холода в кровати, спрашивает, почему первой Лукреции вздумалось куда-то идти, умоляет ее остаться здесь, в тепле и безопасности. Лукреция отвечает этой девушке: она надевает платье служанки, чтобы найти еды, поддержать силы. А может, существует и третья Лукреция — та, с портрета. Она приподнимает бровь и холодно спрашивает, куда Лукреция собралась. Эта Лукреция, герцогиня, в ужасе от подобной выдумки. Надеть грубое платье служанки, надо же! Лукреция с портрета приближается к настоящей Лукреции, ее cioppa[61] возмущенно шуршит, а лилейно-белые руки вытянуты, будто она хочет остановить это сумасбродство.
Однако настоящая Лукреция куда проворнее. Она, девушка в блеклом платье служанки, проскальзывает мимо кровати, отпирает дверь и выходит.
Fortezza пропитана сырым черным воздухом, спорами плесени, холодными сквозняками; они трутся о тело, обвивают лодыжки. Здание трещит и похрустывает от ночного холода. Лукреция завязывает чепец Эмилии, вытягивает руку, пытаясь нащупать стену, и спускается по лестнице.
Все вокруг пустое, заброшенное, коридоры полнятся мраком. Стражники, слуги, помощники и чиновники прячутся за каждой дверью, за каждым углом, в каждом закоулке.
«Ничего безрассудней ты еще не делала», — весело замечает внутренний голос.
А если Альфонсо или кто-нибудь из его людей ее обнаружат? Что тогда? Остановят женщину в платье служанки, а это окажется их герцогиня?
Лукреция на цыпочках спускается по ступеням. Кухня расположена где-то за залом, нужно повернуть за угол… И вдруг на последней ступеньке второго пролета она слышит ужасный звук. Кровь в жилах леденеет.
Шаги из зала, быстрые и решительные.
Лукреция вжимается в стену. Не подходи, не подходи, пожалуйста… Она видит фонарь с одной-единственной свечой внутри, держащую его руку, черный кожаный рукав, грудь, лицо в профиль, а потом — гриву рыжеватых волос.
Бальдассаре.
Лукреция вжимается в стену всем телом, мечтая, как ящерица, забраться наверх и спрятаться в щели. О, если бы!.. Бальдассаре идет по коридору быстро и тихо, на цыпочках. В одной руке у consiglieri сумка или мешочек, в другой — фонарь.
Невозможно, невероятно, однако же Бальдассаре останавливается, ждет, затаившись и вытянув фонарь. Делает шаг назад, потом еще и еще, покуда не спускается обратно к подножию лестницы. Он стоит почти вплотную к ней — захочешь, и можно коснуться его рукой. Он наверняка слышит ее дыхание…
Лукреция наблюдает за ним из тени, прижавшись щекой к холодной и влажной стене fortezza. По коже бегут мурашки. Вот и пришел ее конец. Она умрет на этой лестнице; Бальдассаре схватит ее, сомкнет руки на горле, и никто даже не увидит, не расскажет ее историю, не вспомнит и не поведает о ее смерти. Шея у нее хрупкая, тонкая. Бальдассаре без труда справится. Он лишит ее жизни за считаные мгновения, а труп отбросит, как грязную тряпку.
Он поднимается по лестнице? Если да, то все пропало. Бальдассаре увидит Лукрецию в двух ступенях от себя, спросит, чем она тут занята, куда идет, и, конечно, узнает ее, ведь его не проведешь переодеванием. Так все и будет.
Бальдассаре прислушивается. Осматривается. Вглядывается в коридор, обшаривает глазами лестницу.
Лукреция не смеет шевельнуться. Вдыхает воздух по крупице. Никаких движений: ни глазами, ни пальцами; на лице не дрогнет ни один мускул. По земле стелется ледяной сквозняк. Выдаст ли он ее, всколыхнет ли юбки? Сердце бешено бьется, оглушительно и гулко колотится о ребра, предупреждая о присутствии человека, которому, скорее всего, поручили ее убить.
Краешком глаза она рассматривает его руки: ровно обрезанные ногти, подушечку мышц под большим пальцем, сочленение костей, соединяющих палец с ладонью, кольцо на мизинце с гравировкой орла — герба Альфонсо. Руки consiglieri выглядят необычайно сильными, тошнотворно большими.
И этой рукой Бальдассаре поднимает над головой фонарь. Потом осматривает коридор. Еще раз оглядывается через плечо.
Затем, запустив пальцы в волосы, поспешно уходит, будто торопится на какое-то важное дело.
Лукреция ждет, пока тьма не поглощает силуэт советника, пока не затихает эхо его шагов среди каменных стен fortezza, и только потом спускается по последним ступенькам и выходит в коридор, выбирая противоположное от Бальдассаре направление.
Времени мало, времени мало. Раз уж Бальдассаре не спит и что-то задумал, остальные тоже могут бодрствовать. Например, чиновники или слуги. А то и сам Альфонсо.
На кухню можно попасть только минуя зал. Чем ближе Лукреция подходит, тем больше думает о портрете: совсем скоро он будет висеть на стене. Как с ним поступят, когда ее не станет? Альфонсо отошлет портрет в castello? Повесит куда-нибудь? Будет временами на него смотреть? Выдержит ли испытующий взгляд жены?
Держась стен, Лукреция проходит дверь в зал, сворачивает за угол, спускается и шагает в низкий дверной проем.
На кухне царит безмолвие. Ветчина подвешена к потолку. На столе рядом с недоеденной буханкой лежат перевернутые горшки. За высокой каминной решеткой тлеют пепельные конусы угольков. Луковицы в сухой и чахлой шелухе позабыты в корзинке на табурете. У огня спят на плетеных матрасах двое слуг, закутанных в плащи и натянувших на глаза шапки.
Лукреция стоит у стола, положив руку на горбатую спинку хлеба. Лучше вернуться наверх. За спиной у нее есть дверь, ведущая обратно в fortezza. Может, еще получится все исправить? Может, намерения Альфонсо не так плохи? Может, ей еще удастся зачать ребенка, выносить наследника и остаться герцогиней? Да, может быть.
Вдруг Лукреция вспоминает, что сказал Джакопо в зале, положив руку ей на плечо. Он заткнет ход для слуг тряпками и будет ждать ее в лесу.
Она вздрагивает, качает головой. Нелепость! Смешно и думать, что можно пробить брешь в обороне fortezza, что Альфонсо допустит подобную небрежность. Подмастерью художника никогда не понять, на какие меры идут люди вроде Альфонсо ради собственной безопасности. Его почти всегда окружают гвардейцы; полно людей, чья работа — охранять и защищать владения герцога. Они не упустили бы такую мелочь, как незакрытая дверь.
Лукреция прячет хлеб и несколько ломтиков копченой ветчины в карман фартука.
И все же ее одолевают сомнения. Позади поджидает fortezza, покои, наброски, муж, его стражники, а в ночи бродит Бальдассаре. А впереди — кухня, спящие слуги, тлеющий огонь, потайной люк в толстой крепостной стене. Наверное, про эту дверь говорил Джакопо, через нее они с Маурицио вошли и через нее покинули fortezza.
Она квадратная, из прочных досок на засовах, и притягивает взгляд, как точка схода на картине.
Лукреция убеждает себя, что план Джакопо не сработает, даже если подмастерье говорил искренне, даже если и правда хотел помочь. Какие-то тряпки не могут превзойти могущество Альфонсо. Чтобы подмастерье перехитрил самого герцога, его людей, подготовленных гвардейцев, надежно защищенную каменную fortezza? Безумие!
Может, и безумие, но Лукреция перешагивает через спящих слуг, притрагивается в тусклом свете к первому засову, ко второму, к третьему, определяет на ощупь их длину и ширину. Потом берется за железное кольцо-ручку. Повернется? Джакопо не пошутил, он правда сломал замок?
Она поворачивает ручку. Та не поддается, и Лукреция ничуть не удивлена, не расстроена, не разочарована, просто ни капельки, ведь ничего другого она не ожидала. Однако же решает повернуть в другую сторону — так, на всякий случай, напоследок, а потом она пойдет наверх с наскоро прихваченным ужином и примет свою судьбу, ибо выбора у нее нет. И никогда в жизни не было. Она поворачивает ручку в последний раз, наудачу, и вдруг — наверное, ей только кажется, такого не может быть! — в глубине механизма что-то скользит, смещается. Тихое щелканье — и ручка поддается.
Лукреция стоит. Медленно вдыхает раз, другой. Вставляет пальцы в замок и по одной достает тряпки, смятые и промасленные. Настоящее чудо: такая хрупкая вещь вдруг повредила тяжелый железный замок!.. Лукреция очертя голову тянет дверь на себя. Нет, она не откроется! Альфонсо никогда не допустил бы такого риска, такого промаха. Входы или выходы его владения не защищены как следует? Чушь!
Дверь приотворяется совсем чуть-чуть, и через щель на кухню влетает юркий, бодрый ветерок.
Пригнувшись, Лукреция проходит через дверь и встает на каменный выступ порога. Она снаружи fortezza, в нескольких футах над землей, на кончике «звездного луча» здания. Это боковая стена, в стороне от реки, разводного моста и главного входа. Потайной люк для служанок, торговцев и подмастерьев придворного художника.
Лукреция опирается на дверной косяк; буханка хлеба топорщит фартук. Ночь выдалась морозная, и порывистый ветер носится среди деревьев, то наклоняя их друг к другу, то отталкивая. Облака с синей каймой плывут в вышине, как лодки по черному морю, попеременно то застилая, то открывая мерцающие точки звездного света; карту неба сегодня прочесть нельзя.
За спиной Лукреции притаилась смерть, ее смерть. Лукреция знает это так же хорошо, как цвет своих глаз и пробор волос, чуть несимметричный, смещенный. Впереди же — неизвестность, снова смерть, только другая. Если Лукреция покинет этот выступ, уйдет и помчится к деревьям, Альфонсо пошлет за ней слуг. Отправит солдат и гвардейцев. Ее загонят, как дикое животное на охоте.
Она стоит, держась за стену fortezza, и перебирает в уме варианты: смертельный яд, коварная ловушка, смерть в покоях — а значит, жар, судороги и невыносимая, чудовищная боль и рвота. Или смерть здесь, в чаще или на дороге, на просторе; Альфонсо поскачет за ней на лошади, наверное, с мечом. Она смело встретит его взгляд, даже подзадорит: пусть нападает! Она покажет, что не подчиняется ему! Так она и поступит, если до этого дойдет. Да.
Лукреция стоит на выступе и не подозревает, что Альфонсо не станет ее преследовать. Они с Бальдассаре крадутся по лестнице в ее спальню и задувают свечу, поднявшись наверх. Альфонсо толкает дверь и заходит в комнату. Там царит такая непроглядная тьма, что он останавливается и дает глазам привыкнуть. Бальдассаре различает во мраке смутные очертания кровати. Вот она, Лукреция, ее волосы веером раскинуты по подушке, а одеяло натянуто до самого подбородка. Альфонсо опускается на колени. Он целует кончики ее волос, осеняет себя крестным знамением, стягивает одеяло, берет подушку и вместе с Бальдассаре душит юную герцогиню.
Нелегкая смерть: Лукреция кричит и вырывается. Борется за жизнь. Размахивает кулаками, ногами, норовит оцарапать. Извивается и бьется под их руками. Один раз даже отталкивает подушку и хрипло кричит в темноте. Бальдассаре зло ругается, придавливает ее всем телом, чтобы не вырывалась. Кто бы мог подумать, что в маленькой герцогине столько силы?
Конечно, ей с ними не совладать. Они зрелые мужчины, сильные и натренированные. Они привыкли работать сообща, умеют предвидеть следующие шаги друг друга. Герцогиня обречена, и все же не сдается. Альфонсо всегда говорил: есть в ней неукротимый дух. Получается не так быстро, как они ожидали, но, разумеется, победа остается за ними.
Она наконец затихает, в легких не остается воздуха, и только тогда герцог и советник поднимаются, помогают друг другу отряхнуться, одергивают одежду в кромешной тьме. Бальдассаре промакивает лоб платком у камина, Альфонсо приглаживает растрепавшиеся волосы, поправляет рукава. Затем мужчины уходят, закрыв за собой дверь. Только за стенами спальни Бальдассаре вновь зажигает свечу в фонаре. Сообщники не произносят ни звука.
Наутро служанка из кухни находит герцогиню мертвой в постели и поднимает тревогу. Великий ужас наполняет fortezza. Никто из загородных слуг, кроме тех, кто подавал ужин, не видел герцогиню, и все же они плачут и скорбят над юным телом, изуродованным смертельным припадком. Ее лицо обезображено до крайности. Покойницу причесывают и переодевают, а после о событии сообщают герцогу.
Герцог запирается в своих покоях, убитый горем. «Несчастный!» — перешептываются слуги. Он пускает к себе только верного consigliere и кузена, Бальдассаре. Печальные вести отправляют в Феррару, Папе и во Флоренцию. Безутешный герцог Альфонсо сам сообщает родителям умершей ужасные вести. Кратковременная болезнь, лихорадка, припадок, воспаление мозга, сырой воздух… Он опустошен и молит Бога об упокоении ее души.
К fortezza привозят гроб. Никто не хочет укладывать тело, до того исказила его болезнь. «И не узнать», — сплетничают слуги. Ничего общего с дамой на портрете в обеденном зале. Неприятную обязанность предлагают поручить камеристкам, но увы: Бальдассаре сообщает, что обе остались в Ферраре. В конце концов, три деревенские жительницы соглашаются подготовить тело в обеденном зале, под взглядом портрета; смотреть на него теперь очень тяжело, признаются женщины.
После тело герцогини отправляют в Феррару в сопровождении герцога и его людей. Они едут позади, понуро опустив головы.
Тем временем из Флоренции прибывает эмиссар и придворный лекарь. Великий герцог отправил их со срочным поручением: выяснить, почему и как умерла его дочь, причем столь внезапно и неожиданно, кого винить в смерти здоровой молодой женщины. Лекарь отправляет Альфонсо Второму, герцогу Феррары, письмо с печатью великого герцога Тосканы: он требует разрешения на осмотр трупа. Лекарь с эмиссаром приезжают тем же путем, каким отправилась к мужу сама Лукреция меньше года назад, — через Апениннские горы и по ложу долины.
Герцог Альфонсо не принимает их самолично, однако посылает верного советника Леонелло Бальдассаре встретить феррарских придворных. Бальдассаре просит у гостей прощения: к сожалению, горечь утраты вынуждает герцога не выходить из покоев.
Флорентийского лекаря и эмиссара провожают в зал для приемов, где стоит гроб. Еще с порога в нос ударяет нестерпимый запах — сладковатый, даже приторный дух разложения. Слуга виновато объясняет: со дня смерти герцогини прошло уже пять дней. В гробу лежит вздутое, почерневшее тело неопределенного цвета, покрытое синяками. В нем осталось мало человеческого — просто гниющая плоть, закутанная в розовое шелковое платье с темным узором из золотой парчи. Лекарь осматривает четки герцогини, скрученные в руках, синюшный оттенок ногтей, косу тусклых волос — удивительно, как волосы теряют цвет после смерти! В локонах герцогини почти не осталось рыжины, впрочем, лекарь уже сталкивался с подобным явлением. За его спиной эмиссара украдкой рвет в носовой платок.
Они покинут castello не без тайного содрогания. Вернувшись, сообщат об увиденном великому герцогу, опустив часть о гниении, запахе и рвоте. «Ее светлость выглядела очень спокойной, — вместо этого скажут они, — и умиротворенной. Ее надлежащим образом подготовили, она была очень красива и до последней минуты оставалась настоящей герцогиней».
Мессу служат во Флоренции, в церкви Санта-Мария-Новелла, где Лукрецию венчали. Ее мать рыдает всю церемонию, а отец крепко сжимает руку супруги; лицо его бледнее мела, зубы сжаты.
Лукрецию провожают в последний путь с большой торжественностью; гроб переносят из castello в монастырь на юге города. Горожане стекаются на улицы, бросают цветы, плачут, сочувственно глядят на лицо герцога: он так мужественно переносит свое горе! Герцогиню предают земле в фамильном склепе под мраморной плитой с гравировкой — наполовину гербом отца, наполовину — мужа. Надпись гласит: «Жена Альфонсо, герцога Феррары».
Супружеский портрет висит в покоях герцога, неизменно накрытый тяжелой бархатной тканью. Никому не позволено отдергивать полог и смотреть на лицо герцогини без особого разрешения. Он прячет ее здесь, вдали от посторонних глаз. Альфонсо на несколько месяцев отрешается от двора и мира, что вполне естественно после такой утраты. Его не видно ни в castello, ни в городе. Одни говорят, он уехал в загородную виллу; другие уверены, что герцог заперся в покоях в castello и проводит дни, грустно рассматривая портрет усопшей жены.
Потом один горожанин замечает на дорожке у башни знакомый силуэт — царственный и грозный. Герцог оглядывает провинцию, держа руки за спиной. В часовне возобновляются ежедневные репетиции evirati. В конце весны, ранними утрами, слышен стук копыт по земле: властитель с приближенными отправляется на прогулку верхом.
Когда лето подходит к концу, по улицам Феррары расползаются слухи, что герцог начал переговоры с австрийским семейством: он просит руки их дочери.
Лукреция, герцогиня Феррары, закрывает за собой маленькую потайную дверь fortezza. Ступает на скованную изморозью траву и пускается бегом. Земля под ногами неровная, кругом ямы, кочки и болотца, но Лукреция, то и дело спотыкаясь, упорно продолжает путь, хотя мышцы ног ослабли и ноют после болезни.
Хоть бы Джакопо ждал ее среди деревьев! Он придет, должен прийти! Он ведь обещал, так же, как обещал помочь с замком.
Джакопо с Лукрецией поедут проселочными дорогами на северо-восток, в город, где земля и море встречаются и смешиваются друг с другом, где улицы — вода, где дома будто плывут на рулонах бирюзовых шелков, где Лукреция научится управлять лодкой, стоя на корме: юбки подняты до колен, обе руки сжимают мокрое весло, а мимо вереницей проносятся дома. Там окна превращаются в бесконечную череду рамок для портретов, люди смотрят друг на друга, сажают детей на плечи, ставят в печь горшки, встряхивают одежду, живут, едят, любят, разговаривают.
Позже — намного позже — весь город повально увлечется работами одного художника. Его картины настолько маленькие, что помещаются в ладонь, и некоторые коллекционеры предпочитают не вешать их на стену, а держать на столе, чтобы гости могли передавать их из рук в руки и делиться мнением. Почти на всех изображены животные: норки, кошки и обезьяны, императорские павлины, пятнистые гепарды, ягнята, рогатый скот и голуби. Краска, хотя и нанесена тонко, по некой любопытной причине кажется многослойной и чуть возвышается над поверхностью, на которой кропотливо оставила мазки любящая рука художника. Коллекционеры этих картин — богачи, развратники, аристократы, правители, дворяне и дворянки, придворные, банкиры, принцы, куртизанки — шепчутся между собой: под верхним слоем скрыты другие картины, иногда их много, а иногда — ни одной. Только отважнейшие покупатели (или скорее, наиболее опрометчивые) рискуют обмакнуть кусочек ткани в смесь уксуса и алкоголя и тереть работу, растворять цвета, смывать радужные крылья и охряные клювы, блестящие перья или глянцевитую умбру шкур, чуткий и осмысленный взгляд звериных глаз. Те, кто не боится рискнуть, открывают под этими картинами совсем другие: классические изображения воюющих божеств, невиданные пейзажи, триптихи портретов, герои которых смотрят покупателям прямо в глаза. И всегда на этих миниатюрах есть лицо одной и той же девушки — иногда в толпе, а иногда среди дриад на заднем плане. Частенько она смотрит сбоку загадочным, таинственным взглядом. Она похожа на человека, который сам до конца не верит своему счастью — быть то нимфой в теплом океане, то крестьянкой с корзиной фруктов. А некоторые, тоже в поисках скрытых изображений, не найдут под слоем краски ничего, только аккуратно отшлифованную шелковистую tavola.
Глядите. Вот она, Лукреция — маленькая фигурка в углу пейзажа, на котором изображена река и грозное каменное здание.
Она бежит по открытой местности в темную зимнюю ночь, из последних сил мчится навстречу милосердным кронам деревьев.
Примечание автора
Принято считать, что вдохновением для стихотворения Роберта Браунинга «Моя последняя герцогиня» послужил Альфонсо II д’Эсте, герцог Феррары. Мой же роман вдохновлен Лукрецией, дочерью Козимо I Медичи, женой Альфонсо.
Я постаралась использовать все доступные сведения о ее короткой жизни, а в некоторых местах допустила художественный вымысел.
Лукреция родилась в Палаццо Веккьо. В 1550-м, когда ей было пять, семья Великого герцога Тосканского Козимо I переехала на противоположный берег, в Палаццо Питти. Для связности повествования это событие в романе опущено, и семья остается на прежнем месте.
Настоящая Лукреция вышла замуж за Альфонсо II в мае 1558-го, когда ей было тринадцать. Отец дал за нее баснословное приданое в двести тысяч золотых скудо, ныне равное примерно пятидесяти миллионам фунтов. Лукреция оставалась во Флоренции еще два года, пока Альфонсо возглавлял военные походы во имя Генриха II, короля Франции. После смерти отца в 1559-м Альфонсо стал герцогом, вернулся в Феррару и летом 1560-го забрал Лукрецию из Флоренции к себе. Я объединила свадьбу и отъезд, поэтому в романе Лукреция выходит замуж и отправляется в Феррару сразу же, в возрасте пятнадцати лет.
Великий герцог Козимо I действительно держал в подвале Палаццо Веккьо экзотических животных, а улица за зверинцем до сих пор зовется «Via dei Leoni», то есть «Улица львов». Многие биографы предполагают, что Элеонора настояла на переезде в Палаццо Питти из-за запаха животных. На эпизод со львами и тиграми меня вдохновила история о смотрителе Королевского зверинца в лондонском Тауэре — там сотрудник тоже забыл закрыть дверь между вольерами.
Двоих сестер Альфонсо, оставшихся в Ферраре после отъезда матери, звали не Элизабеттой и Нунциатой, как у меня, а Лукрецией и Элеонорой. Я позволила себе небольшую художественную вольность и дала им другие имена, дабы избежать путаницы.
Роман между Элизабеттой (Лукрецией) и Эрколе Контрари, капитаном гвардии, подошел к трагической развязке не в 1561-м, а в 1575 году.
На момент написания этой книги единственный портрет Лукреции в Европе хранится в Палатинской галерее, в двух улицах от Дома Гуиди — флорентийской резиденции Роберта Браунинга. Портрет размером примерно с книгу был написан маслом по приказу родителей Лукреции вскоре после ее отъезда в Феррару. Авторство приписывается мастерской художника Аньоло Бронзино. Лукреция изображена на темном фоне, в украшениях семьи Медичи и д’Эсте. На ее лице слегка растерянное, встревоженное выражение. В архивах Галереи Уффици есть другие версии этого же портрета, а в Художественном музее Северной Каролины хранится более крупная (и, на мой взгляд, не столь лестная) вариация, написанная Алессандро Аллори.
Насколько мне известно, портрет Лукреции из стихотворения Браунинга полностью вымышлен. Если таковой все же отыщется, я буду очень рада узнать о нем побольше.
В заключение расскажу о других случаях женоубийства в семье Лукреции. Ее единственная выжившая сестра, Изабелла Ромола Медичи, внезапно умерла в тридцать четыре года при весьма подозрительных обстоятельствах. В охотничий сезон 1575 года она отправилась с мужем на загородную виллу в коммуне Черрето-Гвиди. Согласно официальным записям Франческо Медичи — брата Изабеллы и на тот момент Великого герцога Тосканы — смерть произошла «…рано утром, когда Изабелла мыла волосы…[Муж] нашел ее на коленях, уже мертвой». Естественно, существует много догадок о причине ее смерти. Эпизод в конце романа, где Альфонсо и Леонелло проводят свой жестокий ритуал в fortezza и в итоге оставляют изуродованный труп, взят из версии Эрколе Кортиле — при флорентийском дворе тот был шпионом самого Альфонсо II, герцога Феррары. Кортиле порасспрашивал очевидцев и написал герцогу следующее: «Синьору Изабеллу задушили в полдень. Несчастная была в постели, когда ее позвал синьор Паоло… Под кроватью прятался мальтийский рыцарь Массимо, он и помог убить госпожу».
Всего через несколько дней после смерти Изабеллы ее двоюродная сестра Дианора (жена младшего Медичи, Пьетро) также погибла загадочной смертью в загородной вилле Кафаджоло. После Пьетро написал брату Франческо пугающе хладнокровное письмо: «Вчера в семь вечера с моей женой произошел несчастный случай, она умерла. Теперь можете быть спокойны, ваше высочество. Прошу, напишите, приехать мне или остаться». Официальная версия гласила, что Дианора задохнулась во сне. На сей раз Эрколе Кортиле был более прямолинеен в своем письме Альфонсо II: «Синьор Пьетро задушил ее собачьим ошейником… и наконец, после долгой борьбы, она скончалась. На пальцах синьора Пьетро осталось доказательство — два следа от укусов синьоры».
Похоже, Изабелла и Дианора были убиты с молчаливого согласия их семей. Ни Паоло Орсини (мужа Изабеллы), ни Пьетро Медичи (супруга Дианоры) не призвали к ответу за внезапную и необъяснимую смерть жен.
Альфонсо II, герцог Феррары, женился еще дважды.
Ни один брак не принес наследников.
Благодарности
Спасибо Мэри-Энн Харрингтон, Виктории Хоббс, Джордану Па́влину, Джорджиане Мур, Аманде Беттс, Кристи Флетчер, Регану Артуру, Джози Колз, Эми Перкинс, Йети Ламбрегтз, Фергусу Эдмундсону, Калли Конвэй, Хейзел Орми, Луизе Ротвелл, Тине Паул, Джесси Гетцингер-Холл, Ребекке Бадер, Элейн Иган, Крису Кит-Райту, Дженнифер Дойл, Мари Эванс, Александре МакНиколл, Преме Радж, Табате Леггет и Джессике Ли.
Спасибо Беатрисе Монти делла Корте и писательской резиденции «Санта Маддалена». Спасибо Эмме Паоли, Анне Кастелли и Катерине Тоски за то, что помогли отыскать портрет Лукреции во флорентийском музее. Спасибо персоналу Палаццо Веккьо, замка Эстенсе, музея «Белригуардо» и хранителям монастыря Тела Господня в городе Феррара. Они любезно позволили мне посетить место захоронения Лукреции, несмотря на коронавирусные ограничения.
Спасибо доктору Джилл Берк, историку Эдинбургского университета, за неоценимую помощь. Спасибо Карлотте Моро из Сент-Эндрюсского университета за ее энтузиазм и советы. Спасибо Пенни Рейд за разговоры об искусстве и портретной живописи. Разумеется, все ошибки в изображении искусства и жизни в эпоху Возрождения — мои.
Благодарю авторов следующих книг: «How To Do It: Guides to Good Living for Renaissance Italians» (Rudolph M. Bell. University of Chicago Press, 1999); «How to be a Renaissance Woman» (Jill Burke. Profile Books, 2023); «Art of the Italian Renaissance Courts» (Alison Cole. Everyman Art Library, 1995); «The Rise and Fall of the House of Medici» (Christopher Hibbert. Penguin, 1974); «Medici Women: Portraits of Power, Love, and Betrayal» (Gabrielle Langdon. University of Toronto Press, 2006); «Gli Ornamenti delle Donne» (Dr Giovanni Marinello (опубликована в Венеции в 1562, переведена Jill Burke)); «Isabella de’ Medici» (Caroline P. Murphy. Faber & Faber, 2008); «Art in Renaissance Italy» (John T. Paoletti, Gary M. Radke. Laurence King, 2011); «The Medici: Godfathers of the Renaissance» (Paul Strathern. Vintage, 2007); «Women in Italian Renaissance Art» (Paola Tinagli. Manchester University Press, 1997). За ошибки и вымысел ответственна я.
Выражаю особую благодарность Дж. А., И. З. и С. С.
И наконец, спасибо Уиллу Сатклиффу за все.
