Системное мышление 2024. Том 2
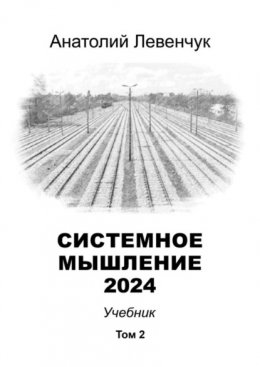
© Анатолий Левенчук, 2024
ISBN 978-5-0064-2855-3 (т. 2)
ISBN 978-5-0064-2854-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
7. Системные уровни
Не всё системы, что ими называют
Все самые разные определения системы сходятся на том, что система как целое состоит из взаимодействующих частей, которые в своём взаимодействии дают эмерджентность/системный эффект, т.е. при взаимодействии части системы как целое проявляют новые (появившиеся, emergent) свойства, которых нет у частей системы. Грубо говоря, шестерёнки и пружинки в механических настенных часах имеют одни свойства (например, шестерёнки – точность изготовления, и износостойкость, пружинки – упругость), а вот сами эти часы как целое из частей-шестерёнок-и-пружинок – совершенно другие свойства (например, точность хода, габариты), а вот интерьер дома, как целое из часов, стен, мебели, домашней утвари и украшений – третьи (например, удобство прохода, освещение). Эмерджентность – это как раз то, что «точность хода» emerge при переходе внимания от частей часов к целым часам, а удобство прохода emerge при переходе внимания от часов к интерьеру в целом. Это важно для разделения труда: точностью изготовления шестерёнок обычно занимаются одни люди (пишём «люди» для простоты, правильно было бы писать «агенты») с высокой степенью мастерства в методе точного изготовления металлических деталей, точностью хода – совершенно другие люди, инженеры-часовщики, а вот удобством прохода в каком-то интерьере – третьи, художники интерьеров.
Нюансы могут различаться, но вот сборка из частей (мы тут говорим не о делении на части, а о сборке, отношение composition), взаимодействие собираемых частей и вытекающая из этого эмерджентность/системный эффект присутствует во всех школах системного мышления. В разных школах системного мышлении есть две традиции трактовки отношений части и целого: инженерная, где части могут быть только физическими объектами, и общефилософская, где части могут быть любой природы – и физическими, и ментальными объектами.
Наша трактовка в курсе – инженерная, материальная/физическая, где речь идёт о частях системы как физических объектах в пространстве-времени. Мы тут более-менее придерживаемся положений инженерного онтологического стандарта ISO 15926—2:2003. Часть может быть и ролевым объектом, но только в тот момент, когда роль этого объекта-части играет какой-то конструктивный объект или даже группа конструктивов. Частью может быть место в пространстве – но в физическом пространстве, а не «ментальном»/математическом.
Мы не рекомендуем считать частями системы процессы::поведение, но у самих частей системы и у системы в целом обязательно есть поведение: изменение состояния частей и системы в целом в ходе взаимодействия частей. Поведение шестерёнок в часах – они вращаются и передают движение, поведение пружинок – они сжимаются и распрямляются, запасая и отдавая энергию, поведение часов – они «идут» и показывают время, поведение интерьера – он проявляет удобство для нахождения в нём антропоморфных агентов (людей и роботов) и хорошо освещён как в светлое, так и в тёмное время суток. Эти изменения состояния (сборка системы из частей в ходе создания, какие-то изменения частей в ходе использования) и есть «поведение», так что мы всегда привязываем рассмотрение процессов к физическому миру: процессы представлены участвующими в этих изменениях состояний частями. Если хочется показать процесс «падение яблока», то нужно представить его как яблоко, участок Земли под яблоком и изменение состояния яблока (его относительную скорость относительно участка Земли и расстояние между яблоком и Землёй при вертикальном падении). Всё материально.
В материальном/физическом варианте для абстрактных/идеальных/математических объектов (классов, типов, множеств и т.д.) частей нет, ибо эти части не физичны: для них не существует объёма в физическом мире, который они занимают, поэтому непонятно, что там из чего состоит. Например, нельзя проконтролировать, что все «математические молекулы» как части входят в число «математической клетки» или «математического организма», ибо нельзя трактовать часть как часть объема пространства-времени, занимаемого целым.
Мы отрицаем системное мышление с использованием понятия «часть» для нефизических/математических/ментальных объектов (например, описаний: разговор о частях картин, частях текстов), ибо будет полностью непонятным, что такое дающее системный эффект «взаимодействие» для частей как нефизических объектов. Чаще всего тут можно услышать о каком-то алгоритме, который производит вычисления, задействующие одновременно несколько нефизических объектов – но сами-то эти объекты не взаимодействуют, разговор перемещается на вычислитель с его алгоритмом и методы его работы! Это конструктивизм в математике, переход на операции создания объектов вместо обсуждения отношений объектов. Мы в нашей версии системного мышления следуем пока не этому ходу на конструктивную математику, но инженерной традиции исключать математические объекты из рассмотрения в качестве полноценных систем.
Тут надо оговориться, что всё-таки идут исследования ровно по этой линии конструктивизма в математике: если включить в рассмотрение не сами ментальные объекты, а компьютеры или их обобщение – создателей/constructors, работающие с описаниями по каким-то алгоритмам, а сами описания выражать как операции по построению этих описаний (конструктивизм в математике), то как-то ещё можно подходить к системному мышлению для ментальных/математических объектах. Но это самый-самый фронтир, в инженерных и менеджерских методах работы для такого подхода пока применений нет, а мы чуть подробней об этом расскажем дальше в курсе и дадим литературу – для самых любознательных. Пока же оставим: системы всегда физичны, всегда материальны.
Эта «физическая» (но и ролевая, и конструктивная, и пространственная, и т. д. – все они базируются в конечном итоге на физичности системы и её частей) трактовка деления системы на части и есть наш вариант системного подхода. Выбор именно этой трактовки делается в силу критерия адекватности мышления: наше мышление о системах всегда согласовано с физическим миром.
Наши проекты по созданию и развитию систем всегда как-то изменяют физический мир, они не фантазийны. Рассуждения о системах тем самым заземлены/grounded, то есть все абстракции в конечном итоге имеют основания в ситуациях в физическом мире, это не чистые «игры разума», физически невозможные ситуации отслеживаются и убираются из рассуждений. Если в физическом мире ничего не происходит в результате наших проектов, то мы такими проектами не занимаемся: наша мысль всегда опирается в конечном итоге на физический мир.
Во многих других трактовках системного подхода (например, в классической и порядком устаревшей «общей теории систем») слово «часть» используется неформально, нестрого, и «целое» собирается из самых разных объектов, в том числе абстрактных и плохо определяемых в части их присутствия в физическом мире: физических предметов (тоже, как у нас!), но также и слов, правил, настроений, намерений – всего чего угодно. В нашем варианте системного подхода мы не будем считать нефизические/абстрактные объекты системами и частями систем. Описания живут в мире понятий/математическом мире, они не системы.
Тем самым мы не признаём системами-из-системного-подхода разные «системы» знаний/правил – корпуса знаний, наборы правил и даже система уравнений как «набор закономерностей». Система Станиславского, система Монтессори, система Платона, политическая система, система «минус 60» (так называют один из наборов правил для похудения), законодательная система – это всё некоторые абстрактные целые, состоящие из каких-то абстрактных частей-элементов (знаний, правил, иногда даже подразумеваемых/implicit/неявных/tacit – не выраженных в знаках на каком-то носителе, т.е. не документированных) – все эти «системы» (в кавычках для нашего варианта системного подхода!) не занимают места в пространстве-времени. Это не настоящие системы из системного подхода, они только называются словом «система», которое используется в другом словарном значении. Очень часто люди используют слово «система» просто для того, чтобы указать, что они как-то думали, когда собирали какие-то части этих знаний, как-то согласовывали эти знания, правила, уравнения друг с другом, наводили какую-то структуру. Например, разбивали все правила на отдельные группы правил, что-то включали, что-то не включали – даже и (непространственная!) «граница» есть, отделяющая «включённое» от «не включённого». Но слово-термин «часть» для такого употребления слова «система» в других (не из системного подхода) словарных значениях тут не обозначает физического предмета, она не занимает объём/место в пространстве-времени, сами эти «части» обычно не составляют иерархии по отношению «часть-целое» между физическими предметами.
Не системы – это и алгоритмы, в том числе алгоритмы/знания/теории/дисциплины методов работы»::«обобщённые алгоритмы для constructor», а также «обобщённые алгоритмы для выполняемых создателем работ» (алгоритмы/знания методов, в которые подставлены материальные/физические типы преобразуемого материала и задействование оборудования для работы с этими материалами). Все такие «алгоритмы» – для универсальных (полных по Тьюрингу) вычислителей/компьютеров/computers (физичных, хранящих состояние на материальном носителе!) и универсальных преобразователей-создателей/constructor (которые физичны!), действующих по немного расширенному понятию алгоритма (то есть описанию метода работы), как это описано в constructor theory. Настоящие/true системы тут – это
• универсальные (по Тьюрингу) компьютеры/вычислители/computers (классические, квантовые, нейроморфные, оптические и т.д.), «исполняющие алгоритмы»/«следующие теориям»/«делающие вывод по имеющимся знаниям». Если алгоритмов несколько и разговор идёт о «системах алгоритмов», то это «ненастоящие системы из системного подхода», а просто слово, обозначающее продуманный набор каких-то описаний (примерно так же, как речь идёт о «системах уравнений»).
• универсальные создатели/constructors (станки, роботы, люди, организации из них всех), которые выполняют работу по каким-то алгоритмам/знаниям/объяснениям, описанным в учебниках/регламентах/инструкциях/уложениям по методам этой работы (часто для неодушевлённых конструкторов их называют не методами/практиками/культурами работы, а просто функциями – токарный станок выполняет функцию токарной обработки детали, но вот агент-токарь – следует методам токарной обработки деталей). Если тут говорят о «системе методов работы»::«набор поведений» или «системе описаний»::информация, то это «ненастоящие системы из системного подхода», тут слово «система» используется тоже как отсылка к продуманному набору описаний.
Ещё один класс систем-не-из-системного-подхода в силу их абстрактности (неприсутствия в мире, отсутствия занимаемого места в физическом пространстве-времени) – это систематики/таксономии. В систематиках/таксономиях речь идёт о классификаторах: классах классов (множества множеств), которые в конечном итоге классифицируют в чём-то похожие системы (физические и абстрактные). Это иерархии, которые строятся с использованием двух видов отношений: классификации (classification, «подведение под класс», включение элементов множества в множество) и специализации (specialization, род-вид, подмножества во множестве). Классификатор Ламарка (система Ламарка) состоит из классов в чём-то похожих животных, универсальный десятичный классификатор (УДК, система десятичной классификации) классифицирует книги, объединяя в своих классах чем-то похожие по содержанию книги, Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012—93 (классификатор ЕСКД, единой системы конструкторской документации, которая сама система знаний/правил) – они все не настоящие системы-индивиды, они лишь классификаторы для классов систем (физических, как мы их понимаем в нашем варианте системного подхода) и классов абстрактных объектов. При этом классификаторы удобны тем, что дают какие-то имена для систем, то есть при встрече классификатора полезным бывает при поиске систем смотреть не на сам классификатор, а на классифицируемые им физические объекты. И легко потом разобраться, что классификатор всего лишь описывает объект, у которого может быть много описаний. «Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет»: один и тот же объект может быть легко отклассифицирован разными классификаторами, то есть описан по-разному, иметь разные имена, принадлежать разным классам/множествам/таксонам/типам в зависимости от целей классификации. В любом случае, решить эту проблему можно, только обсуждая систему и отличая её обсуждение от обсуждения классификатора. «Спор о терминах бесперспективен», избегайте его, вопросы «является ли X объектом типа Y» интересны только когда это какой-то классификатор, из результатов классификации по которому будут материальные следствия, обычно это государством утверждённый классификатор, например классификатор болезней, из которого будет следовать ваша инвалидность по классификатору инвалидности, а из отнесения вас к какой-то группе инвалидности будет следовать получение или неполучение пенсии. От отнесения или неотнесения какого-то подвида тигра к виду тигров, по большому счёту, ничего не зависит. Но если это в законодательстве прописанный вид из Красной Книги, то последствия понятны: штрафы для охотников.
Классификатор видов деятельности (по сути, это классификатор по видам методов работы) может быть важен, если какие-то виды деятельности надо прописать в уставе и несоблюдение влечёт за собой штраф, или вид деятельности лицензируется, и на выходе опять штраф – я думаю, вы поняли идею. Классификаторов, отнесение к которым ведёт к каким-то административным последствиям, довольно много1. В любых других случаях систематики интересны для примерного обозначения темы разговора, но могут быть сменены в любой момент, системы можно описывать самыми различными способами, они от смены способа описания сами не меняются: сто разных фотоаппаратов и сто разных художников дадут на выходе 200 изображений Эйфелевой башни, а она останется прежней. Систематики, которые используются для проектирования – это уже интересней, но всё равно в любой момент можно иметь несколько таких систематик.
Так что систематики, «системы классификации», таксономии интересны как наводки на то, что они классифицируют какие-то реальные/материальные/физические системы. Как всегда: если при поиске систем вам встретилось «описание», ищите то, что описано – системы могут быть там. Но могут и не быть, проверяйте, описывать можно и описания. Классификаторы как систематики легко могут классифицировать и не-системы, а какие-нибудь описания (другие классификаторы, например).
Так что не всё системы::«тип из мета-мета-модели в части системного подхода»/«тип из онтики системного подхода», что называют системой::термин/слово/имя. И не всё не-системы::тип, что системой::термин/слово/имя не называют! Скажем, бытовой холодильник мало кто назовёт «системой охлаждения пищи» (а не бытовой холодильник – запросто), но в системном подходе это явно будет «бытовой холодильник»::система. Тип «система» какому-то физическому объекту даёт создатель в какой-то роли, которому зачем-то потребовалась эта система и он выделил её своим вниманием из пестроты самых разных физических объектов окружающего мира.
Системное разбиение
Системы одновременно являются целым для каких-то частей внутри них (подсистем) и частями для какой-то объемлющей их целой системы (надсистемы). Каждая подсистема тоже является целой для своих уже под-подсистем (относительно начальной системы), а каждая надсистема – часть для над-надсистемы. Тем самым можно говорить об иерархиях системного разбиения/breakdown/decomposition на части сверху вниз, или они же иерархии составления (composition) системного целого снизу вверх. Если какую-то систему мы пока не планируем бить дальше на части, то её называют «элемент системы», подчёркивая, что где-то есть целая система, для которой эта подсистема является элементом::«часть, далее не разбивающаяся на части».
Уровни в иерархиях системного разбиения (иерархиях/«графах-деревьях», выстроенных по отношению композиции/«часть-целое») называются системными уровнями. Системные уровни выделяются в физическом мире вниманием, для их выделения не надо «разбивать» систему на части! Если вы разобьёте физически на функциональные части-органы, например, живой/функционирующий/работающий организм – он будет после этого мёртвый! Поэтому системное разбиение выполняется только вниманием! Ничего разбирать-собирать не надо! Но вот переходить вниманием от более крупных частей к более мелким, и обратно – надо. Отслеживать, что в иерархию по отношению «часть-целое» не попало какое-нибудь иное отношение (скажем, отношение классификации или специализации) – надо. Отслеживать, что вы случайно не включили в физическое разбиение на части какой-нибудь ментальный объект – это тоже надо.
Классический пример системного разбиения – это пришедшее из биологии разделение на системные уровни (от мелких к крупным) атомов-молекул-клеток-органов-организмов-популяции-биоценоза-биосферы. При этом в биологии кроме названия «системные уровни» используют названия «уровни организации», «эволюционные уровни», «уровни сложности жизни».
Вы видите, что системы обозначены на схеме системной иерархии кружочками, а стрелки-ромбики традиционно обозначают отношение состава, где целое – со стороны ромбика на стрелочке. На рисунке видно, что клетки состоят из молекул, но клетки сами части органов. Органы состоят из клеток, но органы сами части организмов.
Вот это слово «состоят» (composed by) не означает, что вы можете разбить органы на клетки, а потом вновь составить из этих клеток органы. Нет, это «состоят» относится к тому, что вы вашим вниманием выделяете в работающем организме разные органы, в органах вашим вниманием выделяете клетки, но можете пройтись вниманием и в обратном порядке: в работающем организме вниманием объединить клетки в органы, а органы в организм. Ничего не нужно физически разбирать, системные уровни – они только для управления вниманием в ситуациях со множеством объектов, которые состоят из других объектов и сами части ещё каких-то объектов. Системные уровни определяются работой внимания (о которой агенты договариваются в своих проектах, чтобы скоординировать свою работу), они не «объективны», то есть самые разные агенты вдруг будут обнаруживать их одни и те же в самых разных ситуациях, самых разных проектах! С другой стороны, системы::«объекты каких-то системных уровней» выбираются не случайно: в физическом мире системы обычно стабильны, они не так легко поддаются действию энтропии, их не так-то легко разрушить. И кроме всего прочего, системные уровни часто культурно-обусловлены и эта культурная обусловленность как-то ещё и поддерживается языком. То, что «смартфон состоит из экрана, корпуса, камер, аккумулятора и какой-то электронной начинки» – это уже общекультурное знание, о нём не надо специально договариваться сегодня (а вот во времена создания первых смартфонов – надо было). Но вот что именно будет относиться к корпусу, а что уже к экрану (скажем, защитное стекло экрана – это часть экрана, или это часть корпуса?), что войдёт в состав камер (чип, поддерживающий исключительно работу камер – это часть камер, или «какая-то электронная начинка? а кольца крепления объективов на корпусе – это часть камер, или часть корпуса?) – это уже будет зависеть от решений конкретных команд проектов создания и развития смартфонов даже сегодня.
На схеме не показан системный уровень биоценоза/эко-системы, а потом ещё биосферы (они выше уровня популяций). Есть исследования, которые показывают, что рост уровней сложности неизбежен, то есть неизбежно объединение частей во всё более и более сложно устроенные целые на многих и многих системных уровнях2.
На схеме также не показаны и уровни атомов и элементарных частиц (они ниже уровня молекул), но это не означает, что их нет: посылка открытого мира3, «что не сказано в нашем тексте, это просто не сказано, но это не значит, что этого нет». Вот так и нужно читать системные диаграммы: любой верхний уровень на них не самый верхний (всегда можно найти какую-то надсистему, в конечном итоге все системы являются частью вселенной или в некоторых физических теориях – частью мультиверса как бесконечного множества вселенных). Молекулы показаны на этой диаграмме элементами (далее неделимыми подсистемами) клеток, но это тоже подсистемы, их неделимость условна, она просто не рассматривается в тех деятельностях, для которых была составлена эта схема. Так что и снизу всегда можно найти какие-то части вроде как «элементов». Это для текущего проекта внизу системной иерархии могут быть далее неделимые «элементы», но в пределе деление идёт до уровня «ниже кварков», то есть тех мельчайших физических объектов, из которых состоят кварки (эти объекты самые разные в разных физических теориях).
Набор системных уровней, на каких рассматривается система, всегда зависит от проекта. Возможно, в другом проекте из этого же разбиения будет взят какой-то другой набор уровней. В одном проекте вы увидите подробное разбиение дома на отдельные стены, крышу, фундамент, коммуникации, а в другом проекте – разбиение нескольких городских кварталов на дома, но вот в домах уже вы не увидите стен, крыш, фундамента, коммуникаций, ибо «элементы» в этом проекте будут – дома. В третьем проекте (скажем, проект девелоперской компании) будет и подробное описание «городских кварталов»::«системный уровень», включая дома, скамейки, отдельные деревья, и «дома»::«системный уровень» будут разбиты на какие-то части. Для девелоперской компании важно не только расположить дома::подсистемы в «городских кварталах»::системы, но и построить их, а для этого спроектировать их устройство из подподсистем (и дальше подсистем этих подподсистем – до систем самого мелкого уровня, на котором ведётся проектирование и изготовление домов, то есть до уровня дощечек, гвоздей, кирпичей, электрических розеток и т.д.. Но вот уже детали внутри электрической розетки в ходе проектирования дома вряд ли будут учтены – но будут интересовать конструкторское бюро и завод, который выпустит электрические розетки для дома).
В соответствии с нашим вариантом системного подхода мы будем требовать, чтобы системное разбиение было полностью физично/материально: каждый системный уровень выделялся по отношению часть-целое между материальными предметами, то есть занимающими какие-то места/объемы в пространстве-времени. Студентам нужно запомнить: если в их системном разбиении появляются нематериальные части, то в системном мышлении это как 2*2=5, и за такую ошибку они сразу получают два балла и отправляются на пересдачу. Мы не можем советовать, чтобы взрослых за такое увольняли с работы, но очень близки к такому совету.
Внимания должно хватать, чтобы отслеживать физичность отношений часть-целое на несколько уровней вниз и вверх. Если внимания на такое отслеживание не хватает (с учётом того, что это внимание поддержано записями – не нужно всё держать в голове!), то с этим нужно что-то делать, например, перепройти курс «Моделирование и собранность» (честно, выполняя задания). Работать с отсутствующим вниманием нельзя, улетать неосознанно мыслью в нефизический мир или путать что там часть, а что целое – это опасно для проекта.
Многоуровневость системного разбиения принципиальна: на самом верхнем уровне любого такого разбиения потенциально будет вселенная, на самом нижнем уровне – суперструны, но вот эти крайности мало кого интересуют, поэтому системное разбиение делается для какого-то диапазона размеров физических объектов. Для деятельности людей крайне важен очень маленький диапазон, который как-то соразмерен размеру самих людей. Эти не большие и не маленькие в космических масштабах и масштабах микромира системы служат предметом деятельности – чаще всего это от нескольких километров (например, строительные проекты: небоскрёбы, дамбы и мосты) до нескольких нанометров (транзисторы на компьютерных чипах). Вот с предметами/системами в этом небольшом диапазоне размеров чаще всего взаимодействуют люди (с их инструментами! Необязательно руками!). В космофизике и физике микромира есть очень много чего интересного за пределами этих размеров, но людям пока удобней менять мир в этих пределах, и не выходить за них.
Явное указание системного уровня важно для управления вниманием. Формально, дотронувшись до цветка у растения (уровень «органы» в системном разбиении растительных организмов) я дотрагиваюсь и до вселенной (цветок ведь часть вселенной!), и дотрагиваюсь до элементарных частиц (в цветке они точно есть!). Ну, или дотрагиваюсь и до всего растения, и до клеток растения. Непонятно, до чего я дотронулся, что является предметом моего внимания! Поэтому требуется явно выделить ту систему::«объект внимания», который как-то позволит мне определить масштаб «дотрагивания». В нашем примере это будет – «цветок».
Когда я машу рукой, то я машу всеми молекулами руки – но неправильно ведь говорить о молекулах, когда говорим о размахивании рукой? И неправильно «махать телом» (слишком большой объект). Поэтому «машу рукой» – машу системой, находящей на много системных уровней выше, чем молекулы, но всё-таки ниже уровня целого тела.
Системные уровни принципиальны, они отражают саму суть системного подхода – на каждом системном уровне в силу эмерджентности/системного эффекта появляются новые свойства, поэтому чаще всего обсуждения ведутся отдельно для отдельных системных уровней агентами, которые разбираются со свойствами, проявляемыми системами на этом системном уровне, а также свойствами надсистем, которые получаются из свойств систем текущего уровня. Грубо говоря, клетки обсуждает микробиолог, организм человека в целом – медик, коллектив людей – менеджер. Отдельное подробное обсуждение на каждом системном уровне существенно упрощает обсуждение сложных систем. Если вы обсуждаете предприятие, то обсуждайте людей, оборудование, запасы материалов, здания и сооружения, но обычно при этом не нужно обсуждать планетарную систему вокруг Солнца, частью которой является предприятие, как часть Земли, или биохимию клеток у людей, как биохимию части предприятия.
Помним, что если вы обсуждаете проблему на слишком низком системном уровне – это ошибка редукционизма, если вы обсуждаете проблему на слишком высоком системном уровне – это ошибка холизма. Правильно удерживать обсуждение на трёх уровнях:
• надсистема в её окружении и её свойства. Например, компьютер в целом, его характеристики (габариты, вес, энергопотребление, производительность по каким-то признанным тестам)
• целевая система как целое и другие системы как целое на том же системном уровне в составе надсистемы. Как совместная работа систем этого уровня влияет на состояние и свойства надсистемы. Например, центральный процессор как целевая система, память, материнская плата, блок питания, вентилятор/охлаждение, корпус.
• подсистемы целевой системы: как их совместная работа (взаимодействие) влияет на состояния и свойства целевой системы. Например, для центрального процессора – ядра с арифметико-логическими устройствами, многоуровневая кэш-память, блоки ввода-вывода. И тут же вам тест на внимание: если вы представите «настоящий» (а не из диаграммы в книжке) центральный процессор, то увидите залитый пластмассой чип (или несколько сразу «чиплетов») с выводами, а уже на чипе какие-то зоны с теми самыми ядрами с арифметико-логическими устройствами, многоуровневая кэш-память, блоки ввода-вывода.
Это легко сдвинуть на уровень вниз: рассматривать
• транзисторы (уровень подсистем) в составе какой-нибудь
• кэш-памяти в центральном процессоре (уровень целевой системы) и как характеристики этой памяти и других IP будут влиять на характеристики
• центрального процесса (надсистемы).
В любом случае, обычно обсуждают «что делаем» (целевая система), «из чего оно состоит функционально, из чего делаем конструктивно» (подсистемы), «в состав чего это войдёт» (надсистема). В любом случае, вам для обсуждения системы обычно надо не меньше трёх системных уровней, вы будете обсуждать самые разные характеристики объектов на этих уровнях, эти обсуждения будут делать самые разные роли, а на каком системном уровне будет ваше целевая система – это зависит от проекта. Что целевая система для одного проекта – надсистема для другого, подсистема для третьего.
Инженеры описание системного разбиения дают обычно через описание типов (например, «самолёт»), но в реальности этим типам объектов соответствуют подводимые под этот тип физические предметы (cамолёт с бортовым номером 128, самолёт с бортовым номером 2467 и т.д.). В то же время философы (но не мы в нашем курсе) часто обсуждают системные уровни с произвольными частями, в том числе абстрактными4 – и там отношения «часть-целое» определяются очень по-разному.
Мы предпочитаем подход инженеров, а не философов. Если менеджер (инженер предприятия) или политик (социальный инженер) будут думать как философы, перемешивая ментальные и физические объекты в одних и тех же видах иерархий, они могут утерять связь с реальностью, добиваться реализации какой-то чрезвычайно привлекательной утопии. Утопии тем и отличаются, что очень привлекательны, но их беда в том, что они нереализуемы: мир будет меняться, но не к лучшему! Скажем, будет такая «борьба за мир», что камня на камне не останется – итогом желания мира будет ровно война, прямая противоположность!
Утопии (описания нереализуемого физического мира) именно так и устроены: хочется изобилия (коммунизма), а получаются продовольственные карточки, голодная жизнь. Нам же нужно, чтобы наши системы были и привлекательны, и реализуемы в физическом мире с задуманными, а не «уж как получится» характеристиками, мы не просто мечтатели, мы деятели/практики/инженеры. Современное системное мышление устроено так, чтобы при помощи понятий системного подхода удерживать внимание на физическом мире на самых разных уровнях его масштаба/системных уровнях. А ментальные объекты? С ними будем работать именно как с описаниями, в крайнем случае – описаниями описаний, но в конечном итоге – описаниями физического мира.
Это удержание внимания на объектах физического мира стабилизируется (собранность!) при помощи документированных информационных моделей, которые заодно помогают и предсказать характеристики будущих систем. Физические модели (типа как модели самолёта в аэродинамической трубе) сейчас используются всё реже и реже, но вот информационные модели помогают удерживать внимание на объектах физического мира, и готовить детальные и согласованные между собой описания этих объектов. Подробней о том, как увязаны между собой математические и физические объекты (изучаемые математикой и физикой соответственно), а также как мы работаем с выражаемыми знаками моделями этих объектов (семантика) будет рассказано в курсе «Интеллект-стек».
Моделируемые/удерживаемые во внимании на разных «уровнях размера»/«системных уровнях»/«уровнях состава/разбиения» взаимодействующие физические системы, которые создаются и развиваются другими физическими системами-создателями – это и есть предмет системного мышления.
В силу разделения труда разные роли, участвующие в проекте, для одной и той же целевой системы свои предметы интересов могут иметь у систем на разных уровнях – подсистем или надсистем. «Предметы интереса»/«важные характеристики» эмерджентны, поэтому можно ожидать, что они существуют на каких-то уровнях и отсутствуют на других – но в этом-то и предмет многоуровневого рассмотрения, что все они зависят друг от друга, даже если находятся на разных системных уровнях. Точности хода часов нет на уровне шестерёнок, там есть точность изготовления. Но вот от точности изготовления шестерёнок зависит точность хода механических часов. И поэтому у часовщика появляется интерес в получении как можно более точно изготовленных шестерёнок. Изготовитель шестерёнок наоборот, заинтересован в минимальной точности за получаемую цену (нет проблем поднять точность, но и цена тогда вырастет – до неприемлемой для часовщика). Часовщик и изготовитель шестерёнок ведут переговоры, чтобы достичь согласия.
Никакого «истинного» или «объективного» как независимого от ролевых интересов разбиения системы на части нет, хотя обычно в качестве частей выделяются какие-то более-менее стабильные объекты, но даже эту стабильность разные роли могут оценивать по-разному. Для одной и той же системы в проекте по созданию системы обычно одновременно рассматривается несколько вариантов разбиений на части. Минимально обычно разбивают на
• Функциональные/ролевые части, область интересов «как работает»
• конструктивные/материальные части, область интересов «из чего сделано»
• пространственные части (места), область интересов «где находится, как скомпоновано»
• затратные/стоимостные/cost части (но это уже будет затрагивать разбиение и целевой системы, и системы создания – совокупная стоимость владения), область интересов «во сколько это обойдётся».
Таких разбиений может быть много больше, и каждое из них может проводиться по-разному, в зависимости от области интересов. Эти разные варианты разбиений на части агенты (люди, AI, организации), играющие разные внутренние и внешние роли в проекте, согласовывают между собой, добиваясь успешности системы.
Даже один агент может использовать несколько разных разбиений, по-разному для удобства мышления и действия разных ролей выделяя части системы – чтобы ему было удобней думать в каждой из своих ролей, чтобы удобней было действовать. Некоторые роли подразумевают одновременное задействование нескольких разбиений. Например, роль разработчика работает с изобретением – когда подбираются аффордансы (конструктивные части) для ролевых частей системы. Одно рассмотрение конструктивное – времени создания, другое – функциональное, времени использования, и никакого изобретения не будет, если одновременно не удерживать оба этих рассмотрения. Системное творчество поразумевает одновременную работу с разными способами разбиения системы на части, и в каждом из этих разбиений будут абсолютно другие части! Например, ножницы конструктивно будут состоять из двух железных половинок и скрепляющего винтика, а функционально – из ножевого блока и рукоятки (а винтика так вообще в этом рассмотрении не предусмотрено, как и «половинок, скрепляемых потом винтиком»! ).
Разные способы разбиения системы на части (среди них есть обязательные, прежде всего уже упомянутые четыре – функциональное, конструктивное, пространственное, стоимостное) будут подробнее рассмотрены в нашем курсе позже, и это рассмотрение продолжится в курсах системной инженерии, инженерии личности, системного менеджмента.
Договориться о том, что все эти разные варианты разбиения системы относятся к одной и той же системе, относительно легко: нужно указывать на место в пространстве-времени, участвующее в разбиении. Если две разные физические сущности (например, функциональные объекты и материальные объекты) занимают одно и то же место в пространстве-времени (это тоже системное рассмотрение!), значит это одна и та же сущность. Если разговор идёт в типах (на уровне мета-модели предметной области «из учебника» прикладной дисциплины, или уровне мета-мета-модели предметной области «из учебника» фундаментальной дисциплины, например, нашего курса), то нужно обязательно давать примеры заземления/grounding. Крайне полезным бывает строить более конкретные описания, то есть демоделировать/рендерить примерно так же, как схематические изображения из систем автоматизации проектирования или ручных эскизов «рендерят» в фотореалистичные изображения5, добавляя детали, которых даже нет в исходных моделях, то есть уменьшая абстракцию, порождая/generate более подробное описание возможного состояния физического мира, отвечающее типам исходной более абстрактной модели.
Эмерджентность и мета-системный переход
Для того, чтобы какой-то набор физических частей был системой, нужно кроме признания факта, что эта система часть надсистемы и у неё самой есть части-подсистемы, удовлетворить ещё одному условию: эта система как набор взаимодействующих частей-подсистем должна проявлять какое-то свойство, которого нет у её частей-подсистем, ведущее к возможности новой функции целого-системы, в которые входят части-подсистемы. Это явление называют эмерджентностью (emergence, системный эффект). А ещё это свойство и новая функция пропадает у надсистемы, куда входит рассматриваемая система (но зато у надсистемы появятся новые/эмерджентные свойства, которых нет у системы как её части, этот системный эффект проявляется на каждом переходе от одного системного уровня к другому).
Показа времени нет ни в стрелках::часть механических часов, ни в их шестерёнках::часть, ни в корпусе::часть, ни в пружине::часть. А в часах::целое во время их работы показ времени возможен – в силу взаимодействия их частей. Каждая часть часов выполняет свою функцию в часах в целом, и возникает (emerge) системный эффект (проявляется эмерджентность, новое свойство, новая функция): часы начинают показывать время для надсистемы в системном окружении. Но вот комната (и даже ещё более мелкая подсистема комнаты, куда входят часы – интерьер), уже время не показывает, хотя показ времени часами в ней доступен и делает её удобней для проживания.
Обратите внимание: пересечение вниманием границы системного уровня (называют также мета-системным переходом) меняет всё, он буквально слышен в разговоре о системах, виден в тексте описаний:
• одни роли в связанных с часами проектах специализируются на методах, меняющими состояние уже собранных и работающих часов (используют эмерджентное свойство показа времени, создают интерьер комнаты, у которого другие эмерджентные свойства, нежели у часов), при работе с часами регулярно используется слово «время» как то, что надо будет увидеть (например, нужно ли добавить дополнительный светильник для того, чтобы видеть циферблат механических часов ночью, «посмотреть время») и даже не вспоминается о материалах для деталей часов (это на два системных уровня вниз от интерьера: сами часы и уже дальше детали – их материалы)
• другие роли – занимаются методами сборки часов (создают систему с эмерджентными свойствами часов), показываемое время их волнует в плане точности хода, а не использования.
• третьи роли ничего не говорят о самих часах, но просто изготавливают их детали, интересуясь прочностью и способами обработки металла – шестерёнки, пружинки, корпус. И у этих деталей тоже есть эмерджентные свойства, они ведут себя и характеризуются совсем не так, как ведут себя и характеризуются отдельные атомы, входящие в эти детали.
• … можно идти и дальше вниз по системным уровням: ещё какие-то роли занимаются материалами деталей часов: их прочностью, расширением при нагреве и т. д. – и это отражается в речи агентов в этих ролях как использование совсем другой терминологии.
Конечно, все эти системные уровни согласованы между собой, и регулярно в разговоре сборщиков часов упоминается и материал (его свойства влияют на свойства шестерёнок и стрелок), и время (часы ведь нужно наладить, чтобы шестерёнки и стрелки показывали правильное время!), и даже интерьер дома (обсуждение крепления часов на стене, размеров циферблата, чтобы его было видно через комнату). Но каждый системный уровень отличается своими системами, проявляющими какие-то свойства, меняющими свои состояния и в ходе работы, и в ходе создания из них надсистем методами создания самих этих систем и надсистем из этих систем (какие-то системы надо отливать в формах из расплавленного металла, какие-то – собирать из деталей, как панельные дома, какие-то – обучать, как мастерство). Эти методы меняют состояния частей системы, чтобы получить целую систему и запустить её в работу.
Разные методы создания и развития систем выполняются разными ролями в системе создания, эти роли говорят характерным языком, на котором обсуждаются системы одного системного уровня. Как мы увидим дальше – даже целым набором языков, ибо разные роли, специализирующиеся на обсуждении проблем какого-то системного уровня, используют разные языки для преследования своих интересов.
Разные роли ведут к специализации агентов на мастерстве выполнения методов работы этих ролей. Агенты, специализирующиеся на системах разных системных уровней, тоже будут разными. Люди (или даже AI, или подразделения), которые занимаются проектированием и изготовлением часов – это не те люди, которые занимаются интерьерами, и не те, которые занимаются материалами для деталей часов. Это и есть разделение труда: разные методы работы используются в проектах не просто сами по себе, а в силу появления эмерджентных свойств и функций у систем при смене системных уровней во внимании задействующих их ролей. Создатель интерьеров – архитектурное бюро, специализирующееся на методах создания интерьеров, создатель часов – конструкторское бюро (дизайнеры, занимающиеся эстетикой часов – там) и работающий в партнёрстве с ним часовой завод, создатели материалов для деталей часов – заводы, которые будут поставщиками часового завода.
Переход внимания от одного системного уровня к другому – меняется набор ведущих ролей создателей, меняются их метода работы и объекты этих методов, меняется терминология этих рабочих культур/«языки разговора». Это происходит из-за смены набора понятий, выражающих предметы внимания системного уровня: когда внимание переходит с систем одного системного уровня на системы другого уровня, меняются понятия для частей системы и их важных свойств, поэтому меняется и терминология для выражения этих понятий.
Организм::целое животного прыгает и бегает в момент использования, а его органы::части – нет. Прыжки::поведение и бег::поведение – эмерджентные функции организма. Органы производят какие-то действия внутри организма, они имеют функции в организме (например, мышцы сокращаются, печень чистит кровь, лёгкие насыщают её кислородом и освобождают от углекислоты), это проявление их системных/эмерджентных свойств как целых органов, отдельные клетки внутри органов (части органов) этого делать сами по себе не могут, хотя именно клетки внутри органов вроде как всё и делают в их взаимодействии!
Системы не просто сами состоят из частей, они проявляют своё (субъективно определяемое!) назначение через выполнение какой-то (субъективно выделяемой!) их::часть функциональной роли в составе надсистемы::целое. В предыдущей фразе было упомянуто три системных уровня: 1. подсистемы, 2. целая система из этих подсистем, она проявляет эмерджентные свойства, является частью/подсистемой и имеет функцию в 3. надсистеме.
Основная особенность систем – это то, что «всё со всем связано», части системы в системе ведут себя не так, как они же вне системы, ибо они взаимодействуют между собой. Атомы вне молекулы ведут себя не так, как внутри молекулы. Клетки вне органа ведут себя не так, как внутри органа. Органы в организме ведут себя абсолютно не так, как органы отдельно от организма.
Чтобы разобраться в очень сложных системах, состоящих из огромного количества элементов, их представляют как разбиение/декомпозицию, на каждом уровне которых ожидают системного эффекта/эмерджентности. Например, вот индивидуальные детали автомобиля:
