На другой стороне лжи. Роман
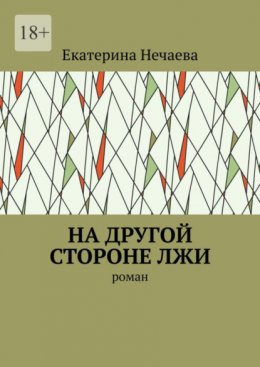
Корректор Екатерина Калуцких
Редактор Владимир Нечаев
© Екатерина Васильевна Нечаева, 2024
ISBN 978-5-0064-1882-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Поток мысли от романа «На другой стороне лжи»
Первое, врывающееся со страниц в жизненный мир читателя, – понимание того, что человек – существо лингвистическое, и никуда от этого факта не деться. Всё излагается в лучших традициях Мартина Хайдеггера с его «язык есть дом бытия». И действительно, жизненный мир любого человека – это мир его смыслов, рождённых освоенными и используемыми им словами, а также междусловьем – пустотой.
Лингвистические пассажи увлекают в мир слов с чётким призывом: помни, какова твоя экология речи и мышления, такова и твоя жизнь. Ах, эта работа со словом, вложенная в уста главной героини! Читаешь и постигаешь: как все мы родом из детства, так и слова – тоже. Детство слов открывается в их этимологии: она – ключ к пониманию их начальных смыслов и дальнейшей игры, которая то уводит, искажая значения, то возвращает нас к самим себе через правильное употребление слов.
И весь этот языковой анализ производится персонажами не ради игры, а ради глубинного осмысления того, чем ими считаются и как ими же практикуются во всей противоречивости вечные духовные ценности: Свобода, Истина, Любовь, Добро, Красота. «На другой стороне лжи» – само название романа говорит, что центральное понятие среди этой пятёрки – Истина.
Как безобразное и ужас есть путь к красоте, так и разные виды лжи являются тропами к Истине. Другая сторона лжи – это и обратная (правда), и процесс, в котором лживое в его разнообразии проявляет истинное. Герои романа оказываются в ситуации распознавания, что есть истинная свобода, а что есть мнимая, что есть подлинные любовь и добро, а что есть их псевдо-проявления. И вообще: знают ли они Истину о самих себе? Догадываются ли они о том, что не существует людей добрых или злых, лжецов или всегда говорящих правду, что их свобода зависит от того, насколько они распознали свой миф о себе. Любой человек – это клубок противоречий: и не всегда яростность указывает на злобность, так же, как и готовность помочь не связана непременно с добротой. Автору удалось показать своих героев живыми!
Меня как философа волновал вопрос о выписанности мужского и женского стилей бытования. Все образы получились безупречными; при всех естественных различиях мужских и женских персонажей между собой были схвачены и показаны основные неизменности, выразившиеся в распределении партий в танце мужского и женского: доброта и красота, пространство и время.
Вот и одна из первых характеристик Лидии Ивановны в уме Егора касается открытия того, что не женщина живёт во времени, а оно – в ней, ибо она и есть само временение жизни. Правда, сама Лида в описываемый момент её жизни со временем не очень-то в ладах, ибо жизненные обстоятельства заставили её защищать свои границы, вбросив героиню во власть пространства. Символом этого стало кресло, размещенное внутри большого шкафа. Лида, как это самое кресло в шкафу, жила, годами укрываясь от своего прошлого, от воспоминаний. Да и с будущим она не очень-то управлялась, что стало ясно по её неспособности без своего ассистента запланировать и запомнить место важной для себя встречи. Однако свалившаяся в её сердце любовь вернула всё на свои места. И шкаф с креслом отныне стал частью её мироощущения: он превратился из вечного настоящего, когда-то выдернутого из линии времени в качестве зоны комфорта, в то самое настоящее (истинное) настоящее, которое вмещает в себя прошлое и будущее, то сворачивая, то разворачивая их из себя.
А какие разные образы мужчин показаны во всей их сложности! И какой же из них станет мужчиной главной героини, почти до конца романа остаётся загадкой. И – как итог: зверь да бог в их одновременности, с одной стороны, и естественность да прекрасность – с другой. Таков рецепт мощи раскрывающихся в любви мужского и женского начал. И ведь абсолютно веришь, что всё у сложившейся пары отныне будет хорошо, не без сложностей, но – любовно.
Роман получился глубоко философичным! Насыщенный при этом яркими образами, метафорами, шикарными природными описаниями и параллелями между природой и персонажами, он с первых минут захватывает так, что буквально невозможно оторваться: хочешь передохнуть, а не можешь. А с какою любовью и осязаемостью показана выходящая из зимы в весну Пермь, отдельные её уголки в исторической развёртке! Текст плетётся, создавая узор, вбирающий в себя по ходу повествования всё новые нити: истории, персонажи – которые то скрываются на изнаночной стороне, то появляются вновь. И вот уже, как казалось в начале, почти однотонный, созданный мазками, плоский рисунок обрастает объёмом и красками… Завораживающий эффект, не оставляющий тебя от первого до последнего слова, и долгое время – после.
Кандидат философских наук, Член Российского союза писателей, поэт и эссеист Наталия Хафизова
Кто из нас не с другой стороны?..
Что живёт на другой стороне? Не всегда приглядная правда, трудно постижимая истина, достоверно звучащая ложь, помогающая прятать истинное и являть миру не то, что есть на самом деле? Или что-то ещё, что мы не можем увидеть воочию, но можем почувствовать сердцем, прикоснуться душой? Каждый из нас живёт на другой стороне, но как эта сторона вписывается в жизнь других? Не знаю, и потому – пишу, сплетая всё воедино. И поиск ответов – вечен.
Все имена вымышлены.
Все совпадения случайны.
Все случайности закономерны.
Все истории имели место быть.
С любовью автор – Екатерина Нечаева
На другой стороне лжи
…ты – бесспорно умный и честный человек, неужели ты не прозрел, что в наш век лжёт всё.
Из письма Александра Павловича Чехова брату – Антону Павловичу Чехову, сентябрь 1887 г.
Иногда мы не замечаем, в какой момент жизнь становится тесной и жёсткой, как будто застёгнутое на все пуговицы загрубевшее пальто. Воротник натирает шею, сквозь швы задувает ветер, но страх не даёт оглянуться, чтобы понять, как избавиться от макинтоша. И мы начинаем лгать. В первую очередь – себе. Или громоздим вокруг себя правду, не считаясь ни с кем.
Закостенелые правдоискатели и огрубевшие во лжи, и те, и другие, устанавливают свой незыблемый порядок, который поглощает всё, что соприкасается с ним. Мы насквозь промокаем в чужих текстах, теряемся в чуждых нам книгах, тонем в эпизодах не своих жизней, проживая день за днём чей-то иной сценарий, и не можем найти в себе силы, чтобы начать писать свою историю, удивительную тем, что в ней нет ни слова лжи, ибо истина – в моменте, который каждый может передать в истории, раскрывающей смысл бытия одного-единственного человека, так похожего на многих других и в то же время – остающегося уникальным. Истории, достоверность подачи которой заключается в игре, обусловленной подвижностью истины. Истории, где процесс жизни не отделяет ложь от правды, но где правда – не есть истина.
Глава 1. Лжа многоликая
***
– Мир погряз во лжи! Да-да, истинно говорю! И все эти ваши досужие рассуждения о лжи не выведут его из этого адова состояния! – невысокая женщина неопределённого возраста и приятных объёмов, занявшая изначально оборону с правого фланга, потрясла в воздухе кулачком, ловко поправляя высокую сложную причёску и привлекая к себе внимание остальных участников лекции о языке и его влиянии на жизнь человека. Кто-то заулыбался, кто-то смущённо отвернулся, кто-то, хихикнув в кулачок, невозмутимо смотрел на лектора, а в одной голове мелькнула ехидная мысль: «Ну-ну, и как в этот раз выкрутишься?»
Ответ не замедлил себя ждать:
– Сегодня мы рассмотрели множество вопросов, связанных с таким человеческим явлением как ложь. Я чувствую, как в ваших головах кипят мысли! Я уважаю экклизиастовское «во многом знании – многия печали», но придерживаюсь всё-таки буддистского «знание освобождает от страдания». Получая знания, мы становимся сильнее, зрячее, основательнее. Впереди у нас с вами ещё несколько лекций. Те, кто сомневается или пришёл заведомо не впитывать новое, а оппонировать, – вы ошиблись дверью, это не дискуссионный клуб, а лекторий, оплачивая который, вы знакомились с условиями. Одно из условий, напоминаю, – все непонимания и несогласия формулировать в виде вопросов, потому что именно вопрос – великое средство общения, способное открывать любые двери. Я не ставила перед собой задачу превращать встречи о значении и величии русского языка в вакханалию дебатов и споров. Я отдаю вам свои знания, свой опыт, которые копила годами и с помощью которых построила новую жизнь, счастливую и свободную, – невысокая худощавая женщина с округлым лицом улыбнулась всем, а особенно – барышне с зависшим в воздухе кулачком, чуть тряхнула непривычными крупными кудряшками цвета спелого каштана, и аудитория снова погрузилась в атмосферу завораживающего голоса, имеющего, по мнению некоторых участников группы, живую структуру: – Сформулируйте вопрос, отразив в нём всё, с чем вы не согласны, я с удовольствием отвечу, если смогу, а пока продолжим сегодняшнюю тему. Итак, слова, обозначающие искажение информации, и их этимология. Ложь, обман, враньё или враки, фальсификация, брехня, вздор, лукавство, лживость, притворство, неправда, кривда, буки, клевета, вымысел, выдумка, сказка, ахинея, свист, телега, пурга, прогон, утка газетная. Это примерно треть слов, именующих вещь, о которой мы говорили в течение трёх часов и которой вы теперь можете дать точное определение и, соответственно, противодействовать ей. Множество имён подтверждает наш вывод о многоликости этого явления, о его распространённости. Рассмотрим, что значат некоторые из этих слов в их коренном смысле. Внимание на экран!
Впервые за время общения с аудиторией Лидия Ивановна, предпочитавшая работать без «вмешательства в жизнь потусторонних отвлекающих предметов», включила слайды.
– Ложь – сознательное, намеренное, нравственно предосудительное искажение истины. Поименовано от глагола «лежать» и относится к этимологическому гнезду, где вызрели слова лжа, ложе, лгать и ещё ряд слов. Восходит к корню legh- (logh-). Глагол «лежать» изначально имел отношение только к человеку и означал «быть больным, слабым». Я не буду делать выводы за вас, – голос приобрёл волнующе медовые оттенки, стирая ощущение времени у каждого, кто находился в просторном бело-голубом зале с четырьмя колоннами и окнами в пол. – Двигаемся дальше. Обман – слова или действия, намеренно или ненамеренно вводящие других в заблуждение. Чаще всего обман связан с действием, ведь этимология слова исходит от «манить», увлекать за собой. Обман – это ошибка в восприятии, чаще зрительная ошибка. Есть спорное мнение, что «манна» как некая разменная монета или иллюзия, имея отношение к этой смысловой нагрузке, манит нас в мир менял и торговли, но как знать, как знать… Что не проверено, то не доказано. Пусть остаётся манящей тайной, а мы едем далее – враки или враньё, неверная или неточная передача информации, вид безобидной и бескорыстной лжи, придающей истории яркость и неординарность, в основном, с помощью приёмов приукрашивания и преувеличения. В XVIII – начале XIX веков эти словечки употреблялись в смысле «попусту болтать», «бормотать неразбериху», корень же этого слова – родственник латинскому «вербум», что означает «глагол, слово». Есть интересная версия, которая объясняет восхождение этого слова к глаголу… – Лидия Ивановна выдержала паузу, видя, как горят глаза её подопечных. Она чуть подалась вперёд, протянула в зал руку ладонью вверх, ожидая, что кто-нибудь догадается, и, словно пушинку, сдула с неё слово: – «Кипеть», «варить», создавать то, что испаряется.
– На ум так и лезет «да не кипятись ты», – баском высказал мысль сидящий во втором ряду бородатый парень в тёмно-красной тенниске.
– А ведь и точно! – воскликнул пожилой мужчина в светлом костюме. Он сидел спиной к свету, робко падающему из окна, и тень придавала его классическому греческому профилю восторженно-мистический характер. – Когда кто-то начинает говорить что-то лишнее и на эмоциях, он словно кипит изнутри, я в такие моменты спрашиваю обычно, почему человек кипятится. А теперь – внимание! Вопрос! – сделав акцент на последних словах, мужчина обернулся к сидящим: – Каким боком фраза «да не кипятись ты» имеет отношение к нашим «вракам»?
– Самое прямое! И вы верно всё подметили, мне добавить здесь нечего, – Лидия Ивановна окинула взглядом аудиторию, искренне улыбнулась. – Враньём раньше лечили, заговаривая и вселяя надежду на исцеление, от «врать, ворчать/ворочать» пошло слово «врач» – колдун, прорицатель, заклинатель. Вот вам и враки! Отсюда вопрос, а всегда ли плохо врать? Или всё-таки случаются моменты, когда враньё помогает преодолеть трудные жизненные ситуации?
Из зала посыпались примеры, когда враньё играло спасительную роль. Дошли и до Ивана Сусанина, но тут возникла заминка: он врал, лгал или обманывал? Общими усилиями пришли к выводу, что Сусанин создавал видимость, что он ведёт врагов туда, куда надо, из чего следовало, что – обманывал. Сосед парня в красной тенниске, такой же бородатый, пошутил, что народный герой был полупроводником – мол, увёл только в одну сторону. На этой фразе снова включился в разговор мужчина в светлом:
– И заметьте – он был осознанным полупроводником, потому что совершал свой подвиг продуманно, понимая, что и его ждёт верная смерть. Ах, какие примеры у нас есть в истории! Удивительные примеры!
Лидия Ивановна с восхищением посмотрела на говорящего и продолжила:
– Задумайтесь, а какое слово соответствует ситуациям, которые сегодня озвучивали вы? Посмотрите значение других слов. Ваши мысли публикуйте на своих страницах в соцсетях со ссылкой на меня, с удовольствием прокомментирую их, возможно, и подискутируем. А пока… Трёх слов хватит, а то мы с вами прозаседаемся до утра и станем прозаседавшимися.
– Лидия Ивановна, это вероломно с вашей стороны! Заманили нас в чащобу, а дальше забыли дорогу? Так же, как Иван Сусанин? – с первого ряда подскочил коренастый молодой человек, вот уже около года не пропускавший ни одной лекции кандидата филологических наук Лидии Львовны Лузгиновой, именующей себя на людях не иначе как Ивановна. – Мы требуем продолжения банкета! Так ведь, народ? – он обвёл взглядом сидящих полукругом.
Все оживились, наперебой стали просить «ещё немного сладкого». Лидия любила эти «десертные» моменты. Она смотрела на всех и видела каждого в отдельности с его проблемами, тревогами, никак не складывающимися отношениями. После вводного занятия на прошлой неделе сегодня они встретились второй раз, и впереди её и вновь набранную группу ожидало необыкновенное путешествие по бескрайним просторам русского языка, покоряя которое каждый из них, да и она сама, сделают потрясающие открытия и внутри себя, и в окружающем мире, ведь человек живёт в языке, и вне слова, вне языка себя не мыслит.
Были в новоиспечённой группе те, кто не единожды посещал её программы, и был этот крепыш, стабильно присутствующий везде, куда бы ни занесла её судьба. Всю лекцию он отмалчивался, с жадностью ловя каждое слово, а в конце подначивал народ на «продолжение банкета». Возможно, кто-то думал, что это свой, подсадной, заводил публику, но Лидия Ивановна удивлялась происходящему, хотя ей и самой иногда казалось, что – казачок-то засланный. Несмотря на частые контакты, она до сих пор не ведала, как его зовут, зато точно знала, что будет дальше: она расскажет ещё о парочке слов, потом к ней подойдёт кто-нибудь с вопросами, а он в это время потихоньку испарится. В следующий же раз внезапно материализуется, заняв привычное место в первом ряду, и будет впиваться в неё взглядом, дышать каждым словом, подперев подбородок кулаком и многозначительно, совсем не слышно постукивая об пол носком правого до блеска начищенного ботинка.
Зал, наполненный возгласами, напоминал улей. Лидия Ивановна подняла вверх обе руки, как бы приглашая всех сыграть с ней в ладушки. Тишина воцарилась мгновенно.
– Возможно, я не на всё смогу дать ответ, тем не менее, какие слова интересуют из перечисленных? – она включила слайд с синонимичным рядом «Ложь, обман, враньё или враки, фальсификация, брехня, вздор, лукавство…»
– Клевета!
– Ахинея!
– Буки!
– Да-да! Давайте «буки»! Не слышал такого!
– Хорошо, друзья! Ахинея – напыщенная сумбурная бессмысленная речь, – начала Лидия Ивановна, – слово заимствовано из древнегреческого, существует в застывшей фразе «нести ахинею». Занесено в русский язык семинаристами. Это одна версия. По второй – предок слова глагол «охинить», что значит «хаять, хулить, бранить, охаивать» – с переходом от оканья к аканью, по сути – унизить. Клевета пришла из старославянского, слово от глагола «клевать» (клюв), связано с его переносным значением – «дразнить, насмешничать, сплетничать». Предполагается, что также причастно к словам «клюка, крючок». Вспомните отнюдь не рыбацкое выражение «подцепить на крючок». Возможно, это выражение объединило современное понятие троллинга в интернете и троллинга как метода рыбалки, хотя между двумя этими троллингами ничего общего нет, кроме звучания. Далее. Буки – не здесь ли полёт воображения?! «Да буки это всё!» – говорили в старину, или «Аз да буки, а потом науки». До сих пор в старославянской и церковнославянской азбуке «Б» носит название «Буква». Из букв складывают слова, предложения, книги, второе древнее значение «буки» – «книга», а теперь вспомним устойчивое «надулся, как бука», что означает буквально «наполнился ненужными страницами», и (как вариант) стал буки – ненужным, никчёмным, пустым человеком, вечно спорящим о том, в чём ничего не понимает. Кстати, дощечки, на которых в древности выводили первые буквы, были буковые, и вполне возможно, что именно от дерева пошло и название. А ещё буквы напоминают букашек, кои водились во все времена. Версия сомнительная, но имеет место быть. Бука как фольклорный персонаж не имеет отношения к буквам, но, возможно, как-то повлиял на лексическую окраску одного из значений слова «буки» как обозначение некой фальши. Возьмём в пример первое значение из словаря Даля: мнимое пугало, которым воспитатели стращают детей; или – нелюдим, человек неприступный, суровый, угрюмый. Красноречивое слово «мнимое» может быть заменено «обманное, выдуманное». Этимологически можно объяснить многое, но откуда именно «буки» как синоним слова «ложь», можно только додумывать, фантазировать, воображать, что не приблизит нас к истине, а потому любая трактовка останется ложной.
***
Всё получилось так, как предполагала Лидия Ивановна. В опустевшем зале ещё дрожал голосок неуверенной в себе юной особы с пирсингом в носу, громыхали басы двоих, по всей видимости, неразлучных друзей, отрастивших то ли православные, то ли правдославные бороды, завис в каждом углу вопросительный отзвук, оставленный далеко не молодой парой, не понимающей, как жить дальше после того, как дети вылетели из гнезда, размазалось по стёклам невнятное бормотание высокомерно глядящего на всё худощавого парня лет сорока, и улетучились под потолок тонкие нотки, издаваемые нескладной девицей, стриженой лысо, но имеющей невероятный фиолетово-лиловый чуб.
Дольше всех возле Лидии Ивановны задержалась барышня, сотрясавшая воздух и кулачками, и стремлением донести до народа некую истинную мысль о лжи. Барышня сетовала на то, что у неё нет интернета и что ей негде писать свои мысли, и потому она вынуждена украсть несколько минут у Лидии Ивановны. Совершив кражу общей ценностью в шесть с гаком минут, она бочком продвинулась к выходу, выскользнула в щель и, манерно обернувшись, прикрыла дверь с другой стороны. Полы длинной коричневой юбки в крупную складку придавило, и в щели ещё раз мелькнул фиолетовый пиджачок, накинутый на жёлтую блузу тяжёлого шёлка, последним в проёме закрываемой двери скрылось жабо, после чего воровка времени с трясущимися кулачками и вызывающим нарядом канула восвояси. Остальные ушли сразу, пообещав быть через неделю, и снова незаметно исчез крепкий мускулистый парень невысокого роста в до одури начищенных ботинках, тёмно-синих классических брюках и пиджаке, надетом на обтягивающую накаченное тело светлую футболку.
Лида не заметила, как присела в кресло, соседствующее с тем, где чуть ранее сидел крепыш, окинула зал взглядом, анализируя, как всё прошло, и вдруг увидела растущий за окном молодой тополь. Она удивилась – не впервой проводит свои собрания здесь, но тополь… Его она видела впервые. Или…? Нет, точно раньше не видела! Точёные упругие ветви, пробивая себе дорогу к небу, были прямы и бескомпромиссны, идеально ровный ствол ждал объятий подрастающей рядом берёзки, чудно выгибающей свои девственные пальчики, нервно вздрагивающие от порывов ветра. Неподвижное небо дышало спокойствием, синея во всю ширь огромных окон и сливаясь с синевой зала. Последний день зимы, случающийся один раз в четыре года, подарил ощущение новизны мира, подкинув трепетную историю зарождающейся любви между тополем и берёзой. Лидия Ивановна нехотя бросила взгляд на кресло, в котором сидел «казачок», вздрогнула, улыбнулась, снова вздрогнула, вспомнив, что завтра, в воскресенье, должна состояться запланированная несколько дней назад поездка к отцу.
***
Егор выскользнул из аудитории, просочился мимо охранника, шмыгнул вдоль стоянки и, пряча лицо от налетавшего порывами жгучего февральского ветра, подбежал к видавшему виды опельку. Спрятавшись внутри машины, он потёр руки и повернул ключ зажигания.
С первого раза машина не завелась. Егор чертыхнулся, стукнул кулаком по рулю, оглянулся. Дурацкая привычка оглядываться преследовала его с детского дома, куда он попал после смерти родителей, сгоревших вместе с роскошной дачей в разгар черёмухового кипения. Двоюродная бабка больше года обивала пороги разных приёмных, но и этого времени хватило, чтобы одинаково возненавидеть копошащуюся с документами бабулю и детдом в полном его объёме. Мир упорно не принимал Егора: издевательства сверстников над тщедушным лупоглазым подростком, окрики воспитателей, виноватые бабкины глаза, склоки с участковым после выхода из нависших над жизнью стен, соседи по подъезду, считавшие его вором и хулиганом. Счастливая беззаботная жизнь с родителями канула в вечность и стала чем-то вроде сна, над которым, как над пепелищем, раскинули свои почерневшие скукоженные ветви обожжённые черёмухи.
После второй попытки машина уркнула, дёрнулась и… заглохла.
– Да твою ж мать! – выругался Егор. – Ублюдок! Продал кусок металлолома… Ну, давай же, давай! За что деньги плочены?
На третий раз, как в сказке, опелёк поддался уговорам и ровно затарахтел. Егор включил печку и стал ждать. Зачем? Он и сам пока не знал, но неоднозначные чувства не давали покоя и заставляли его быть не тем, кем он считал себя на самом деле. Или наоборот – давали возможность быть самим собой? Егор не мог с этим разобраться и постоянно натыкался на тупики собственных мыслей.
По салону растеклось приятное тепло, Егор постепенно успокоился и более не чертыхался на того, кто продал ему подешёвке неказистую машину, не поддающуюся никакому ремонту.
Минул обед. Часы отчеканили два часа с четвертью. Ненавидимая им за смелый ум и за способность аргументировать любые выпады оппонентов, притягивающая играющим в разных тональностях голосом и необъяснимо стойкой хрупкостью женщина ещё не вышла, но Егор знал, что её появления можно ждать час, а то и больше. Она никогда не спешила после своих занятий. Иногда ему казалось, что она вообще никогда никуда не спешила, что время живёт внутри неё, а не она во времени. В такие минуты его охватывало отчаяние, и он не понимал, чего хочет больше: затащить её в постель или убить.
***
Лида неторопливо спустилась на первый этаж, взяла в гардеробе светлую а-ля мутоновую шубку с аккуратным небольшим капюшоном и огромными карманами, поблагодарила гардеробщицу и, облачившись, вышла на пышущую солнцем улицу. Прогулки прочно вошли в жизнь сорокачетырёхлетней женщины, а потому её ждал привычный пеший маршрут в три квартала.
В воздухе разливалась предвесенняя благодать. Порывы ветра стихли, над городом зависла парочка ленивых мелких облачков, но на северо-западе недружно скучилась серая масса, раздумывающая, нарушить или нет небесно-голубую идиллию.
Солнце слепило. Чуть не проморгав объект своего вожделения, Егор встрепенулся. Шуба цвета топлёного молока мелькнула среди многочисленной праздной толпы и скрылась за поворотом. Егор не поехал за женщиной. Он знал, где она живёт. Знал, что любит гулять вечером по набережной. Знал, где она обедает. Знал про её уединённый образ жизни. Ему казалось, что он знал о ней всё, а потому сегодня хватило и того, что она, покинув здание, пошла в сторону дома; всё равно пока никакого плана у него не созрело. К тому же – ещё была Ирка, с которой он тоже не знал, что делать.
***
Квартира-студия Лиды, спроектированная по личному чертежу, напоминала её шубку: скромная кухня-капюшон, втиснутая между туалетной комнатой и стеной балкона, выполненная в тёплых молочных тонах удлинённая комната и свободные рукава утеплённого балкона, уходящего от двери вправо и влево примерно на одинаковые расстояния. Высокие потолки, вызывая иллюзию пространства, зрительно делали квартиру больше. Ничего лишнего здесь не было. Не было даже привычного многим коридора – огромный шкаф съел его во время ремонта, и, перешагивая порог, Лида каждый раз оказывалась «сразу вся» дома и чувствовала, как время обретает пульс и воспринимается по-иному, словно её дом – это другое измерение, где все течения, законы и образы сформировались вне всего, что существовало за его пределами. Женщина, как только переехала сюда, стала ловить себя на мысли, что не воспринимает время, которое провела вне этих стен. Иногда ей казалось, что там, за пределами её квартиры, времени не было вообще. Дом стал её крепостью, опорой, обителью, спасением от безвременья.
– Здравствуй, милый дом, – певучие звуки мягкими горошками рассыпались по светлому паркетному полу. – Как ты, родной?
Лёгкий взмах руки, поглаживание чуть шероховатой стены, от которой начинал свой путь стеллаж с книгами. Взгляд в окно. Оглушающая тишина. Хорошо. Хорошо просто так, без причин и следствий. Хорошо там, где ты есть, потому что в другом месте в этот момент тебя нет и вся твоя вселенная сосредоточена здесь. Сейчас главное – ни о чём не думать. Максимально расслабиться и отдохнуть от плодотворного общения. Нет, она не устала, невозможно устать от того, что искренне любишь, что отвечает запросам людей и приносит удовлетворение и ей лично, но по опыту Лида знала, что необходимо отдохнуть, чтобы однажды не перегореть. Ниочёмный сериал, не требующий вникания, или любовный роман, легкомысленный, как итальянское вино, – обычные вещи после лекций. Иногда эти вещи замечательно совмещались.
Лида, бросив довольный взгляд на существующий в её доме порядок, растянулась на таком же светлом, как всё остальное, диване, спинка которого была обращена к шкафу и кухне и создавала видимость коридора, ткнула в кнопку пульта от телевизора и взяла со стеллажа, возвышающегося справа, книжицу. Ей нравилась её жизнь, бесконфликтная и свободная. И нравился её возраст. Ещё немного, и сорок пять – прекрасная пора! Выглядеть можно в два раза моложе, а опыта и знаний хоть отбавляй. Хлебнув несчастий полной ложкой до тридцати, она ценила то, что было у неё сейчас, и мало кого пускала в свою жизнь. Даже вещи, безмолвные для многих, очень избранно допускались в совместное с ней существование. Минимализм во всём поддерживал и давал ощущение свободы.
Это касалось и фотографий, и картин, коими не изобиловали стены. Над рабочим столом, комфортно устроившимся в углу квартирки, справа от входа на балкон, висела одна-единственная, чёрно-белая. С неё добрыми до боли глазами смотрела серьёзная девушка, как две капли воды похожая на Лиду.
***
Звонок раздался внезапно и вывел её, прикорнувшую перед телевизором с так и не открытой книгой, из полузабытья. Сумерки успели опутать стены, ватно распластались по паркету, сплели паутину на потолке. Не сразу сообразив, что телефон лежит в кармане шубы, Лида сначала привычно пошарила на передвижном журнальном столике, потом не спеша поднялась и прошлёпала к четырёхстворчатому зеркальному шкафу. Олицетворяя собой современность, он был завуалированным другим миром, поглотившим в себя гардероб, полки, шкафчики, ларцы, ларчики. В центре шкафа стояло старое кресло, купленное на аукционе, а в одном из ларцов хранился любимый бабушкин платок и нательный оловянный крестик, якобы приданный Лидии при крещении. По мнению Юлечки, давней славной подруги, в шкафу можно было жить, не отказывая себе в удобствах, если, конечно, прорубить петровское окно в соседнее, туалетное, помещение, отделявшее жадный шкаф от отвоевавшей себе мизерное местечко на этой планете кухоньки со встроенным мини-холодильником и полным отсутствием духовки.
Телефон продолжал настойчиво подавать признаки жизни. Справившись с просторными карманами шубы, Лида наконец-то ответила:
– Слушаю.
– Ты чё так долго к телефону не идёшь? Спишь, што ли? Завтра приедешь? Точно? – отец сыпал вопросами, не давая возможности ответить. Она помнила эту его манеру с детства: в первых вопросах была претензия, потом тон менялся, а в последнем вопросе, обычно коротком, появлялась плаксивость. Она не видела отца много лет, с тех пор, как он женился на особе, равной ей по возрасту, но потребовавшей, чтобы Лида называла её не иначе как мама. Новоиспечённая тридцатилетняя дочь, узнав, что явилась причиной несчастной отцовской жизни, брошенной на алтарь воспитания и содержания девчонки, из которой так ничего путного и не вышло, с трудом выдержала полтора дня их свадьбы. Пока молодые пиршествовали, Лида покинула квартиру, в которой прожила тридцать лет, шестнадцать из них – с мамой и папой, а после того, как мать спешно уехала за границу с брутальным красавцем, – только с отцом. Во времена совместного бытования с папенькой она несколько раз пыталась связать свою жизнь с какими-то типами, но каждый раз возвращалась домой. Впервые это случилось в семнадцать, через год после побега матери. Отец тогда изрядно пил. Но новый папик, к которому она сбежала, оказался один в один похож на него, с той лишь добавкой, что распускал руки, как доходил до кондиции, и блудная дочь вернулась к родному очагу, виновато перешагнув порог. Не заметивший её трёхнедельного отсутствия отец пробормотал что-то про пиво и выключился до утра.
– Точно? – снова ожил в руке телефон. В голосе Лида уловила новые, не знакомые ей, нотки.
– Здравствуй, папа, – она выдержала паузу, пытаясь понять, что скрывается за неизвестным тоном, и, как можно спокойнее, продолжила: – Да, я приеду. Мы же договорились.
– Договорились… – передразнил её отец. – Мало ли что договорились… А вдруг у тебя чё случилось?
Ясно представилась картина, как отец выкатывает глаза на «чё случилось» и затем плотно смыкает губы.
– Я бы позвонила и сказала, – выдержав небольшую паузу, ещё ровнее произнесла Лидия Ивановна-Львовна, как будто бы разговаривала с клиентом, – надеюсь, что и у тебя ничего не изменилось.
– Адрес-то помнишь? – снова дразнящая насмешка, и – озарение! Вот оно – новое! Язвительная насмешка, глумление. В детстве мальчишки во дворе, зная, как она не переносит скрип пенопласта, подкрадывались и резко начинали издавать самые мерзкие звуки на свете. Подначивал всех рослый заводила по прозвищу Гуща, нещадно мучивший мелкую живность: на глазах у компании он ломал или дробил кошкам, птицам, лягушкам лапы, выколупывал глаза, вставлял в задний проход палки и наслаждался страхом, застрявшим во взглядах окружавших его ребят. В логу, за сараями и гаражами, подальше от глаз взрослых, он обосновал концлагерь для своих дел и созывал всех смотреть. Лида тоже один раз потянулась за всей ребятнёй в лог, но стоять и смотреть не смогла. Огромная жаба, пойманная Гущей для расправы, смотрела на неё так, что Лида выхватила покалеченное существо и помчалась со всех ног куда глаза глядят.
Гуща терпеть не мог Лиду (независимость этой девчонки бесила) и постоянно искал возможность нагадить ей. Однажды он и его дружки окружили её и целой толпой играли жуткую пенопластово-какофоническую симфонию. Длилось это вечность, до тех пор, пока мир взрослых не материализовался в виде соседа по подъезду, дяди Вити. Он матерно гаркнул на ребят так, что весь их ненавистный оркестр с криком «Атас!» разлетелся в разные стороны. Лида же стояла, зажав уши ладошками и зажмурив от ужаса глаза. Дядя Витя нишатковалкой походкой приблизился к ней, выпалил приветственную фразу: «Солнце светит, мир поёт, и вам – здрасте!» – и протянул печенюшку. Лида отлепила побелевшие от напряжения пальчики от ушей, зыркнула зазеленевшими от гнева глазёнками на соседа и пулей унеслась домой. Впрочем, печенюшку успела схватить.
Звуки ещё долго преследовали её. Несколько ночей она, вздрагивая, просыпалась, озиралась по сторонам в поисках мальчишек, с тревогой разглядывала тени, вольно гуляющие по потолку и по стенам её маленькой комнаты, а однажды, в ночь, когда случилась страшная гроза, забралась в шкаф и зарылась в вещи, скинув с плечиков аккуратно висящие свои и мамины платья и отутюженные папины рубашки. Утром родители обнаружили её, свернувшуюся калачиком, мирно посапывающей в шкафу, съевшем почти половину детской комнаты. Через узкий проход от этого проглота стояла кровать, у окна – стол с тумбой и полками по обе стороны. На верхних полках покоились мягкие игрушки, а на нижних беспорядочно толпились книжки и книжицы, тетрадки с первыми выведенными словами и альбомы с рисунками. В тот год, 1 сентября, мама и папа торжественно отвели её в первый класс, и она оказалась за одной партой с второгодником Гущей. Так началось их знакомство, непродолжительное, но противное.
– Помню, папа, помню, – ни его тон, ни то, что он не поздоровался, не вызвали в ней злости или негодования – годы работы с людьми служили во благо. – До завтра. Буду, как договорились, к обеду.
– Ладно. Давай. Жду, – он нарубил слов и сбросил звонок на полуслове, и «жду» обратилось в долгое жужжание, поглотившее отчаянно барахтавшуюся в воздухе недосказанность и пенопластовую симфонию, написанную мальчишками их двора тридцать семь лет назад.
***
Первый день весны! Утро хлынуло в окна, стёрло, словно пыль с мебели, темноту, и бесстыже рухнуло на диван. Лида резко открыла глаза. Солнечный свет заливал квартиру на восьмом этаже, заливал дом, центр города, заливал Пермь, утопающую в парках и скверах, торжественно притихших в ожидании весеннего буйства.
Минус пять с утра могли обернуться при таком солнце в хороший плюс днём, но каждый живущий на западной стороне Урала знает, как промозглые ветры, возникающие внезапно, способны распылять солнечные лучи, развеивать их в бесконечности и вносить свои коррективы в плазменную работу светила.
Сегодня воскресенье. День, когда можно понежиться в постели, когда нет пробежки, фитнеса, когда вместо привычной овсянки на завтрак можно побаловать себя бутербродами или шоколадом. Бывали такие воскресенья, когда Лида валялась на диване целыми днями, смотрела фильмы, читала, спала. А вечером непременно шла гулять! Туда, где валится за реку солнце, цепляясь лучами-щупальцами за опоры моста, или снуют тучи, серо, понуро, ворчливо, или, поглядывая на себя в огромные окна новостроек, взбивают причёски чернично-клубничные облака. Туда, на Каму!
Упруго потянувшись, выгнувшись, как кошка, Лида окончательно проснулась и вспомнила о встрече с отцом. Вчерашний недолгий разговор, вызвавший детские воспоминания, показался вырванным эпизодом из давнишнего фильма, но язвительный тон, скребнувший по нервам и обостривший внутреннее сопротивление, пригвоздил это кино к стене реальности.
***
Лида жила в центре города, в одном из множества домов, что растут как грибы, придавая Перми современный вид. А из центра, всяк пермяк знает, в любой район можно добраться быстро и без проблем.
«Мо-то-ви-ли-ха-мо-то-ви-ли-ха», – стучал трамвай-шестёрочка, пока мимо потряхивались обступившие со всех сторон дома, потом в окна хлынул простор Северной дамбы с утонувшим в снегу кладбищем по правую руку, и тут же призывно подмигнул купол планетария по левую. Это место всегда завораживало и притягивало. Захотелось выскочить и побежать туда, где обрела покой графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, фрейлина последней императрицы, расстрелянная здесь, в Перми, более ста лет назад. Впервые Лида узнала о ней, когда покинула своё «родовое имение», и с тех пор образ самоотверженной графини стал для неё оберегом. Лиду изумляли два факта. Первый – это сила воли, сопряжённая с верностью: Анастасия Васильевна, или, как её звали окружающие, ангел Настенька, добровольно последовала за царственными особами и до последнего вздоха не отреклась от них. Ей было всего тридцать – возраст, когда Лида лишь смутно представляла, как ей жить дальше, с чего начинать строить новую жизнь. Второй факт – это сходства: её бабушку тоже звали Анастасия Васильевна, а сама Лида как две капли воды была похожа на Гендрикову, унаследовав и черты лица, и фигуру бабушки Насти.
Успокоилась ли душа графини? Или, истирая себе вены и нервы, кочует вместе с такими же мучениками, как она, через трамвайные пути, по шершавому асфальту или пропитанному солью снегу, чтобы увидеть, как первый луч скользнёт по Каме, разыграется зарницей, а потом сотворит великое чудо, облачившись в дневные одежды? Или, вращая планетарную сферу, словно глобус, пытается отыскать следы тех, с кем шла в жизни видимой человеческой? Лида вздрогнула, словно воочию увидала проторенную к небесам тропинку, но вечность и космос, разделённые трамвайными путями, существовали независимо друг от друга, не спорили, не выясняли отношений, лишь молча глядели сквозь пробежавшую между ними городскую железную дорогу.
«Мо-ха-ха-ви-ли-ли-то-ли-то-ли», – трамвай натужно громоздился в гору, подбираясь к цирку, покоящемуся на одном из самых внушительных фундаментов в городе. Лида ни разу не была в цирке, она его не любила и даже немного боялась. Ещё в детстве её завораживающе пугали красочные рассказы бабушки о старом балагане, сгоревшем во время войны со всеми животными.
В ночь на 24-ое января 1943 года, когда вспыхнул пожар, мороз стоял за тридцать. Но холод не помогал. Казалось, что он только усиливал действие огня, разгоравшегося под далёким, усыпанным звёздами, небом. Звери орали так, что хотелось гореть вместе с ними. Поговаривали, что из цепких лап огня вырвался только лев по имени Оскар. Но кто знает? Ни одна газета ни на следующее утро, ни на какое другое не сообщала о том пожаре. Радио тоже помалкивало о местной трагедии…
Бабушка пару раз бывала в этом цирке, но представлений вспомнить не могла ни одного, зато с любовью повествовала о шумной галёрке, о своих одноклассниках, о мальчике, вдруг осмелевшем и поцеловавшем её под грохот аплодисментов. Ей не было и четырнадцати. Она потом долго вспоминала этот предвоенный, отчасти случайный, поцелуй, с недоумением прикасалась пальцами к губам и не могла поверить в свою назревающую женственность.
Тот, 1943-ий, для их семьи явился знаковым годом. На второй день после пожара принесли похоронку на отца бабушки, прадеда Лиды. Обычный треугольник. Жёлтая бумага. Тяжёлые строки. Смолкли в сердце стоны животных, народились иные, то истеричные, то глухие, причитающие… молчаливые…
Мать Насти, прабабка Лиды, сумевшая родить единственную дочь по причине женских болячек, ненадолго пережила мужа и умерла вскоре после того, как дочь успешно сдала выпускные экзамены в июне 1943 года. А спустя семь лет от заезжего солдатика на свет народился Лев, маленький, щупленький, с признаками рахита. Ему так же, как и его матери, суждено было стать единственным ребёнком.
«Ли-ха-ха, мо-то-то, ви-ли-ли». Корячится трамвай, пыжится на самом взгорке, вгрызается в мир всеми своими колёсиками. Корчится на саднике* тельце недавнорожденного, отданного в руки знахарки. Пышет благодатным теплом ровно беленая протопленная печь, вот-вот готовая поглотить младенца. Плачет в сторонке Настя, боясь ронять звуки. Но, слава Богу, цепким оказался Лёвушка, трижды саженый в русскую печь на лопате, – выправился, выпрямился. Заиграл на щёчках румянец, заблестели глазки, полетели из уст гули. Будет жить! Отлегло на сердце матери. Позади горочка! Позади… Трамвай громыхнул, втащил своё тело на равнинное место, дёрнулся на пересечении рельсовых путей и радостно подкатил к остановке «Цирк».
***
Через пару остановок Лида вышла. Старые обшарпанные дома тлели неухоженностью, глядя на мир подслеповатыми окнами и жадно улавливая меркнущие в наплывающих облаках солнечные лучи. Проникал ли свет внутрь? Лида уже не помнила. Ей было странно оказаться здесь.
Прошлое и настоящее, втиснутые в один миксер, смешались до однородного состояния. Осталось – подставить стакан, влить в него пахучую жидкость и выпить залпом, не закусывая, чтобы враз ощутить, как налились тяжестью ноги и набилась пенопластом голова. Прошлое уже не выдумать, с настоящим не поспорить, а будущее? Впервые за много лет в Лиду ворвался вопрос – а какое оно, её будущее? Сотрясая душу, в подъезд следом за ней ворвался трамвайный скрежет; раздирая лёгкие, обдала жаром русская печь, поглотившая и выплюнувшая отца; утихомиривая страсти, холодом засквозили слова матери, нашедшей лучшую, закордонную, жизнь; громыхая, хлопнула дверь на последнем, третьем, этаже, раздались тяжёлые шаги, заскрипели подошвы башмаков, и с потолка полетела штукатурка.
Лида, выглядывая меж перил, кто это спускается, медленно поднималась на второй этаж.
– Здрастье вам! Солнце светит. Мир поёт… Это ж… Лидуся, ты ли это? – дядя Витя ускорил шаг, но грузное тело сопротивлялось, и он остановился. – Это ж сколько лет тебя не видел… К отцу?
– Здрастье, дядь Вить! – Лида, с трудом узнав располневшего соседа, обрадовалась, скользнула к нему на ступеньку. – Я к отцу, да. Как вы поживаете?
– Я-то? Да… нормально. Вишь, вон жирный какой стал. Всё думаю, когда дом подо мной провалится, – добрая улыбка, та самая, из Лидиного детства, озарила лицо мужчины. – Ты-то как? Зашла бы на чаёк, а?
– Так заходите к… – Лида осеклась и, не подобрав нужного слова, выдавила: – …нам. Вы ж с отцом не разлей вода были.
Дядя Витя мотнул головой, кривовато осклабился и тихо, будто охраняя военную тайну, продекламировал:
– Были да сплыли! Нет у меня больше гривастого приятеля. Он, как женился, совсем с катушек слетел, молодожён хренов… Ничего, что я так безалаберно про батяню твоего?
Лида, поднявшись на ступеньку выше, чтобы быть вровень с соседом, ответила тем же тоном и с теми же нотками в голосе:
– Ничего, дядя Витя, нормально всё. Я, видать, не зря свалила отсюда, инстинкт самосохранения сработал.
– Не зря, не зря, – сосед насупил брови, – да только не попрощалась ни с кем… Особенно со мной… И завыкала к тому же… Ты это брось! Давай, как раньше, на «ты»!
В этот момент он стал похож на маленького обиженного ребёнка, у которого отняли любимую игрушку.
– Ты это… Заходи, как нагостишься у батяни. Я в магазин и обратно… Дома буду…
Ей захотелось броситься к нему на шею, уткнуться носом в плечо, взахлёб рассказать о том, как много он значил для неё в детстве и юности, но не смогла. Самые нужные слова встали в горле комом, и она, поспешно нашарив визитку в сумке и сунув её дяде Вите, выдавила лишь «хорошо» и пошагала к знакомой двери на втором этаже.
Хорошо. Что, чёрт возьми, хорошо? Что? То, что, надев вместо любимой дорогой шубы обычную куртку-пуховик неприметного цвета, она теперь не выглядит, как идиотка, перед облезлой, крашеной половой краской дверью? То, что докатилась она сюда на трамвае цвета этой самой двери вместо того, чтобы сесть в свою машину и гордо продемонстрировать её отцу? То, что созданное ею настоящее отрезано от прошлого высоченными стенами с колючкой под напряжением? То, что сейчас надо протиснуть руку сквозь эту колючку, чтобы надавить на кнопку звонка? Боже, где четырнадцать лет вылепливания себя, где сотни часов, проведённых с клиентами, ищущими поддержки в словах, что она бережно хранит в себе, но не умеет применить, когда дело касается её лично?
Пенопласт в голове разыгрался, и Лида почти не слышала трели звонка. Дверь открыла женщина, в которой она с трудом узнала невесту отца. Они смотрели друг на друга через порог равнодушно, беспристрастно, холодно. Одна – стройная, ухоженная, с точёными чертами лица, вторая – с вываливающимися боками из обтягивающих джинсов, выпирающим сквозь футболку животом и лицом в мелкую сетку морщин. Между ними лежал коврик с выцветшей надписью «Welcome».
– Добрый день, – поздоровалась Лида и зачем-то спросила: – А отец дома?
– Ну, а где же ему ещё-то быть? Договаривалися ведь, – растягивая гласные, баском ответила хозяйка дома и посторонилась, пропуская гостью внутрь. – Львуся! Лида приехала, встречай!
– Иду, иду, почти бегу! – из большой комнаты появился отец, на ходу застёгивая верхнюю пуговицу светло-голубой, видавшей виды, но опрятной, рубашки. Он, как и этот дом, и квартира, и даже дверь, мало изменился. Близоруко прищуренный левый глаз, своеобразная подбочённость, лёгкая сутуловатость и одутловатость. Новым, броским и непривычным для Лиды, оказались седина на редких, когда-то русых и густых, волосах и опутавшие, словно неводом, лицо морщины.
– Ну, здравствуй, дочь, – он чуть подался вперёд, не понимая, что дальше делать – обнять, или просто дать руку, или выдать распростёртый жест, мол, проходи.
– Здравствуй, папа, – Лида перешагнула блёклое «Welcome», распластала руки в стороны, чтобы обнять отца, но между ними, торя себе дорогу, втиснулась его супружница.
– Давайте уже к столу, водка стынет, – она осклабила маленький рот в улыбке, сверкнула смородиновыми глазками, один из которых чуть косил и казался больше, шмыгнула мясистым носом, нависшим над накрашенными ярко-красной помадой губами, и продефилировала по коридору в кухню, откуда доносились запахи запечённой курицы.
Лида не смогла сходу вспомнить, как зовут жену отца, но память подкинула картинку, как она выглядела на свадьбе. Невысокого роста, приятно полноватая, с вьющимися ниже плеч высветленными волосами и только-только появившейся от употребления алкоголя обрюзглостью. До официальной женитьбы она казалась скромной и обходительной, появляясь в их доме, пекла что-нибудь вкусненькое, ночевать не оставалась. Но так длилось недолго – после пары месяцев встреч отношения были узаконены.
На второй день разгульного веселья по поводу бракосочетания отца Лида узнала много интересных вещей. За столом, в той самой комнате, порог которой предстояло перешагнуть, отец во всеуслышание объявил, что жить они будут здесь и что в доме появилась новая, настоящая, хозяйка. Он торжественно вручил сияющей жене ключи от квартиры и… документы о наследовании его доли имущества. Из напыщенной отцовой речи Лида узнала, что у неё теперь есть мама, что они наконец-то семья! Дядя Витя, приятель отца многолетней давности, дважды свидетель на свадьбах и сосед по совместительству, покрутив пальцем у виска, опрометчиво высказал мысль, что глупо «такой большой девочке навязывать мать и ещё глупее переписывать имущество, лишая дочь наследства, да и вообще, никто не знает, как жизнь сложится». За эти крамольные речи дядю Витю дисквалифицировали как приятеля, низвергли как свидетеля и по-соседски выдворили на его законный третий этаж.
Улучив момент, Лида тоже попыталась поговорить с отцом по поводу их дальнейшего совместного проживания, но разговор не получился, зато скандал назрел капитальный. Зловеще выплеснув под зорким взглядом жены «потом поговорим», он гордо прошествовал в «залу». Пока хозяева дружно напивались вместе с гостями, неразумная дочь заперлась в своей малюсенькой комнатке, наревелась до спазмов в животе, потом позвонила Юлечке, бывшей сокурснице по универу и на тот момент коллеге по работе, собрала самое необходимое и незаметно выскользнула из квартиры.
***
– Проходи, дочь, проходи, – Лев заволновался, и волнение это проглядывало в беспорядочных движениях, излишних шарканьях, дрожащем голосе. – Это ж сколько мы не виделись с тобой, а?
– Долго, папа, не виделись. Четырнадцать лет, – констатировала факт Лида, оглядывая комнату.
– И сколько тебе уже годочков? Никак сорок с изрядным хвостом? – невысокого роста, окатый, в меру упитанный, он всплеснул руками, разглядывая Лиду выцветшими глазками как бы исподтишка. – А мне вот всего семьдесят три. Хорошо сохранился?
Лев поворотился перед дочерью одним боком, потом другим. Ладно сидящие джинсы, аккуратно вправленная рубашка, без излишних трещин ремень выдавали в отце былую аккуратность, да и весь вид квартиры, несмотря на отсутствие новизны, говорил о приверженности почти идеальному порядку. Лида слегка улыбнулась, вспомнив, как в их совместное бытование тяга к спиртному никогда не мешала ему блюсти в доме строгий порядок. Она уже не могла сказать наверняка, пил отец при жизни с матерью или нет, но точно помнила, как мать, собирая вещи, ставила отцу в укор его «домашний перфекционизм».
– Да, за это время много чего изменилось, но ты, папа, не изменился, – не моргнув глазом ответила Лида так, как ждал от неё отец, – да и здесь почти всё по-прежнему.
– По-прежнему, да не по-прежнему! Диван обновили, ремонт кое-где сделали. Загляни в свою… – небольшая заминка по поводу принадлежности комнаты прервалась баском настоящей хозяйки квартиры, явившейся с блюдом, на котором дымилась курица, запечённая целиком:
– Каку таку свою? Давно уже нашу! Спальня там у нас. Спасибо, хоть записку оставила, а то б и не знали, что делать. «Поживу у Юлечки»… – дразнящий тон хозяйки не зацепил. – Телефон вечно не абонент, звони – не дозвонишься. Да, кстати, вещички твои в кладовке, место занимают. Забрать бы их, а то Львусенька не даёт выбрасывать, всё ждёт, что ты вернёшься… Ждунчик махровенький.
От «ждунчика» Лиду скривило. Жена же отца, по-хозяйски сморщив нос, зажмурилась и сложила губы в замысловатую фигуру, обозначавшую поцелуй. Лев предостерегающе поднял руку, но… затем ловко перехватил поднос и водрузил его посреди стола, возле с запотевшей бутылкой водки, успокаивая:
– Не кипятись ты, Мусенька! Ни к чему сейчас-то… – Лида вспомнила имя и нелепое, по-зверушачьи звучащее «Львусенька и Мусенька», но Лев уже переключился на дочь и не дал додумать: – Давай-ка, гостья дорогая, усаживайся, где удобнее, будем разговоры разговаривать.
Лида не знала, где ей будет удобнее, и потому села ближе к выходу, лицом к пышущему цветами окну. У неё не было сомнений, что этот цветник – дело рук отца, и, наверное, в её бывшей комнате, где она прожила тридцать лет, тоже всё цвело и благоухало, но желания туда зайти не возникло. Она понимала, что это уже другая комната, другая энергетика, даже другой пейзаж за окном, голый, без огромного, упирающегося в окно ветвями старого тополя, в очертаниях которого по ночам она часто угадывала разных животных. А ещё по нему мальчишки залезали, чтобы заглянуть в её окошко, а после с топотом и шумом спрыгивали на асфальт, тут и там вспоротый корнями пожившего вволю дерева. Она только сейчас поняла, что возле подъезда, вместо необхватного великана, ронявшего летом груды пуха во двор, стоял высокий потрескавшийся пень, облепленный со всех сторон молодыми побегами, вразброс торчащими из-под постоянно кем-то скидываемой шапки снега.
Гостья обвела взглядом комнату. Тёмно-синие грубоватые шторы были не из её жизни – раньше здесь висели более светлые, только тюль остался тот же, лёгкий, мелкой полоской спадающий вниз. Потом заострила внимание на старом, ещё советских времён, серванте, в котором по-прежнему стоял японский чайный сервиз тонкой работы, остатки бокалов нежного чешского хрусталя и симпатичного рисунка столовый набор, купленный мамой. Всё это выглядело незыблемо и придавало уверенности, но был один нюанс: среди чайных пар и тарелок затесались безвкусные безделицы в виде ангелов с топорными лицами и претензионных слоников и черепах, несущих на себе горы злата и серебра, но верхом внутреннего возмущения Лиды стала кукла со слащавым лицом и безумными глазами. Простоту и изящество предметов, наполнявших полки серванта, съела безвкусица и пошлость. Лида мелко вздохнула, перевела взгляд на отца и, увидев его довольство, успокоилась. В конце концов, это уже не её дом.
Маруся, перестав хлопотать, уселась напротив мужа. Она придавала особое значение визиту гостьи и горела желанием скорее поставить её на место. Лида до сих пор была отчасти хозяйкой этой жилплощади, имея в собственности половину, и этот факт не давал Марусе покоя, вызывая видения неблагополучного будущего. Мучаясь вопросом, что же будет после смерти Льва Константиновича, она не раз рисовала в воображении жизнь без него, и каждый раз мутной пеной всплывал делёж квартиры. А делить тут было нечего – старый дом, потрёпанный временем, вряд ли будет пользоваться спросом. Оставалось надеяться, что его однажды определят под снос, и она всё-таки станет единоличной хозяйкой собственной жилой площади.
Несмотря на то, что с дочерью Льва Маруся равнялась годами, она чувствовала свою ветхость в сравнении с ней. Пряча восхищение и зависть, женщина с тревогой смотрела на её ангельское точёное лицо и стройную фигуру. Ей было невдомёк, как разговаривать с этой, будто сошедшей с картинки, особой, и внутри зрела злость, оплетая душу и вынося мозг, строящий блицкриги по захвату территории.
– Ну, что сидим, носы повесили? Налегаем! Давайте салатиков, горяченького, и выпьем за долгожданную встречу живительной влаги, – Муся налила сначала мужу, всем видом показывая уважение и почёт, потом плеснула гостье и медленно, глядя на льющуюся жидкость, нацедила себе.
– Спасибо, я… не пью… – Лида отставила в сторону рюмку и неуверенно положила себе салат. Аппетита не было, как не было и желания продолжать встречу, грозящую обернуться попойкой. – Я ехала пообщаться, поговорить, узнать, как у тебя дела, папа, как здоровье… Счастлив ли ты…
Весенний ветер распахнул форточку на старой деревянной раме, ловко закадрил лёгкие полупрозрачные шторы и замер возле стола. Лев смутился, раскраснелся, как мальчишка, всплеснул руками, утихомирив набежавшую от последней фразы слезу. Маруся, сморщив лицо, ехидно усмехнулась, смородиновые бусины глаз блеснули, потемнели, рот искривился, и посыпались слова, распиленные на мелкие в занозах щепки:
– Ты что, и отца не уважишь? Одну-то можно было и выпить без бахвальства. Не пьёт она, кочевряжится! А мы, думаешь, пьём? – она выдержала паузу, ожидая, что Лида вступит в разговор, и не обращая внимания на побелевшего от испуга мужа. – Праздник у нас сегодня, ты приехала. Вот, как могли, старалися… а ты нос воротишь, посуду от себя двигаешь. Не пьёт она!
– Муся, ну что ты завелась, – Лев изо всех силёнок сглаживал назревающую бурю, – давай тихохонько, по-семейному посидим, поговорим. Ну, не пьёт человек, и что? Она, может, и мясо не ест и в бога верит. Что теперь-то? Мы ж ничего о ней не знаем, Муся.
– А она? Разве она что-то о нас знает? Ладно я… Чёрт с этим! А ты? Родной отец! И четырнадцать лет ни слуху, ни духу! – Маруся с силой воткнула нож в остывающую курицу, залпом влила в себя водку и вошла в раж: – Если с тобой что-то случится, где я её найду? И живёт невесть где, и телефон не абонент. А потом меня же и обвинит, что не сообщила о…
Осёкшись на слове «смерть», Маруся налила себе ещё водки, чокнулась с бутылкой и лихо замахнула вторую.
– А что со мной случится? – встревожился Лев. – Я здоров, чувствую себя отлично, а если болею, то только с похмелья. Не понимаю, куда ты клонишь… Давай просто посидим, поговорим с человеком. Не зря ж она ехала.
– Да не развалится, что приехала, хоть зря, хоть не зря. Ишь краля какая! Пусть посмотрит, как мы туточки живём, в наших хоромах, – Маруся говорила, вытягивая губы и зло щуря глазки. Заметив пустую тарелку Льва, она подскочила, резанула по курице и закинула ему кусок с золотистой корочкой, смачно полив соусом. – Что-то ты ничего не ешь, дорогой. Давай-ка налегай!
Гнев по отношению к Лиде сменился на суровую милость к мужу. Выплеснув всё из себя, Маруся тяжело присела на стул, облокотилась и уставилась, не моргая, на Львусю. Лида сидела притихшая. Её не столько задели слова этой женщины, сколько то, как они говорили в её присутствии! Словно её не было здесь, словно она была невидимым застывшим возле стола ветром, или размазанным по тарелке отца соусом для курицы, или безжалостно вырубленным тополем. Захотелось домой, в пространство простых и строгих линий, в умеренность цвета и некрикливость тонов.
Наполовину отшельническая жизнь сказывалась, и теперь нужно думать, как выйти из ситуации достойно. В теории, которую Лидия Ивановна читала множество раз, всё было гладко, но как самой применить её на практике? Главное, включить голову, убрать эмоции, устранить вибрации голоса. Да, ещё жесты – невербальная часть любого общения играет огромную роль. Лида расцепила пальцы, положила вспотевшие ладони на стол, отлипла от спинки стула, максимально выправив осанку, чуть выдвинула вперёд левую ногу и спокойно сказала:
– Благодарю вас за проявленное ко мне уважение, за шикарный стол, за изумительный салат. Маруся, ты всегда вкусно готовила. Спасибо, папа, что откликнулся на мою просьбу о встрече. Мне было достаточно сложно сделать этот шаг, но я рада тебя видеть. Очень рада. Рада, что ты здоров, оставайся таким подольше. Мы ещё увидимся, я позвоню, обязательно позвоню, а сейчас – разрешите откланяться.
Не дожидаясь ответа, Лида встала и вышла в коридор. Запахнувшись в дурацкий пуховик, она взяла сумку и, вспомнив, что у неё для отца есть подарок, достала светло-голубую рубашку и положила её на тумбу перед зеркалом. Светло-голубой – любимый цвет отца.
Из комнаты пришуршали голоса. Сначала – недоумённый женский, потом – уставший мужской:
– Это она с нами, типа, как с дураками, разговаривает?
– Дочь… Боже, как она изменилась…
Лида вышла, бесшумно прикрыв за собой дверь. Над цветами в комнате нежно звянькнуло стекло – форточка захлопнулась. На улице разыгрался ветер. Неуклюжая гостья, подставляя лицо воздушным порывам, остановилась у тополиного пня, посмотрела вверх, на второй этаж, где новеньким стеклопакетом сияло окно её бывшей комнаты – следы койгдешнего ремонта. Лида думала, что ничего не ждала от встречи с отцом, но сейчас, чувствуя себя обманутым ребёнком, понимала – ожидания не оправдались, а это значит, что ждала. Ждала многого. От нахлынувшей жалости к отцу вкупе с диким желанием спрятать его от ужасной женщины на глаза навернулись слёзы. Помимо этого, в желудке неприятно вызревало чувство, что каждое сказанное Марусей слово – правда. Мысли смурно ворочались в голове, натыкались друг на друга, переворачивались, уплотнялись, нависали, заволакивали выпестованное нутро.
С севера, там, где Восточный обход врезается в Соликамский тракт, шли тяжёлые тучи. Над не видимой отсюда Камой, южнее, зависло обласканное облаками солнце, готовое вот-вот нырнуть в горизонт и спрятаться от неумолимо надвигающейся метели. Часть города, называемая Мотовилихой, резко посерела, поблёкла, выцвела. Лишь ярко крашеные трамваи, отстукивая особый ритм, сообщали о том, что город жив.
Глава 2. Есть ли в браке изъяны?
***
– Как же так, Муся, как же так? – горестно вздыхал Лев, впихивая в себя салат и остатки куска курицы, при этом чуть ли не ежесекундно вытирая рот салфеткой. Аппетит бесследно испарился, но недоедать было признаком дурного тона в их доме, а тщательно вылизанная тарелка, напротив, могла сослужить добрую службу, и перед сном царю всея хором светила рюмочка-другая охлаждённого волшебного сорокаградусного напитка. – Как же так? Она дочь моя. А мы… мы сами наговорили ей тогда лишнего… Мне, может, много лет это не даёт покоя. Ведь тогда в магазине она могла пройти мимо – я ж её и не узнал! Но она подошла ко мне! Заговорила, предложила встретиться…
– Ой, какие меркантельности и сантаментальности! – Маруся бойко вознесла поднос с расхристанной курицей над столом одной рукой, а второй прихватила салат. Она прекрасно знала, что напыщенный претензионный тон мужа неизменно преобразуется в плаксивый.
– Я, может, разобраться хотел, понять… – он швыркнул носом и потянулся к бутылке.
– Может, разобрался, тристопуздик мой стоеросовый? А теперь собирайся и дуй за сигаретами, у меня последняя осталась, с конца на конец, себе на вечер прихватишь фанфурик, – приказала настоящая хозяйка и прошествовала в кухню, радуясь, что курицы осталось много и завтра не придётся готовить.
Лев любил её способность изворачивать слова. Каламбуры поднимали настроение, вызывали улыбку или даже смех. Когда-то давно, почти в прошлой жизни, будучи в компании таких же любителей выпить, как и он сам, Лев обратил внимание на её бойко подвешенный язычок, смородиновые огромные глаза и ладную женскую фигуру.
До сих пор он думал, что любит её способность каламбурить, но сейчас его словно обухом по голове ударили! Ничего нового не вылетало из Мусиных уст уже давно. Все её шуточки были оприходованы, изъедены и замусолены. Неделю назад, когда он в очередной раз бегал ей за сигаретами, он слышал примерно то же самое. Как в кино, промелькнуло: вот он разобрал для починки утюг; вот она говорит, мол, разобрал (ся), а теперь собирайся; вот он смеётся, бросив «починять примус», и послушно одевается, втискиваясь в старенькую куртку, а она, скалясь в улыбке, подталкивает его к двери, и он молодо выплясывает по лестнице – вниз, вниз, вниз!
Рука зависла над столом, дрогнула и в бессилии опустилась. Из желудка поднялся протест, захотелось блевать – настолько омерзительным показалось ему, пожилому уже человеку, сие действие. В голове переключился невидимый тумблер, и над Львом грозным оскалом вдруг нависла его-её любимая меркантельность, и он воочию увидел своё дряхлеющее, мерцающее, каркающее тело, над которым скучился Санта ментальный с выпуклостью в центре лба. Корявая, скрюченная картинка, напомнившая излюбленные когда-то кривые зеркала, вышагнула из сознания, язвительно вползла на стену, а оттуда перебралась на потолок, приковывая к себе застывший взгляд мужчины.
***
Маруся не дождалась сигарет, зато дождалась инсульта далеко не молодого мужа. Льва Константиновича, чьё здоровье до этого дня было отменным (ну, разве что похмелье), увезли в больницу. Врач со скорой, сокрушённо качая головой, говорил о том, что случай тяжёлый. В приёмном покое подтвердили. Больного, находящегося без сознания, определили в реанимацию. Маруся, беспрестанно рассказывая врачам о том, что это дочь явилась и довела Лёвушку до такого состояния, нервничала. И было от чего. Инсульт или инфаркт благоверного грезились ей после того, как решится квартирный вопрос с Лидой, надавить на совесть которой так и не получилось.
Вернувшись домой, Маруся долго бродила по «всем двум» комнатам, не включая электричество. Мысль позвонить Лиде была низвергнута, как недоношенная. Что она ей скажет? Да и не обязана она ничего говорить. Пусть сама звонит, если надо. Кралюля-красотуля! Ишь какая… Маруся подошла к зеркалу, включила свет, хлопнула себя по растёкшимся бокам, помяла щеки, приподняла веки, взглянула на обкусанные ногти, выключила свет. Так-то лучше.
За окном грохотал, устанавливая свои порядки, март, он наворачивал серую промокшую вату на провода и антенны, деревья и кусты, разухабисто перебивал и без того тусклый лимонно-жёлтый фонарный свет, что неброско сочился сквозь задёрнутые шторы, не дурно сшитые Марусей из плотной синей материи. Этот свет, неяркий, смущённый, скользкий, обволакивал, но не дарил спокойствия.
Человек не всегда понимает причины случившегося с ним, но ещё чаще – он ищет причины вне собственной персоны, отделяя искусственно себя от мира и обезопашивая своё эго от чувства вины. Своя рубашка, всегда более близкая к телу, совместно с крайней в ряду знаний хатой творит чудеса непроходимой глупости, и никакой учёный кот не способен образумить неразумное существо, где бы оно ни находилось: на ветвях или в сугробах, в тридевятом царстве или в реальном, издёрганном суетой, мире, поглощённом беспросветно-снежной бурей.
Однажды обретя долгожданную крышу над головой, Маруся замкнулась в тесном двухкомнатном мирке и потеряла почти все связи с внешним миром. Лев Константинович или, как она его полушутя называла, Львуся устраивал её во всём. Он не спрашивал о прошлом, не спорил, был обходителен, беспринципен, в меру болтлив, в любую погоду приносил ей сигареты, и ради этого она готова была терпеть его плаксивый тон и несносное «Муся» в свой адрес.
Когда Лев смущённо рассказал о случайной встрече с дочерью в магазине и о том, что он пригласил её в гости, Маруся взбесилась, но вскоре перестала кипятиться, обдумала возможности и сменила гнев на милость. Она ждала этой встречи в надежде, что совесть сбежавшей падчерицы, не пожелавшей называть её мамой, проснётся, и можно будет квадратные метры старой квартиры в полуживом доме назвать полностью своими. Она не сомневалась, что Лев так же, как и свою площадь, отпишет их ей, законной жене. На этом бабья мысль не остановилась, и в голове созревали картины, как Льва хватил инсульт или стукнул инфаркт и как она, по паспорту Мария Александровна с некоторых пор Лузгинова, когда-то бездомная, обитавшая где и как придётся, будет жить да поживать здесь, занимая обе комнаты. Она ценила выпавший в жизни шанс больше всего, и соседи ей были не нужны, как, впрочем, и Лев. И даже его повышенная «вредная» пенсия, обросшая всевозможными добавками, не решала круговорота мыслей о жилплощади. Женщина она ещё достаточно молодая – вполне может найти себе работу и перестать околачивать диван.
***
Виктор слышал, как завывала сирена скорой помощи сквозь метельные надрывы, как стучали по подъезду сапоги примчавшихся айболитов, как хлопали двери. Он видел, как увозили его давнишнего друга-приятеля, с которым они вместе исколесили много чего на этом свете, но которого он проглядел. Сначала проглядел, как разрушилась первая, весёлая и дружная, семья, потом – как возникла новая, смешная и нелепая.
В окно он не увидел миниатюрной фигуры Лиды, зато отлично узрел, как садилась в скорую вслед за впихнутыми носилками Муся.
На плите десятый раз закипал чайник, десятый раз Виктор наливал себе кипяток и не выпивал, тревожно вслушиваясь в шаги на лестничной клетке. В какой-то момент он задремал в кресле возле окна, убаюканный фонарным, испещрённым недолговечным полётом снежинок, светом, и даже успел увидеть сон, как они с Лёвкой, оба молодые, красивые и горластые, орали серенады под Танькиным окном; из соседних окон высовывались соседи, угомоняя непутёвых парней, а кто-то даже крикнул Таньке: «Да выйди ты уже за них замуж! Надоели, ночь-через ночь шляются!», и Танька вышла, но не за обоих, а за речистого Лёвку.
Виктор со вздохом пришёл в себя, отогнал неугомонное прошлое. На кухне в очередной раз надрывался чайник, гремя крышкой и выпуская клубы пара. Виктор тяжеловесно протопал в кухню, выключил газ, налил себе кипяток, плеснул заварки и вслушался в тишину. Ничего…
Терзаемый вопросом, как там, внизу, дела, он осторожно открыл дверь на полуосвещённую площадку и ещё раз вслушался в мёртвые звуки. Ничего. Аккуратно ступая, Виктор, с кипятком в руках, спустился этажом ниже и замер перед дверью старого друга. Звонить он не решался, а потому снова стал слушать зловещую тишину. Ничего… Ни единого звука. Грудь раздирали сомнения, любопытство, смятение и ещё чёрт знает что. Дышать тихо было невыносимо, как, впрочем, и стоять неподвижно. Вспомнился сон, как орали песни. Рука дёрнулась, Виктор плеснул на пузо кипяток и чертыхнулся. Получилось на весь подъезд, смачно. Отлепляя от себя мокрую рубашку, он услышал, как изнутри отомкнули замок. Всё замерло. И время тоже. Старая крашеная кирпичной краской дверь отворилась, и на пороге показался силуэт Маруси с прищуренными глазками.
Глаза недобро смотрели из тёмного чрева квартиры с тонкошеим коридором, потонувшим во мраке. Виктор обеими руками прижал к себе горячую кружку и, как нашкодивший пацан, смотрел на «настоящую хозяйку».
– Я тут это… Солнце све… – начал он устоявшееся годами приветствие, но Маруся оборвала:
– Ага, мимо проходил, да наследить не забыл. Чё надо?
– Видел, как скорая приезжала, хотел узнать, всё ли нормально, – пытался владеть голосом незадачливый сосед, отодвигая от себя горячую кружку.
– Здрасьте на счастье! Четырнадцать лет не хотел, а тут захотел! А хотелка-то не отвалится, нет?
Муся смотрела на Виктора, как на врага всех времён и народов. Глаза её уже привыкли к свету, и она не щурилась. В полумраке подъезда её косоглазие казалось нелепым, словно кто-то обронил случайно пару ягод смородины да так и не подобрал, а ягодки, в разные стороны покатившись, застряли в выемках одутловатого лица. Виктор, нарисовав себе такую объёмную картину, отхлебнул чай. Осмелел.
– И тебе, Муся, солнце светит, мир поёт. Довожу до сведения, что всё моё при мне останется, – он сделал ещё один глоток. – Лучше скажи, что с Лёвой?
Ягодки прятались, медленно закатываясь в щели, и в их остатках концентрировалась злость.
– Не смей меня Мусей называть! Бесит это имя! От Льва ещё как-то терплю, но от тебя…
– Как знал, что не понравится, – Виктор смачно отхлебнул из огромной кружки, втягиваясь в привычный для него сарказмизм, – а Львусе так сразу понравилось имечко. Кстати, а ему Львуся нравится?
Маруся насторожилась, выкатила глаза на всякий случай обратно. Виктор продолжил, глядя прямо в смородины:
– Помнишь, когда мы познакомились, вы тогда в баре сидели, тут, недалеко, а я, узнав твоё имя, назвал тебя Мусей. Ты пьяная тогда была, но зыркнула на меня не приведи господь! Не понравилось тебе имечко, а Льву понравилось, он и пристрастился к нему. Я потом, когда он жениться удумал, в сердцах его Львусей обозвал… – Виктор оборвал свою речь, вгляделся в лицо женщины, чужой, холодной, как трамвайные рельсы зимой. Он давно мечтал высказать ей всё, что думает, много раз прокручивал в голове, как это будет, сотни раз мысленно спускался к ним в квартиру и устраивал разнос, причём, Льву доставалось тоже, но каждый раз мысли его запинались о счастье лучшего друга, долгое время горько переживавшего побег Таньки с каким-то хмырём из-за кордона. И сейчас, когда он окончательно понял, что Льва нет дома, что он в больнице или… (нет, без или!) … заготовленная речь хлынула из него: – А ведь как верно я вас тогда назвал: Львуся и Муся… Детки в клетке, да и только! Вы ж заперлись в этой квартире, на все засовы от всех закрылись, Лидку выжили. Сидите, пьёте потихонечку. На чьи деньги? Ты хоть день работала, как замуж вышла? Ты вообще хоть день работала в своей жизни? Что замолчала, зенки пялишь? Лёвка, он же компанейский был, его ж везде любили! А работяга какой, а? Мы ж во вредных цехах вместе с ним здоровье сливали во благо государства. А ты? Ввинтилась в его жизнь, а теперь, небось, спишь и видишь, как он сдохнет?
Виктор раздухарился. Из двери напротив выглянула сухонькая соседка, тётя Маша, за которой они, будучи пацанами, подглядывали в окно, оседлав могучие ветки тополя, а потом рассказывали о прелестях юной красотки таким же, как они, сорвиголовам. Даже было, что они продавали билеты на самую удобную ветку, но их быстро низвергли, ибо коллективно посчитали дерево, растущее во дворе, достоянием народа. Они ещё протирали парты, а красотка Машка успела выйти замуж, уехать восвояси и геройски вернуться под отчее начало. Много тогда приняла она на себя осуждений и нравоучений; через какое-то время родила, ребёночек долго не прожил, и весь двор, как раньше Машку хаял, начал жалеть. Лет через пять она схоронила и родителей и осталась на всю жизнь одна как перст. Виктор уважал тётю Машу, хаживал к ней на чай с вареньем и плюшками, рассказывал о былом, иногда жаловался на мифическую несправедливость, в ответ слушал и её льющиеся бесконечной рекой байки: что-что, а это тётя Маша умела!
– Тёть Маш, прости великодушно! Наболело. Ей-богу, наболело! Четырнадцать лет ждал этого дня… Ночи… Дождался… Но ведь как дождался? Лёвы нет, его увезли. Куда увезли? Почему увезли? Никто не говорит, – он умолк, с надеждой глядя на свою вечную собеседницу, спасшую его лет десять назад от огульного пьянства и сохранившую ему остатки бренного здоровья. Маруся торчала в дверях. Она не любила соседку, побаивалась её, вечно строгую и прямую, будто насаженную на кол. Смородиновые глазки теперь стянулись к переносице и смотрели в пол. Нет, Маруся могла кого угодно поставить на место, выставить с места и даже переставить на другое, но здесь её способности терпели фиаско.
Тётя Маша молча посмотрела на Виктора, на Марусю, покачала головой и закрыла дверь. Едва слышно, как и открылся чуть ранее, щёлкнул замок. В подъезде воцарилась тишина. На дне кружки застыла чайная жидкость, в дверях застыла Мария по паспорту Александровна, в глазах Виктора с говорящей фамилией Берген застыл вопрос. Стало слышно, как утихала метель. Сквозь мутные стылые окна подъезда было видно, что идёт обильный медленный снег.
Виктор развернулся и побрёл на свой третий, тяжело поднимая со ступени на ступень ноги. При каждом шаге в кружке неудовлетворённо подбулькивала жидкость. Он чувствовал на себе взгляд Маруси, но более продолжать эту вакханалию не мог. Тело ослабло, настойчиво прося покоя. Вдруг около уха что-то прожужжало и в голову вонзилось:
– Он в реанимации. На Городских горках. Инсульт.
Закрылась ещё одна дверь, громко проскрипел замок. Виктор, весь взмокший, остановился перед входом в квартиру, по его щекам потекли слёзы. Слёзы по собственной нереализованной жизни, в которой не было ни любимой женщины, ни детей, ни друзей. Он так и не нашёл любимого дела, не положил свою жизнь на алтарь науки, хотя мог бы как самый преуспевающий в своё время студент-физик поступить в аспирантуру, защитить диссертацию, учить студентов, но выбрал другой путь, путь заводского трудяги, вкалывающего без продыху, а потом также, без продыху, пропивающего заработанное непосильным трудом. Он доработал до мастера и мог бы стать начальником цеха и даже, может быть, директором завода, но друзья и вольготные похождения были дороже, а время дешевле. И слишком поздно сменились приоритеты.
Он долго вглядывался сквозь остатки чая в дно кружки, словно пытался гадать на чайной гуще. Что там, за последним глотком остывающей жизни? Что останется здесь – после этого глотка? Обида вгрызалась во все части тела, жгла сердце и давила на глазные яблоки. И вдруг ему зримо стала видна причина этой обиды – Лида. Да, это она! Могла бы и зайти, и поболтать, но ведь – нет, ушла, просто взяла и ушла, не поднявшись к нему. Так же, как четырнадцать лет назад. А ведь он был больше, чем отец, – он был друг, к которому можно было прибежать с сияющими от любви глазами или со словами горести, прийти ночью с тортом или приползти поздним вечером после аборта. С ним, Виктором, она обсуждала всё! И говорила, что он для неё – больше, чем отец. Да если бы не он, промывающий ей мозги о её талантах, она никогда бы не поступила в аспирантуру! Узнать бы, как там у неё? Получилось ли? Хорошо бы получилось… Милая славная Лида, ангел с обрезанными крыльями…
